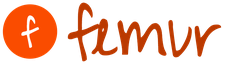Сергей довлатов - не только бродский. Сергей Довлатов
Пародийное предприятие Бродского – Сергей Довлатов
Сейчас я стал уже немолодой, и выяснилось, что ни Льва Толстого, ни Фолкнера из меня не вышло, хотя все, что я пишу, публикуется.
Сергей Довлатов
Для начала приведу слова из аннотации к очередной книге о Довлатове: «Сергей Довлатов умер в Нью-Йорке 15 лет назад. За прошедшие с тех пор годы довлатовские сборники массово изданы и прочитаны в России. Довлатова проходят в школе, специалисты по Довлатову – довлатоведы – продолжают выпускать о нем книги изучений и воспоминаний. В общем, Сергей Довлатов стал классиком. А превращение в классика, как известно, – путь к забвению. Правда, остались и вопросы: например, в чем состоит феномен Довлатова и был ли этот феномен вообще? У американского лирика Юрия Милославского на эти вопросы одни ответы. У петербургского критика Виктора Топорова – другие. И все они отличаются от канонических». Вот как – уже и канон есть!
Итак, упомянутый Юрий Милославский – не герой знаменитого исторического романа Загоскина о 1612 годе, а – харьковчанин, эмигрант с 1973 года, который работал на «Радио Свобода», печатал позднюю прозу в журнале «Континент», так написал о нью-йоркских земляках в эссе о Бродском и Довлатове: «Благодетелем Бродский был почти никудышным. Быть может, потому, что недурно разбираясь в механизмах, поддерживающих современное ему т. н. западное жизнеустройство, он все-таки оставался детищем иного мiра (мифа), где все то, что условно относится к понятию «благодеяние» (более известное как «помочь своему человеку»), витало в беззаконном тумане, в другой системе координат.
Как исконно-порядочный человек, Бродский знал, что надо по возможности оставаться другом своих друзей. Знал, что помогать следует землякам, школьным товарищам, их семьям, соседям, старинным знакомым как таковым, тем, которые когда-то знали его «еще во-от такусеньким», помнили его маму, папу, тем, в которых он любил «прошлое страданье и молодость погибшую свою», способным сочинителям, которые оказались в нелегком положении. Это был набор из арсенала простецов. Но самая возможность помогать появилась у Бродского лишь тогда, когда сам он вошел в некое привилегированное сословие, членам которого оказано доверие: у них есть право, – весьма, кстати, ограниченное, – предлагать своих кандидатов на раздачу благодеяний.
Право это предполагает политическую осторожность и политическую же мудрость. Всего этого у Бродского в ипостаси, например, «нью-йоркого элитарного интеллектуала» было в избытке. Но благодеяния-то он раздавал представителям нижнего господского слоя (я давно предпочитаю это исчерпывающее по свой точности определение, найденное мыслителем и педагогом С.Я. Рачинским – покрывающему слову «интеллигенция»), т. е. к российской/советской интеллигенции, да еще руководствуясь при этом бытовою нравственностью российского простеца. Поэтому почти всегда получалось скверно.
К середине 70-х годов прошлого столетия в Северо-Американских Соединенных Штатах под воздействием различных факторов, на характеристике которых мы останавливаться не станем, практически совершенно отказались от самопроизвольного, как иногда говорят, «качественного» движения направлений и, соответственно, вкусов в области изящных искусств и литературы. Помимо множества иных причин, возникшая к тому времени профессиональная art-индустрия по самой своей природе не могла бы действовать успешно в условиях переменчивости, каприза индивидуальных творческих достижений, борьбы групп и т. п. Таким образом была постепенно достигнута полная и абсолютная «рукотворность» литературного и/или художественного успеха, могущего быть выраженным в положительных (материальных) величинах.
В Отечестве этому явлению соответствуют новые значения существительного «раскрутка» и производные от него слова. Как никакой обычный проситель (обвиняемый, потерпевший) не в состоянии добиться, чтобы его дело – в чем бы оно ни состояло – было хотя бы выслушано судом, – не говоря уж об успехе такого слушания, – без посредства адвокатов, так и литературное или живописное произведение не может быть с пользою реализовано его создателем без посредства представителя art-индустрии. Положение это кажется нам только естественным; но как следствие его к середине 80-х годов во всей сфере творческого наступило господство злокачественного неразличения этой условной, относительной, договорной, но зато истинной, сравнительной ценности явлений и плодов искусства относительно друг друга. Все равнозначно, ничто не «лучше», потому что в безнадежных попытках определить, что же на самом-то деле «то», а что – «не то», в войне мнений экспертов захлебнулось бы налаженное торгово-промышленное предприятие, которое, не забудем, к тому же действует в пространстве идеологическом, где ошибаться в наше время не рекомендуется.
Это означает, что лучшим, наиболее качественным является в данный момент то, что art-индустрия по чьим-то заказам, выкладкам или собственным расчетам произвела, приобрела для последующей перепродажи и проч. И этим лучшим может быть все, что угодно. Абсолютно все.
Все, что угодно, может быть названо, – собственно, назначено, – живою классикою, Чеховым конца XX века, Пушкиным сегодня. (В 2003 году на Нобелевскую премию по литературе кандидатом от российских сочинителей был выдвинут некто К.А. Кедров. Вот образец его произведений: «Накал страстей достигает выси/я пьянею от страсти/а ты от мысли/В любви все до единого новички/если утонули в зрачках зрачки». Для того чтобы только быть выдвинутым на Нобелевку, следует заручиться солиднейшими знакомствами. Но для того чтобы от русской словесности могло быть выдвинуто это – необходима абсолютная власть злокачественного неразличения.)
Культура неразличения приводила Бродского в бешенство; он видел в ней личное оскорбление, бесчестье, хотя и прекрасно понимал, что именно ничего личного в культуре неразличения нет и быть не может. «Наказывал» он ее тем, что сам, пользуясь своими возможностями, назначал кого-нибудь «поэтом божией милостью» или «замечательным прозаиком». Кажется, единственным, доведенным до логического конца пародийным art-ин-дустриальным предприятием Бродского стал покойный журналист Сергей Донатович Довлатов.
Его трагикомическая посмертная литературная судьба в Российской Федерации нас не занимает. Она могла бы стать предметом исследования историков культуры – и рассмотрена в статье под названием «Ранние случаи проявления культуры неразличения в России» или что-нибудь в подобном же роде. Впрочем, скорее всего, «раскручивая» Довлатова, – надеялись доставить удовольствие Бродскому, тем более что «раскручиваемый» уже находился там, где от плода «раскрутки» вкусить невозможно.
Уверен, что Бродский искренне желал ему помочь. Довлатов был старый знакомый, земляк, его мама знала Бродского с юности и, говорят, любила до того, что начинала при виде его рыдать. Возможно, что материнские эти рыдания сыграли свою роль. Как видим, С.Д. Довлатов обладал всеми признаками человека, имеющего право на помощь Бродского. Единственным недостатком его было то, что писал он совсем плохо. Как сапожник, выражалась в сходных случаях М. В. Розанова. Т. е. это не так. Он писал не то чтобы плохо, но много хуже честного сапожника; он был газетный очеркист, усвоивший себе невозможную для литературы и ненужную в журналистике печально-снисходительную осклабленность интонации; при желании можно было разглядеть, что он хочет писать как Добычин; или как Хармс; как Шаламов; или как Федор Чирсков, – можно было, да кто ж это видел? кто следил? Довлатов вел различные журналистские проекты в Нью-Йорке, и немногие, кажется, подозревали о космичности его притязаний. Сочинения его вполне подошли бы для освобожденной 16-й страницы «Литературной газеты» времен Чаковского; но и там бы он далеко уступал Виктору Славкину.
Кое о чем можно было заподозрить, читая довлатовские записи о знаменитых писателях, с которыми он, вероятно, всегда был близок. В этих записях проявлялся некий болезненный дар, сложное живое чувство завистливой сопричастности. Знаменитый писатель и Довлатов на охоте. Писатель падает в колодец. Довлатов замечает, что упавший прежде всего закурил, – и резюмирует: такова была сила его характера. По-моему, это хорошо. Другой знаменитый писатель и Довлатов в бане. Довлатов, который в те дни увлекался Джоном Апдайком, рассказывает о своих увлечениях знаменитому писателю. Писатель поворачивается спиною к Довлатову и говорит: обдай-ка.
Шутки в сторону. Довлатов был человек неизлечимый. Я понял то исступление, до которого довела его неутоленная и неутолимая для него страсть – страсть не казаться, а быть настоящим сочинителем, – только по его письмам, с опрометчивою жестокостью опубликованным в последние годы. Бродский, разумеется, знал, каков настоящий уровень довлатовского сочинительства. Но дюжины и дюжины посторонних гадких людей, из тех, кто пишет уж никак не лучше Довлатова, на глазах Бродского сорвали свой куш, получили свое от art-индустрии, от культуры неразличения. И если это – может быть кто угодно, то тем паче это может быть Сергей Довлатов. Культуру неразличения надо бить ее же оружием.
К открытию международной писательской конференции Writers in Exile, организованной в исторической венской гостинице «Захер» (родине популярного торта «Пражский») издательским фондом Джорджа Вайденфельда Wheatland Foundation совместно с фондом Ann Getty, С. Д. Довлатов прибыл на личном самолете самой Энн Гетти (так он, по крайней мере, рассказывал). Помощь была оказана. Он был рекомендован и Вайденфельду, который, надо отдать ему должное, просьбу Бродского выполнил, аккуратно издав три книги рекомендованного автора. Последних двух Сергей Донатович не дождался.
На этом всемирном изгнанническом конгрессе 1987 года в Вене, прошедшем в дни, когда и ленивому было уже понятно, что профессиональным изгнанникам всей Восточной Евразии следовало бы подумать о перемене профессии, было по-настоящему смешно и поучительно. /…/ Довлатов, высокий и представительный ориентальный мужчина, волоокий, с волосами оттенком в черный перец с солью, неотвратимый погубитель белокурых секретарш, подошел ко мне первым, что было для него подвигом, тогда мною неоцененным («Иосиф говорил, что я вас здесь, вероятно, встречу»; он, видимо, счел, что я вскоре окажусь – или уже оказался – в числе новых друзей Иосифа и, как друг старый, решил меня принять без боя, раз уж все равно так получилось).
Робкий, как многие запойные, он пытался держаться со мною строго, но справедливо, с учетом своего места в иерархии изгнаннической литературы; а я его совершенно искренне не понимал, потому что места этого не знал и не представлял – что оно где-то означено. Тогда он стал задумчиво вздыхать; почти непрерывно именовал себя в третьем лице автором одиннадцати опубликованных книг. Я отвечал ему: «Ого!» – и все равно ничего не понимал.
На какой-то день конференции выяснилось, что сам Бродский в Вену не приедет, а Довлатов, отдавшись своей питейной слабости, наконец-то напугал меня так, что уж до самого разъезда я старался его избегать.
То и была первая моя встреча с Бродским. В гостиничном коридоре, среди всех этих захеровских штофных обоев, шпалер и картин маслом в золотых рамах рококо, Довлатов перегородил мне дорогу и странно-хриплым, горестным, восторженным, отчаянным голосом заговорил:
– Я его люблю. Я его знаю – и люблю. Знаю – но люблю. Я преклоняюсь перед ним. Я никакого другого человека… Никакому другому человеку… Никому, понимаете, ни-ко-му… И мама моя, как увидит его, начинает плакать. Рыдать. Это уже высшая степень любви, высшее выражение любви… И он меня любит, это же видно, когда тебя любят. Но, знаете, он… Ох, какой он может быть. Нет! Я не хочу сказать, что он может быть жестоким. Он – сама нежность, сама доброта, само благородство. Но он, знаете, он… Вот сейчас, недавно… Приехали – в первый раз за все эти годы! – в Нью-Йорк наши ребята из Питера. Что я могу для них сделать?! Пойдем к Иосифу!

В итальянской гостинице. Из архива Я. А. Гордина
Они все эти годы мечтали его увидеть, и он их, конечно, всех помнит. Звоню. Иосиф, мы с /…/ завтра у тебя. Да, отлично, жду, очень рад. Но я его знаю. И на всякий случай, за полчаса до того, как мы должны были с ребятами встретиться, перед самым выходом, звоню Иосифу. Ох, ты извини, я совсем забыл, у меня там делегация какая-то из Германии, ты ж понимаешь, старик, надо, я обещал. Давай часика через два. А ребята уже вышли, позвонить некуда. Я бегу, встречаю, как побитая собака! Ребята, такое дело, давайте погуляем немного. И я чувствую – они мне не верят! Они не верят, что я вообще с Иосифом говорил, что могу с ним запросто встретиться!! Гуляем-гуляем, страшный холод. Я опять звоню. Старик, прости. Погуляйте еще часик, ладно? – и мы гуляем. И я чувствую, что им стыдно смотреть на меня. И меня самого охватывает такой страшный стыд, становится так стыдно! И мы уже не смотрим друг на друга. И я вижу, что они уже ни на грош мне не верят. Проходит час. Я опять звоню. Старик, уже практически все. Давай так: погуляйте еще полчасика – и прямо, без звонка, заходите, хорошо? Конечно, Иосиф. И мы гуляем полчаса, заходим, он нас прекрасно принимает, все нормально, но я уже от стыда, от усталости как мертвый, но я все забываю, я же его люблю…
Довлатов захлебнулся, переглотнул – и с таинственным, леденящим вдохновением, произнес:
– Конечно, я ему желаю долгой жизни. Но, если он умрет, если его не станет, то я тогда о нем… напишу».
В сетевом журнале «Семь искусств» («Наука, культура, словесность» – главный редактор – Евгений Беркович из Ганновера) не так давно было опубликовано эссе «Иосиф Бродский и Сергей Довлатов» опубликовал Ефима Левертова: «Бродский очень хорошо относился к Довлатову, настолько хорошо, что некоторые завистники даже считали Довлатова “проектом Бродского”. Конечно, они были не правы, просто у них было совершенно разное отношение к написанному. Бродский играл гениальность и уверенность, в то время как Довлатов всегда был в чем-то не уверен. Когда по приезду в Америку Довлатов обратился к Бродскому, употребив слово “ты”, небожитель – Бродский немедленно отреагировал: “Мне кажется, что в Ленинграде мы были на “вы”. Если Довлатов собирался позвонить Бродскому, он некоторое время репетировал сценарий разговора, несколько раз подходил к телефону и отходил от него и, наконец решившись, часто играл этакую небрежность». Какая потрясающая и уничижительная деталь – репетировать разговор с «другом»!
Ну что ж, перейдем к автобиографической прозе вечно неуверенного Довлатова: «Я родился в не очень-то дружной семье. Посредственно учился в школе. Был отчислен из университета. Служил три года в лагерной охране. Писал рассказы, которые не мог опубликовать. Был вынужден покинуть родину. В Америке я так и не стал богатым или преуспевающим человеком. Мои дети неохотно говорят по-русски. Я неохотно говорю по-английски.
В моем родном Ленинграде построили дамбу. В моем любимом Таллине происходит непонятно что.
Жизнь коротка. Человек одинок. Надеюсь, все это достаточно грустно, чтобы я мог продолжать заниматься литературой…”
Напомним, что Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, в семье театрального режиссера Доната Исааковича Мечика (1909–1995) и литературного корректора Норы Сергеевны Довлатовой (1908–1999). С 1944 года жил в Ленинграде, но помнил о своих предках и решил запечатлеть их в прозе. Вышло плохо и неточно:
«Наш прадед Моисей был крестьянином из деревни Сухово. Еврей-крестьянин – сочетание, надо отметить, довольно редкое. На Дальнем Востоке такое случалось».
А.Б: И не только в такой дали – почитал бы о жизни евреев в местечках за чертой оседлости, да того же Шалома Алейхема… Довлатов начинает фантазировать, но скучно, обрывочно, невкусно, со стилистическими повторами:
«Сын его Исаак перебрался в город. То есть восстановил нормальный ход событий. Сначала он жил в Харбине, где и родился мой отец. Затем поселился на одной из центральных улиц Владивостока.
Сначала мой дед ремонтировал часы и всякую хозяйственную утварь. Потом занимался типографским делом. Был чем-то вроде метранпажа. А через два года приобрел закусочную на Светланке. Рядом помещалась винная лавка Замараева – «Нектар, бальзам». Дед мой частенько наведывался к Замараеву. Друзья выпивали и беседовали на философские темы. Потом шли закусывать к деду. Потом опять возвращались к Замараеву…
– Душевный ты мужик, – повторял Замараев, – хоть и еврей.
– Я только по отцу еврей, – говорил дед, – а по матери я нидерлан!
– Ишь ты! – одобрительно высказывался Замараев. Через год они выпили лавку и съели закусочную.
Престарелый Замараев уехал к сыновьям в Екатеринбург. А мой дед пошел на войну. Началась японская кампания.
На одном из армейских смотров его заметил государь. Росту дед был около семи футов. Он мог положить в рот целое яблоко. Усы его достигали погон.
Государь приблизился к деду. Затем, улыбаясь, ткнул его пальцем в грудь.
Деда сразу же перевели в гвардию. Он был там чуть ли не единственным семитом. Зачислили его в артиллерийскую батарею».
А.Б.: Да, Николай II был первым и единственным правителем великой страны, который пересек ее от Владивостока до Санкт-Петербурга по суше и воде. Но это было в 1890–1891 годах, когда прадед выпивал и закусывал. Так на каком смотру во время японской кампании мог увидеть Моисея Государь?
Такими правдивыми деталями и мелочами Довлатов пренебрегает и продолжает плести небылицы:
«Если лошади выбивались из сил, дед тащил по болоту орудие.
Как-то раз батарея участвовала в штурме. Мой дед побежал в атаку.
Орудийный расчет должен был поддержать атакующих. Но орудия молчали. Как выяснилось, спина моего деда заслонила неприятельские укрепления».
А.Б.: Что, со всех орудийных позиций наводящие не могли увидеть укрепления? Ведь это просто бред горячечный с обманом зрения!
«С фронта дед привез трехлинейную винтовку и несколько медалей. Вроде бы имелся даже Георгиевский крест».
А.Б.: Вроде? Да Георгиевский крест – награда за личный солдатский подвиг был ценнейшей наградой, вокруг него складывались семейные предания, которые передавались из поколения в поколение!
«Неделю он кутил. Потом устроился метрдотелем в заведение «Эдем». Как-то раз повздорил с нерасторопным официантом. Стал орать. Трахнул кулаком по столу. Кулак очутился в ящике письменного стола».
А.Б.: Какой письменный стол в ресторане? И почему часовщика, лавочника взяли метрдотелем?
«Беспорядков мой дед не любил. Поэтому и к революции отнесся негативно. Более того, даже несколько замедлил ее ход. Дело было так. Народные массы с окраин устремились в центр города. Дед решил, что начинается еврейский погром. Он достал винтовку и залез на крышу. Когда массы приблизились, дед начал стрелять. Он был единственным жителем Владивостока, противостоявшим революции. Однако революция все же победила. Народные массы устремились в центр переулками. После революции мой дед затих. Опять превратился в скромного ремесленника».
А.Б.:Как можно революционную толпу спутать с погромщиками, и разве дед не знал, что многие евреи пришли в революцию, чтобы не было погромов, а некоторые для того, чтобы и отомстить за прошлые погромы, действительные и мнимые?
Теперь наметилась новая кампания: хотят создать музей Довлатова в… Пушкинском заповеднике. «Старый деревенский дом в деревне Березино рядом с музеем-заповедником «Михайловское», в котором когда-то жил писатель, срочно требует музеефикации или какого-то иного сохранения. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал директор государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, передает корреспондент «БалтИнфо».
«Я не против того, чтобы музей Довлатова появился рядом с пушкинским заповедником. Меня услышали так, как услышали, хотя я говорил совсем о другом – о том, что у Пушкинского музея, скорее всего, не будет ни средств, ни полномочий организовывать совершенно иную экспозицию, не посвященную Пушкину», – отметил Василевич. Он напомнил, что в музее-заповеднике прошел «круглый стол» «Музей С.Д. Довлатова. Проблемы и преспективы», где обсуждалась эта проблема: «Дом в Березино, в котором жил Довлатов, купили частные лица на паях. О какой сумме идет речь, мы не знаем, поскольку в этой сделке не участвовали. Единственное, что мы точно знаем, – судьбу домика Довлатова нужно решать поскорее, поскольку он находится в плачевном состоянии. Там просто невозможно сделать экспозицию. Впрочем, все будут решать нынешние владельцы дома», – отметил Василевич.
Напомним, что писатель Сергей Довлатов несколько лет работал экскурсоводом местного экскурсионного бюро в Пушкинских горах, жил в деревне Березино в старой избе, а уже после отъезда создал на основе полученных впечатлений повесть «Заповедник». Вдова известного русского писателя Сергея Довлатова Елена Довлатова, не видит смысла в открытии его музея в Пушкинских Горах (Псковская обл.). Слава богу, нашелся один здравомыслящий человек!
Но попробуй уйми воспевателей. Вот и критик Александр Генис прямо назвал свое славословие: «Пушкин у Довлатова». Звучит так, что возникает вопрос: в гостях, на побегушках? Или – каким получился образ Пушкина у Довлатова?
«Свою таллинскую дочку Сашу Довлатов назвал в честь Пушкина. Но говорил он о нем редко, совсем не так, как о Достоевском, Фолкнере или даже Куприне. Исключение составляла «Капитанская дочка», чей сюжет провоцирует на аналогии. Если правда, что главное для писателя придумать не книгу, а автора, то соблазнительно представить, будто «Зону» Довлатов писал от лица Петра Гринева, из которого мог бы получиться прозаик не хуже Белкина.
Мне кажется, Довлатов узнавал себя в Гриневе. В самом деле, Гринев, как надзиратель в «Зоне», – всегда меж двух огней. При этом нельзя сказать, что он – над схваткой. Напротив, Гринев – в гуще битвы, постоянно готовый к подвигу и смерти, но – не к ненависти. Со своим автором он делит черту, из-за которой, как считает Цветаева, Пушкина не взяли в декабристы, – «ненадежность вражды». Драма Гринева в том, что, не поступившись своею, он способен понять – и принять – другую точку зрения.
Это не оппортунизм Швабрина, это – знаменитая «всеприимчивость» самого Пушкина, масштабы которой нам мешает оценить школа, приучившая считать Пугачева народным героем. У настоящего Пугачева, как напоминает та же Цветаева, с одного пленного офицера содрали кожу, «вынули из него сало и намазали им свои раны».
Понимая, с каким героем имел дело Пушкин, Довлатов писал: «В «Капитанской дочке» не без сочувствия изображен Пугачев. Все равно как если бы сейчас положительно обрисовали Берию». Передав Гриневу свою философию, Пушкин открыл ему и тайну своей поэзии. В пугачевской ставке Гринев переживает поэтический экстаз. Темная красота беспредела вызывает творческий импульс – «все потрясло меня каким-то пиитическим ужасом».
Не так ли была зачата и довлатовская проза? В «Зоне», после одного из самых скотских лагерных эпизодов, довлатовского героя охватывает то состояние исключенности из жизни, что и сделало из него писателя: «Мир стал живым и безопасным, как на холсте. Он приглядывался к надзирателю без гнева и укоризны».
Если «Капитанская дочка» могла служить отправной точкой «Зоны», то для своей лучшей книги Довлатов использовал самого Пушкина. «Заповедник» вылеплен по пушкинскому образу и подобию, хотя это и не бросается в глаза. Умный прячет лист в лесу, человека – в толпе, Пушкина – в Пушкинском заповеднике.
Довлатов изображает Заповедник русским Диснейлендом. Тут нет и не может быть ничего подлинного. Завод по производству фантомов, Заповедник заражает всю окружающую его среду. Поэтому встреченный по пути псковский Кремль напоминает герою «громадных размеров макет». По мере приближения к эпицентру фальши сгущается абсурд. Иногда он материализуется загадочными артефактами вроде брошюры «Жемчужина Крыма» в экскурсионном бюро Пушкинских Гор.
Главный продукт Заповедника, естественно, сам Пушкин, Уже на первой странице появляется «официант с громадными войлочными бакенбардами». Эти угрожающие бакенбарды, как Нос Гоголя, превратятся в навязчивый кошмар, который будет преследовать героя по всей книге: «На каждом шагу я видел изображение Пушкина. Даже возле таинственной кирпичной будочки с надписью «Огнеопасно»«. Сходство исчерпывалось бакенбардами».
Бесчисленные Пушкины, наводняющие Заповедник, суть копии без оригинала, другими словами – симулякры (хорошо, что Довлатов этого не прочтет). Единственное место в «Заповеднике», где Пушкина нет, – это сам Заповедник. Подспудный, почти сказочный сюжет Довлатова – поиски настоящего Пушкина, от-кроющего тайну, которая поможет герою стать самим собой.
Описываемые в «Заповеднике» события произошли, когда Сергею было 36, но герой его попал в Заповедник в 31 год, вскоре после своего «тридцатилетия, бурно отмечавшегося в ресторане «Днепр»«. Почему же изменил свой возраст автор, любивший предупреждать читателя, что «всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным. А всякий художественный домысел – непредвиденным и случайным»? Думаю, потому, что 31 год было Пушкину, когда он застрял в Болдино. Совпадение это умышленное и красноречивое, ибо свое лето в Заповеднике Довлатов выстраивает по образцу Болдинской осени.

Слева направо: Александр Галич, Галина Вишневская, Михаил Барышников, Мстислав Ростропович, Иосиф Бродский. 1974 г. Фото Л. Лубяницкого. Из архива Я. А. Гордина
Заботливо, но ненавязчиво Сергей накапливает черточки сходства. Жена, которая то ли есть – то ли нет. Рискованные и двусмысленные отношения с властями. Мысли о побеге. Деревенская обстановка. Крестьяне как из села Горюхино. Литература, сюжет которой, в сущности, пересказывает не только довлатовскую, но и пушкинскую биографию: «Несчастная любовь, долги, женитьба, творчество, конфликт с государством». Но главное, что «жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем». Ситуация «карантина», своего рода болдинская медитативная пауза, изъяла героя из течения жизни. Поэтому, вернувшись в Ленинград, он чувствует себя, как «болельщик, выбежавший на футбольное поле».
Трагические события «Заповедника» осветлены болдинским ощущением живительного кризиса. Преодолевая его, Довлатов не решает свои проблемы, а поднимается над ними. Созревая, он повторяет ходы пушкинской мысли. Чтобы примерить на себя пушкинский миф, Довлатов должен был не прочесть, а прожить Пушкина.
Легенда отличается от мифа, как сценарий от фильма, пьеса от спектакля, окружность от шара, отражение от оригинала, слова от музыки.
В отличие от легенды миф нельзя пересказать – только прожить. Миф всегда понуждает к поступку.
По-настоящему власть литературного мифа я ощутил, попав в страну, выросшую из цитат, – в Израиль. Подлинным тут считается лишь то, что упоминается в Библии. Ссылка на нее придает именам, растениям, животным, географическим названиям статус реальности. Не зря христиане зовут Палестину пятым евангелием.
В Израиле миф сворачивает время, заставляя ходить нас по кругу. Здесь царит не история, а безвременье. Погруженная в пространство мифа жизнь направлена на свое воспроизводство.
Самым наглядным образом это демонстрирует хасидское гетто в иерусалимском квартале Меа-Шарим. Все детали местного обихода – от рождения до смерти, от рецептов до покроя -
строго предписаны традицией. Поэтому тут нет и не может быть ничего нового. Каждое поколение углубляет колею, а не рвется из нее. Стены гетто защищают своих обитателей от драмы перемен и игры случая. Здесь никто ничего не хочет, потому что у всех все есть.
Обменяв свободу на традицию, растворив бытие в быте, жизнь, неизменная, как библейский стих, стала собственным памятником.
Без остатка воплотив слово в дело, иерусалимские хасиды построили литературную утопию. В другой рай они и не верят. Каждой книге свойственна тяга к экспансии. Вырываясь из своих пределов, она стремится изменить реальность. Провоцируя нас на действие, она мечтает стать партитурой легенды, которую читатели претворят в миф. Так, два века назад чувствительные москвичи собирались у пруда, где утопилась бедная Лиза.
Так, их не менее трезвые потомки ездят в электричке по маршруту Москва – Петушки, вооружившись упомянутым в знаменитой поэме набором бутылок. Пушкинский заповедник в этих терминах – не миф, а карикатура на него: «грандиозный парк культуры и отдыха». Литература тут стала не ритуалом, а собранием аттракционов, вокруг которых водят туристов экскурсоводы – от одной цитаты к другой. Пушкинские стихи, вырезанные «славянской каллиграфией» на «декоративных валунах», напоминают не ожившую книгу, а собственное надгробие.
Присвоенный государством миф Пушкина фальшив, как комсомольские крестины. Ритуал не терпит насилия. Его нельзя насадить квадратно-гнездовым способом. Но и разоблачить ложный миф нельзя, его можно только заменить настоящим, чем не без успеха и занялся Довлатов. Мне рассказывали, что теперь молодежь приезжает в Заповедник, чтобы побывать не только в пушкинских, но и в довлатовских местах».
Ух ты! Наверное, скоро спрашивать начнут: а кто такой вообще – этот Пушкин? Почему он мешает со своими стихами и фактами биографии знакомиться с любимым Довлатовым?
Потом Аександр Генис написал целую книгу: «Довлатов и окрестности», где касается важного вопроса: как и когда Довлатов стал писателем? «Предрешен был и тот свободный жанр “филологического романа”, в котором написана моя любимая русская проза, – от мандельштамовского “Разговора о Данте” до “Прогулок с Пушкиным” Синявского. Но что особенно важно, сама собой сформулировалась центральная тема всего сочинения – исповедь последнего советского поколения, голосом которого стал, как мне кажется, Сергей Довлатов. Итак, готово было все, кроме начала. Но одним дождливым майским днем пришло и оно. Было это в Петербурге, в редакции “Звезды”, где я рассказывал о Довлатове одной милой аспирантке. Покa интервью плавно катилось к финалу, к дождю за окном прибавился град и даже хлопья снега. Неожиданно в комнате появилась промокшая женщина с хозяйственной сумкой. Оказалось – офеня. Она обходила окрестные конторы, предлагая свой товар – импортные солнечные очки. В этом была как раз та степень обыденного абсурда, который служил отправной точкой довлатовской прозе. Я понял намек и, вернувшись в Нью-Йорк, плотно уселся за письменный стол…
Совершенно непонятно, когда Довлатов стал писателем. У нас считалось, что это произошло в Ленинграде, в Ленинграде – что в Америке. Остается признать решающими несколько недель австрийского транзита. Оказавшись с матерью и фокстерьером Глашей в Вене, Сергей развил бешеную деятельность. В тамошнем пансионе он успел написать несколько прекрасных рассказов, украсивших потом “Компромисс”.
Возможно, творческий запой был, как это у него случалось, следствием обыкновенного. До Вены Сергей так усердствовал в прощании с родиной, что в Будапеште его сняли с самолета. Правда, я слышал это не от Довлатова, что и придает достоверности этой истории и внушает сомнение в ней. Кажется странным, что Сергей опустил столь яркую деталь своего исхода. Хотя не исключено, что он счел ее душераздирающей. Так или иначе, в Америку Довлатов приехал автором бесспорно известным, к тому же – в умеренном диссидентском ореоле. Однако вместо иллюзий у него были одни смутные надежды. Поэтому он, как и все мы, готовился зарабатывать на жизнь незатейливым физическим трудом.
С этого начинали почти все мои знакомые литераторы. Лимонов, как известно, пошел в официанты. Спортивный журналист Алексей Орлов присматривал за лабораторными кроликами. Публицист Гриша Рыскин стал массажистом. Хуже других пришлось автору детективных романов Незнанскому. На фабрике, где он служил уборщиком, стали довольно грубо измываться над мягким и симпатичным Фридрихом, когда узнали, что он из юристов – им в Америке так завидуют, что терпеть не могут. Соавтор Незнанского Эдуард Тополь начинал по-другому. Заявив, что не собирается путаться в эмигрантском гетто, он приехал в Америку с готовым сценарием. Первая фраза звучала эффектно: “Голая Сарра лежала на диване”. Вскоре Тополь выучился на таксиста. Когда их союз распался, Фридрих жаловался Довлатову, что Тополь зажилил его машинку. Сергей еще удивлялся: что ж это за следователь, который не может уследить за своей собственностью?
Сергей, кстати, знал толк в пишущих машинках. Он даже собирался заняться их починкой. Эту весьма экзотическую деятельность он выбрал как наиболее тесно связанную с литературой. Выяснилось, однако, что в Америке машинки не чинят. Тут и ботинки-то отремонтировать – проблема. Тогда Сергей записался на курсы ювелиров – он умел рисовать и обожал безделушки.
Впрочем, долго это, как и у всех нас, не продлилось. Меня, например, с первой американской работы выгнали через месяц – за нерадивость. Скучнее этих четырех недель в моей жизни ничего не было. Я мечтал о конце рабочего дня через пятнадцать минут после его начала. И это при том, что служил я грузчиком в фирме, которая занималась, как теперь понимаю, не столько джинсами, сколько постмодернизмом. Выглядело это так: на полу лежала груда купленных по дешевке штанов, на которые тихие пуэрториканки нашивали модный ярлык “Сассун”. На Пятой авеню эти джинсы шли по пятьдесят долларов.
С Довлатовым мы познакомились сразу. Его жена Лена тогда работала вместе с нами в “Новом русском слове”, да мы уже и знали друг друга по публикациям. Как ни странно, мы тут же перешли с Сергеем на «ты». С ленинградцами это происходит отнюдь не автоматически, чем они и отличаются от москвичей. (Когда к Ефимовым пришел Алешковский, Марина, открыв дверь, поздоровалась. В ответ Алешковский закричал: “Бросьте ваши ленинградские штучки!”) Сергей любил и ценил этикет. Со многими близкими людьми, тем же Гришей Поляком, он общался на вы. Фамильярность его не столько оскорбляла, сколько озадачивала. Когда моя жена уличила его в мелком вранье, Сергей с удивлением заметил: “Я не думал, что мы так близко знакомы”.
Нашему стремительному сближению несомненно способствовала решительность в выпивке. Мы отвели Сергея в странную забегаловку “Натан”, где наравне с хот-догами подавали лягушачьи лапки. Запивая все это принесенной с собой водкой, мы сразу выяснили все и навсегда – от Гоголя до Ерофеева.
Затем произошла история, которую я так часто рассказывал, что сам в ней стал сомневаться. Мы шли по 42-й стрит, где Довлатов возвышался, как, впрочем, и всюду, над толпой. Сейчас эту улицу “Дисней” отбил у порока, но тогда там было немало сутенеров и торговцев наркотиками. Подойдя к самому страшному из них – обвешанному цепями негру, – Сергей вдруг наклонился и поцеловал его в бритое темя. Негр, посерев от ужаса, заклокотал что-то на непонятном языке, но улыбнулся. Довлатов же невозмутимо прошествовал мимо, не прерывая беседы о Фолкнере.
Можно было подумать, что в Америку Сергей приехал как домой. На самом деле Сергей отнюдь не был избавлен от обычных комплексов. По-английски он говорил даже хуже нас. Манхэттен знал приблизительно. В метро путался. Но больше всего его, как всех эмигрантов, волновала преступность. В письмах Сергей драматизировал обстановку с наслаждением: “Здесь фактически идет гражданская война <…> большинство американцев рассуждают так, что лучше сдаться красным, которые ликвидируют бандитизм”.
От него мне такого слышать не приходилось – то ли он стеснялся, то ли я не интересовался. Мне ведь тогда еще не было тридцати, и новая жизнь вокруг бурлила и завихрялась таким образом, что жена нередко задавала классический вопрос: “Знаешь ли ты, какие глаза у твоей совести в два часа ночи?” Не без основания тогда редактор “Нового русского слова” называл нас с Вайлем “Двое с бутылкой”. При всем том мои воспоминания о нью-йоркских приключениях ничем не омрачены. Ни разу мне не приходилось сталкиваться, например, с полицейскими. Хотя даже в Нью-Йорке не положено распивать коньяк на скамейке в Централ-парке. Правда, мы всегда блюли если не дух, то букву закона, не доставая бутылку из коричневого бумажного пакета».
Соредактора журнала «Звезда», литературоведа, критика и прозаика Андрея Арьева в Санкт-Петербурге полушутя называют «главным по Довлатову». Их дружба длилась десятилетия и не прервалась даже после эмиграции Довлатова в США. Андрей Арьев с юмором рассказывает, как во время учебы в ЛГУ показал ему несколько своих рассказов, и Довлатов, возвращая рукописи, сделал своеобразный комплимент: «Этот рассказ мне не понравился меньше других». В перерывах международной конференции «Вторые Довлатовские чтения» Андрей Арьев пообщался с корреспондентом «Голоса Америки».
Говоря о новой книге «Собрание в сборниках», где собраны письма Довлатова, Андрей Арьев сообщил, что во время подготовительной работы издатели проявляли максимальную деликатность: «Во-первых, без разрешения наследников печатать ничего нельзя. Во-вторых, в своих письмах Сергей был откровенен, остр и не всегда справедлив. С другой стороны, эти послания он писал с большим вдохновением и даже как-то сказал мне, что пишет их даже с большим удовольствием, чем прозу».
В то же время Андрей Арьев считает, что переписка Довлатова дополняет его художественную прозу точными наблюдениями и яркими характеристиками персонажей, которые в некоторых рассказах и повестях писателя фигурируют под вымышленными фамилиями. «Было бы здорово издать все его письма полностью, но пока это невозможно. Надеюсь, что будущие читатели получат огромное удовольствие, познакомившись с несколькими томами писем Довлатова», – говорит Андрей Арьев.
Издание начинается письмами Довлатова, которые он писал своему отцу Донату Мечику в 1962 году во время службы в армии и завершается датированными апрелем 1990 года посланиями Андрею Арьеву из Нью-Йорка. Кроме того, в сборнике есть письма, адресованные известным писателям русского зарубежья – Виктору Некрасову и Георгию Владимову, а также его послания к своим знакомым, широкой публике не известным. «Таким образом, этот том охватывает и частную жизнь Сергей Довлатова, и его литературную деятельность», – подытоживает соредактор журнала «Звезда».
Некоторые литературоведы склонны противопоставлять советский и американский периоды творчества Довлатова. Андрей Арьев с этим не согласен: «Собственно говоря, у него существует только один период творчества – это то, что он написал в Америке и то, что он там же отредактировал, – считает литературовед. Он также напоминает, что в своем завещании писатель просил впредь не публиковать никаких своих текстов, написанных в СССР. Ну что ж, тоже выразительная характеристика для «голоса последнего советского поколения».
В настоящее время в Санкт-Петербурге есть одно место, где увековечено имя писателя – мемориальная доска на доме № 23 по улице Рубинштейна, где Довлатов жил с 1944 по 1975 год. Увековечен Довлатов и на нашем либеральном ТВ. Критик Виктор Топоров отрецензировал книгу Анны Коваловой и Льва Лурье, которые с гордостью и смущением назвали ее первой биографией Сергея Довлатова: «Да ведь и впрямь никому до них не пришло в голову пересочинить историю недолгой и, в общем-то, неяркой жизни замечательного прозаика, с, казалось бы, исчерпывающей (а может, и с избыточной) полнотой изложенную им самим в повестях, рассказах и анекдотах, образующих в своей совокупности солидный трехтомник. Строго говоря, роман «Довлатов» (а именно так называется книга Коваловой и Лурье) уже написан. И написал его, конечно же, сам Сергей Донатович.

У памятника Корнелю в Париже. Из архива Я. А. Гордина
Книга «Довлатов» возникла из двух телепередач (одна из которых была многосерийной! – А.Б .) на Пятом канале, а те, в свою очередь, состояли по преимуществу из развернутых интервью с бывшими и нынешними жителями нашего города, старыми таллинцами и новыми американцами. И в Таллин, и в США богатый поначалу канал снарядил киноэкспедиции, по результатам которых в распоряжении группы оказались эксклюзивные видеоматериалы. Причем командировка в ближнее зарубежье оказалась, на мой взгляд, куда более плодотворной. Дело не обошлось, разумеется, и без присяжных довлатоволюбов» – как наших, так и забугорных. Однако, по словам Коваловой и Лурье, значительная часть представляющих интерес свидетельств в и без того многочасовую передачу войти так и не смогла, поэтому и возникла идея опубликовать их в книжной форме. Придав самой книге, вслед за передачей, жесткую хронологическую форму. В итоге получилось то, что получилось, – первая биография Сергея Довлатова.
Столь многоступенчатый творческий метод напоминает, с одной стороны, многократную перегонку, проводимую для того, чтобы самогон получился и впрямь высокого качества. А с другой стороны, тоже многократный процесс «взбадривания» чайной заварки все новым и новым кипятком. Забегая вперед, отмечу, что книга «Довлатов» оставляет ощущение слабоалкогольного напитка с ностальгически приятным привкусом чайного гриба. Сам Довлатов такого не пил, но вполне мог бы такой бражкой похмелиться или запить более крепкое».
Меня эти метафоры – не поразили. Меня потрясли «многочасовые передачи про Довлатова». Таким не могут похвастаться ни Валентин Распутин, ни покойный уже Василий. А уж они ли не классики отечественной литературы!
Каждый шажок эмигранта, каждое свидетельство сберегается и обсасывается пуще каких-то вех эмигрантской биографии какого-нибудь Ивана Бунина или уж тем более Ивана Шмелева. Топоров пишет: «Вот характерный пример – мать писателя Нора Сергеевна Довлатова пишет американской корреспондентке в прелестной и совершенно довлатовской манере: «Сережа очень изменился к лучшему, иногда до неузнаваемости. Маргарита Степановна не верит глазам и ушам своим. Господи, хоть бы он перестал пить, мы бы назвались людьми со средним достатком».
Человек, способный до неузнаваемости измениться к лучшему, сам по себе изрядно страшон, не правда ли? О страшном Довлатове, о черном Довлатове пишут крайне редко (я знаю всего три таких свидетельства; одно из них, принадлежащее перу Юрия Милославского, было опубликовано в старом «Городе»), но все же пишут… Но только не на страницах рецензируемой книги. А в результате образ писателя получается не то чтобы недостоверным, но фактически неотличимым от иронически сниженного и вместе с тем элегически возвышенного довлатовского автопортрета.
Образ Довлатова в книге Анны Коваловой и Льва Лурье – это Довлатов, каким он предстает в собственной прозе, вот только «излагает» этот Довлатов (устами, допустим, Андрея Арьева или Валерия Воскобойникова) куда хуже оригинального. «Я думаю, что он с самого начала все делал правильно», – бормочет первый лауреат Довлатовской премии в 100 долларов (и председатель жюри, присудившему ему эту премию) Валерий Попов. «Действительно, после шести вечера мы обычно начинали выпивать, – вторит ему покойный Владимир Уфлянд. – Правда, Сережа обычно уходил до того, как эта пьянка начиналась». «В этом зале, наверное, нет ни одного человека, о котором Довлатов не написал и не сказал бы какой-нибудь такой гадости, после которой ему и руки подать нельзя. Но никто из нас по-настоящему не оскорблялся», – эти будто бы сказанные Самуилом Лурье на мемориальном вечере в Доме писателя слова приводит в книге Владимир Герасимов. «Я познакомился с Сергеем Довлатовым в 1980 году. В одном из наших первых разговоров я пожаловался ему на безденежье, и он сразу решил взять надо мной шефство», – это уже Америка, Марк Серман. И так далее…».
Снова вернемся к высказываниям самого Довлатова: – Сейчас я стал уже немолодой, и выяснилось, что ни Льва Толстого, ни Фолкнера из меня не вышло, хотя все, что я пишу, публикуется. И на передний план выдвинулись какие-то странные вещи: выяснилось, что у меня семья, что брак – это не просто факт, это процесс. Выяснилось, что дети – это не капиталовложение, не объект для твоих сентенций и не приниженные существа, которых ты почему-то должен воспитывать, будучи сам черт знает кем, а что это какие-то божьи создания, от которых ты зависишь, которые тебя критикуют и с которыми ты любой ценой должен сохранить нормальные человеческие отношения.
– В разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса…
– Женщина, как таковая, является чудом. Женщины не любят тех, кто просит. Унижают тех, кто спрашивает. Следовательно, не проси. И по возможности – не спрашивай. Бери, что можешь сам. А если нет, то притворяйся равнодушным.
– Антоним любви – это даже не равнодушие и не отвращение, а банальная Ложь.
– Бескорыстное вранье – это не ложь, это поэзия.
– Человек человеку – все, что угодно… В зависимости от стечения обстоятельств.
– Непоправима только смерть.
Глубоко-о…
Документальный фильм «Мой сосед, Сережа Довлатов» выпущен в Нью-Йорке в 2001 году. В фильм вошли очерки Владимира Соловьева и воспоминания вдовы писателя Елены Довлатовой. Документальная картина состоит аж из девяти новелл. Среди них новелла об отношениях Довлатова и Бродского в Нью-Йорке, рассказ Елены Клепиковой о том, как Довлатов переживал удар, когда в Эстонии набор его уже сверстанной книги рассыпали по указанию свыше, и другие новеллы.
Из книги Беседы в изгнании - Русское литературное зарубежье автора Глэд ДжонСЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ Вашингтон, 5 января 1988 ДГ. Давайте начнем с вашего отъезда. Как получилось, что вы уехали? СД. Лет с двадцати я более или менее регулярно писал и пытался печататься. Через какое-то время мне стало ясно, что мои рассказы не будут публиковаться в Советском
Из книги Как уходили кумиры. Последние дни и часы народных любимцев автора Раззаков ФедорДОВЛАТОВ СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ СЕРГЕЙ (писатель; скончался 24 августа 1990 года на 50-м году жизни).Довлатов сильно пил и на этой почве подорвал свое сердце. Даже когда в конце 70-х он эмигрировал в Америку, он так и не смог избавиться от вредной привычки. Алкоголь для него стал
Из книги Меандр: Мемуарная проза автора Лосев Лев ВладимировичРусский писатель Сергей Довлатов Утром 24 августа в Нью-Йорке умер русский писатель Сергей Донатович Довлатов. Умер от особо яростного приступа неизлечимой болезни, которая терзала его всю жизнь. Десять дней не дожил до своего сорок девятого дня рождения. Довлатов был
Из книги Малоизвестный Довлатов. Сборник автора Довлатов СергейИгорь Смирнов-Охтин Сергей Довлатов - петербуржец Когда летом 1978 года в аэропорту «Пулково» он подряд всех обнимал, успевая каждому из нас сказать что-то, могущее принадлежать только «каждому из нас», мы знали, что больше не увидим его. Знали, что, конечно, письма своими
Из книги Довлатов автора Попов ВалерийДовлатов Истинное мужество состоит в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду. Сергей Довлатов От редакции Книга, которую вы держите в руках, изначально была другой. В нее входило значительно большее количество фрагментов из сочинений и писем Сергея Довлатова,
Из книги Сияние негаснущих звезд автора Раззаков ФедорДОВЛАТОВ Сергей ДОВЛАТОВ Сергей (писатель; скончался 24 августа 1990 года на 50-м году жизни). Довлатов сильно пил и на этой почве подорвал свое сердце. Даже когда в конце 70-х он эмигрировал в Америку, так и не смог избавиться от вредной привычки. Алкоголь для него стал каким-то
Из книги Тайные гастроли. Ленинградская биография Владимира Высоцкого автора Годованник ЛевЕдинственное интервью Высоцкого в ленинградской прессе было опубликовано в газете, где работал Сергей Довлатов 27 июня 1972 года в конференц-зале Центрального конструкторского бюро Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО) состоялся концерт Высоцкого,
Из книги Знаменитые эмигранты из России автора Рейтман Марк ИсаевичСергей Довлатов: «Жизнь коротка и печальна» Четыре города, четыре столицы, без которых не расскажешь историю русского писателя армяно-еврейского происхождения с американским гражданством Сергея Донатовича Довлатова.Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в
Из книги Всё на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове. Киев – Париж. 1972–87 гг. автора Кондырев ВикторСергей Довлатов Вика включил телефонный громкоговоритель, чтоб и я принял участие в разговоре. Его собеседник говорил тихо и вяловато. Угадав голос Сергея Довлатова, я, приложив руку к сердцу и тыча пальцем в телефон, попросил знаками: мол, привет от меня передайте, от его
Из книги По теченью и против теченья… (Борис Слуцкий: жизнь и творчество) автора Горелик Петр ЗалмановичГлава одиннадцатая БОРИС СЛУЦКИЙ, ИОСИФ БРОДСКИЙ, СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ Если «парность» Слуцкого и Самойлова, о которой мы писали выше, оправдывалась их давней дружбой и общими корнями, то сопоставление Слуцкого и Бродского обусловлено иными причинами: они познакомились и
Из книги автораСергей Довлатов. Вор, судья, палач… Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело! Из статьи Г. Померанца Помните такую детскую игру? На клочках бумаги указывается: вор, судья, палач… Перемешиваем, вытаскиваем… Судья назначает кару:
Из книги автораИсчезнувший Довлатов Читателя ждет сюрприз за сюрпризом. Книга беспрецедентна во всех отношениях – ни на обложке, ни внутри нет ни единого портрета Довлатова, но и в самой книжке, на всех ее 350 малоформатных страничках, нет ее героя – нет Довлатова.Есть вымышленный
Из книги автораАнти-Довлатов Первая странность (скорее жанровая аномалия) – автор сочинил не биографию Довлатова, как следовало ожидать, а парные биографии – свою и своего смертельного врага. Быть может, он подражал Плутарху с его «сравнительными жизнеописаниями» выдающихся
Эмиграция. Тема бесконечная, а её диалектичность уничтожает право произносить категоризмы. Тем не менее...
Все обобщения - даже выведенные из закона больших чисел - всё равно, страдают погрешностями. Но тенденция в них, безусловно, прослеживается.
Несогласных - запугивают.
Непокорных - сажают.
Неудобных - подвергают изощрённой клевете.
Опасных - убирают.
Неисправимых (чаще всего прошедших все стадии - запугивание, посадка, клевета) - попросту вышвыривают из страны, как инородные тела.
Ни Бродский, ни Довлатов не были диссидентами в классическом понимании этого термина. Не оппонировали конкретной власти напрямую. Оба запросто могли перепутать портрет Брежнева с чьим-то иным. Не знать министров и членов Политбюро - эти люди были просто из других измерений, к коим оба - равнодушны.
Их диссидентство было поглубже политики - это диссидентство душевное, глубинно-мировоззренческое. Протест ярких индивидуалистов (напополам с насмешкой) против самой сути устройства "современного общества", о котором миллионы людей даже не размышляют, а бездумно следуют его мифам, традициям, законам...
Таким нет нужды тайно покидать страну и просить перед камерами политического убежища от режима. "Благодарная" Родина вышлет собственноручно со словами облегчения в спину: мучайтесь теперь уже вы с ними...
Конечно, в более открытом и социально справедливом Обществе (в данном случае - США) - и Бродский, и Довлатов вздохнули куда свободнее, что сказалось на их творчестве, принеся отклик и (пускай, с оговорками) - востребованность читателей. Правда, то самое... метафизическое одиночество, если хотите (трудно подобрать точное словосочетание) - никуда не исчезло и в более либеральной, вегетарианской системе. Видимо, это - печать судьбы и крест литераторов...
Бродский написал о расставании с Родиной в удивительно ясном стиле, похожем на прозрачность поэтов Серебряного Века - что было далеко не всегда свойственно его творчеству. Вероятно, в минуты слома Старого Мира (каким бы он ни был!), понимания безвозвратности минувшей жизненной черты, сложно-изысканные метафоры поэзии умолкают, уступая место той простоте, что льётся из самых глубин души и лишена всякой многосложности и, тем более, фальши...
Мне говорят, что надо уезжать.
Да-да. Благодарю. Я собираюсь.
Да-да. Я понимаю. Провожать
Не следует, и я не потеряюсь.
Ах, что вы говорите - дальний путь.
Какой-нибудь ближайший полустанок,
Ах, нет, не беспокойтесь. Как-нибудь.
Я вовсе налегке, без чемоданов.
Да-да. Пора идти. Благодарю.
Да-да. Пора. И каждый понимает.
Безрадостную зимнюю зарю
Над Родиной деревья поднимают.
Всё кончено, не стану возражать.
Ладони бы пожать - и до свиданья.
Я выздоровел. Мне нужно уезжать.
Да-да. Благодарю за расставанье.
Вези меня по родине, такси,
Как-будто бы я адрес забываю,
В умолкшие поля меня неси.
Я, знаешь ли, с Отчизны выбываю...
Холодным ветром берега другого.
Ну, вот и долгожданный переезд.
Кати назад, не чувствуя печали.
Когда войдешь на родине в подъезд,
Я к берегу пологому причалю...
ИОСИФ БРОДСКИЙ, 1972
У Сергея Довлатова вылилось, конечно, иначе по форме, но внутренне - схоже.
Он написал несколько миниатюр об американской жизни - "Марш Одиноких" - в меру грустный, ироничный и сентиментальный, - который я и сегодня с удовольствием перечитываю. Что интересно, самое глубокое в этом сборнике принадлежит вовсе не перу Довлатова...
Это письмо дошло чудом. Его вывезла из Союза одна поразительная француженка. Дай ей Бог удачи!..
Из Союза француженка нелегально вывозит рукописи. Туда доставляет готовые книги. Иногда по двадцать, тридцать штук. Как-то раз в ленинградском аэропорту она не могла подняться с дивана....
А мы ещё ругаем западную интеллигенцию...
Вот это письмо. Я пропускаю несколько абзацев, личного характера. И дальше:
«... Теперь два слова о газете. Выглядит она симпатично - живая, яркая, талантливая. Есть в ней щегольство, конечно, - юмор и так далее. В общем, много есть хорошего.
Я же хочу сказать о том, чего нет. И чего газете, по-моему, решительно не хватает.
Ей не хватает твоего прошлого. Твоего и нашего прошлого. Нашего смеха и ужаса, терпения и безнадёжности...
Твоя эмиграция - не частное дело. Иначе ты не писатель, а квартиросъёмщик. И несущественно - где, в Америке, в Японии, в Ростове.
Ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своём прошлом. Всё остальное мелко и несущественно. Всё остальное лишь унижает достоинство писателя! Хотя растут, возможно, шансы на успех.
Ты ехал не за джинсами и не за подержанным автомобилем. Ты ехал - рассказать. Так помни же о нас...
Говорят, вы стали американцами. Говорят, решаете серьёзные проблемы. Например, какой автомобиль потребляет меньше бензина.
Мы смеёмся над этими разговорами. Смеёмся и не верим. Всё это так, игра, притворство. Да какие вы американцы?! Кто? Бродский, о котором мы только и говорим?
Ты, которого вспоминают у пивных ларьков от Разъезжей до Чайковского и от Старо-Невского до Штаба? Смешнее этого трудно что-нибудь придумать...
Не бывать тебе американцем. И не уйти от своего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскребы... Тебя окружает прошлое. То есть - мы. Безумные поэты и художники, алкаши и доценты, солдаты и зэки.
Ещё раз говорю - помни о нас. Нас много, и мы живы. Нас убивают, а мы живём и пишем стихи.
В этом кошмаре, в этом аду, мы узнаём друг друга не по именам. Как - это наше дело!..»
Думаю, тут не стоит что-либо добавлять. Как и повторять избитую истину о том, что на тему эмиграции у каждого свои - ответ, возможности, мироощущения.
Я поделился лишь теми, что созвучны мне самому...
Похороны Довлатова. Фото из архива Александра Гениса
Две годовщины окаймляют это лето. 24 мая исполнилось 75 лет со дня рождения Бродского, 24 августа — 25 лет со дня смерти Довлатова. Оба могли бы жить и сегодня.
— И тогда, — мечтаю я, — мы бы смогли прочесть большой опус старого Бродского (сам он мечтал написать свою «Божественную комедию», а я почему-то вижу нового «Фауста») и узнать, как ведут себя явившиеся в Америку персонажи Довлатова (с этого начался незаконченный сборник Сергея «Холодильник»).
Но в литературе сослагательное наклонение не работает — по-настоящему крупные писатели всегда выворачиваются даже из той колеи, которую они же и прорыли. А с тем, что Бродский и Довлатов — самые значительные писатели русской Америки, спорить не приходится. Третий, Солженицын, в сущности, так и не пересек границы Нового Света, но эти двое освоили его и присоединили к отечественной словесности. Выходцы из одного города, разделившие другой, они — каждый по-своему — создавали литературный мир русского Нью-Йорка.
Отмечая две годовщины, я хочу поговорить об отношениях, связывавших как двух авторов, так и двух друзей. О последнем можно судить по названию мемориального очерка, который Бродский согласился написать по нашей с Вайлем просьбе. Откладывая работу, он каждый раз категорически требовал его тормошить, пока текст наконец не был написан. Первый раз он был прочитан на Радио «Свобода», потом вошел во все издания Бродского. Напомню, что называется этот опус вполне интимно: «Сережа».
Начиная свой портрет Довлатова, Бродский обронил замечание слишком глубокомысленное, чтобы им пренебречь:
«Сергея, — писал он, — оказалось сравнительно легко переводить, ибо синтаксис его не ставит палок в колеса переводчику».
Синтаксис Сергей и правда упразднил. У него и запятых — раз-два и обчелся. Естественным результатом такой тактики были чрезвычайно короткие предложения, что идеально соответствовало всей его философии.
Ведь что такое синтаксис? Это связь при помощи логических цепей, соединяющих мысли наручниками союзов. Стоит пойти на поводу у безобидного «потому что», как в тексте самозарождается независимый от автора сюжет. Намертво соединяя предложения, союзы создают грамматическую гармонию, которая легко сходит за настоящую. Синтаксис — великий организатор, который вносит порядок в хаос даже тогда, когда его же и описывает. Но как бы искусно ни была сплетена грамматическая сеть, жизнь утекает сквозь ее ячеи. Предпочитая откровенную капитуляцию мнимым победам, Сергей соединял свои предложения не союзами, а зиянием многоточий, разрушающих мираж осмысленного существования.
Это-то и выделяло Довлатова из соотечественников, о которых так точно написал Бродский: «Мы — народ придаточного предложения».
По-моему, Бродский был единственным человеком, которого Сергей боялся. В этом нет ничего удивительного — его все боялись.
Когда у нас на Радио «Свобода» возникала необходимость позвонить Бродскому, все смотрели на Сергея, и он, налившись краской, долго собирался с духом, прежде чем набрать номер. Иногда такие звонки заканчивались экстравагантно. На вопросы Бродский отвечал совершенно непредсказуемым образом.
Когда его, например, попросили прокомментировать вынесенный иранскими муллами приговор Салману Рушди, Бродский сказал, что в ответ на угрозу одному из своих членов ПЕН-клуб должен потребовать голову аятоллы — «проверить, что у него под чалмой».
Перед Бродским Сергей благоговел:
«Он не первый, — писал Довлатов, — он, к сожалению, единственный. Я думаю, что наше гнусное поколение, как и поколение Лермонтова, — уцелеет. Потому что среди нас есть художники такого масштаба, как Бродский».
Надо сказать, что еще задолго до того, как появилась профессия «друг Бродского», близость к нему сводила с ума. Иногда — буквально. Бродский тут был абсолютно ни при чем. Со знанием дела Сергей писал: «Иосиф — единственный влиятельный русский на Западе, который явно, много и результативно помогает людям».
Особенно отзывчивым Бродский казался по сравнению с игнорировавшим эмиграцию Солженицыным. (На моей памяти Александр Исаевич поощрил только одного автора — некоего Орешкина, искавшего истоки славянского племени в Древнем Египте. Среди прочего, Орешкин утверждал, что этруски сами заявляют о своем происхождении: «это — русские».) Бродский же раздавал молодым авторам отзывы с щедростью, понять которую помогает одно его высказывание: «Меня настолько не интересуют чужие стихи, что уж лучше я скажу что-нибудь хорошее». С прозой обстояло не лучше. Однажды его скупые, но все-таки благожелательные слова появились на обложке шпионского романа под названием «Они шли на связь». Это, говорят, погубило автора, солидного доктора наук. Окрыленный похвалой, он с таким усердием занялся литературой, что потерял семью и работу.
С Довлатовым было по-другому. Бродский, читавший все его книги, да еще в один присест, ценил Сергея больше других. Что не мешало Довлатову тщательно готовиться к каждой их встрече. Когда Бродский после очередного инфаркта пытался перейти на сигареты полегче, Довлатов принес ему пачку «Парламента». Вредных смол в них было меньше одного миллиграмма, о чем и было написано на пачке: «Less than one». Именно так называлось знаменитое английское эссе Бродского, титулу которого в русском переводе не нашлось достойного эквивалента.
С Бродским у Довлатова, казалось бы, мало общего. Сергей и не сравнивал — Бродский был по ту сторону. Принеся нам только что напечатанную «Зимнюю эклогу», Довлатов торжественно заявил, что она исчерпывает его представления о современной словесности. Когда Сергей бывал в гостях, его жена Лена определяла степень участия Довлатова в застолье по тому, декламирует ли он «тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон».
Отвечая на выпад одного городского сумасшедшего, Довлатов писал: он «завидует Бродскому и правильно делает. Я тоже завидую Бродскому».
Но дороже искусства Довлатову была личность Бродского. Сергей поражался его абсолютному бесстрашию. Свидетель и жертва обычных советских гадостей, Довлатов всегда отмечал, что именно Бродский в отношениях с властью вел себя с безукоризненным достоинством.
Еще важней было мужество другого свойства. Бродский сознательно и решительно избегал проторенных путей, включая те, которые сам проложил. Большая часть жизни, говорил Бродский, уходит на то, чтобы научиться не сгибаться. Считая, что речь идет о властях, я недоумевал, потому что эти конфликты остались в прошлом. Только со временем до меня дошло, что Бродский имел в виду другое: сильнее страха и догмы человека сгибает чужая мысль или пример.
Сергей завидовал не Бродскому, а его свободе. Довлатов мечтал быть самим собой и знал, чего это стоит. Без устали, как мантру, он повторял: «хочу быть учеником своих идей».
«Я уважаю философию, — писал Сергей, — и обещаю когда-то над всем этим серьезно задуматься. Но лишь после того, как обрету элементарную житейскую свободу и раскованность. Свободу от чужого мнения. Свободу от трафаретов, навязанных большинством».
Еще Бродского и Довлатова сближали стихи. Бродский прямо утверждал, что довлатовские рассказы «написаны, как стихотворения». Я не уверен, что это так. Скорее его рассказы появились на обратном пути от стихов к прозе.
Поэзия сгущает реальность, отчего та начинает жить по своим законам, отменяющим пространство и время, структуру и иерархию. Информационная среда уплотняется до состояния сверхпроводимости, при котором всё соединяется со всем. В таком состоянии ничего не может быть случайным.
Но Довлатов не сгущал, а разрежал реальность. Лишнее в его рассказах соединяется с необходимым, как две стороны одного листа. Скорее прообразом довлатовской прозы была не поэзия, а музыка. Сергей мог бы повторить слова одного композитора, сказавшего о своих сочинениях: «Черное — это ноты, белое — музыка».
Довлатов был музыкален. Однажды я даже слышал, как он пел на встрече с читателями. Только что приехавший в Америку Довлатов был в ударе. Демонстрируя публике сразу все свои таланты, он читал рассказы и записи из «Соло на ундервуде», рассуждал о современной литературе, называя Романа Гуля современником Карамзина, а под конец необычайно чисто исполнил песню из своего «сентиментального детектива»:
Эх, нет цветка милей пиона
За окошком на лугу.
Полюбила я шпиона,
С ним расстаться не могу.
Так что Бродский, сказавший про рассказы Сергея «это скорее пение, чем повествование», был все-таки прав: со стихами довлатовскую прозу роднила музыка.
Больше многого другого Довлатову нравилось в Америке, что тут «каждый одевается так, как ему хочется».
Демократия, конечно, дает отдельному человеку развернуться. Но — каждому человеку, и этим излечивает личность, как говорил тот же Бродский, от «комплекса исключительности». Чтобы быть собой, ты должен быть с собой; чаще всего — наедине. Автономность и самодостаточность не исключают, а подразумевают затерянность в пейзаже. Демократия, как болото, все равняет с собой.
С Бродским Довлатова объединяла органичность, с которой они вписывались в этот горизонтальный пейзаж. Почти ровесники, они принадлежали к поколению, которое осознанно выбрало себе место на обочине. Ценя превыше всего свободу, не имея потребности попадать в зависимость и навязывать ее другим, Бродский и Довлатов превратили изгнание в точку зрения, отчуждение — в стиль, одиночество — в свободу.
Бахчанян однажды высказался и по этому поводу: «Лишний человек — это звучит гордо».
Зачем их примирять с властью?Кадр из фильма «Довлатов». Фото: WDSSPR
«Нормальность» советской жизни как новая идеологическая установка.
Высоцкий, Бродский, Довлатов - первая тройка культовых имен России выглядит сегодня так. Что интересно, народный пантеон славы и официальный, государственный впервые совпадают. Большой трагический фильм о Бродском выходит на Первом канале , а сам поэт является неоспоримым авторитетом в искусстве и вписан во все учебники; юбилей Высоцкого отмечают все государственные медиа, а глава государства посещает его музей. Фраза Довлатова «а кто написал четыре миллиона доносов?» звучит на гостелевидении из уст одиозных ведущих, а художественный фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего, снятый в том числе на государственные деньги, представляет Россию на Берлинском кинофестивале и вскоре выйдет в прокат.
Ничего удивительного - любая власть использует творцов, особенно ушедших, в свою пользу - как Пушкина, чью столетнюю годовщину гибели пышно отмечали в 1937 году. Но власть сегодня не просто отдает почести бывшим «изгоям» - она пытается превратить их в «своих», в «наших»; в государственных «Вестях ФМ» предъюбилейная рубрика так и называлась - «Наш Высоцкий». Слово «наш» сегодня - это вариант замятинского «мы», которое означает, что между государством и обычными людьми нет никакого зазора, что это единое целое. Место в едином строю теперь находится даже для подчеркнутых индивидуалистов Бродского или Довлатова - заочно предполагается, что «сегодня они были бы за нас».
В какой степени они были советскими людьми - сложный вопрос, он требует в каждом случае отдельного размышления. Но нет никаких сомнений в том, как относилась к нынешним иконам советская власть при жизни: для нее они были «тунеядцами» или в лучшем случае «чуждыми элементами»; их не печатали, цензурировали, не признавали официально в качестве поэта или писателя. То, что с поправкой на вегетарианство поздней советской власти творцы отделались еще относительно легко, это не заслуга советской власти, а их личное везение.
Главная новость в том, что сегодняшняя власть хочет присвоить их духовно. Она хочет задним числом примирить их с советской властью и с государством вообще. Оказывается, это вполне возможно, тут работает все та же «пушкинская лазейка»: у любого крупного таланта можно найти то, что ситуативно может совпасть с риторикой власти в тот или иной момент. Например, неполиткорректное по нынешним временам стихотворение Бродского про Украину, не говоря уже про Высоцкого с его военными песнями, которые сегодня (но не в 1970-е, когда на него строчили пасквили в газеты за «опошление») звучат как эталон патриотизма. Опять же фразу Анатолия Наймана в пересказе Довлатова «советский, антисоветский - какая разница» или фразу Бродского в пересказе Довлатова «если Евтушенко против колхозов, то я - за» можно сегодня парадоксальным образом использовать не столько для оправдания советской власти, сколько для утверждения той самой идеи постправды: никто тут не лучше других, все одинаково плохи. Довлатовский цинизм, который был скорее литературным приемом, маской и служил ему самому защитой от государства, сегодня используется впрямую - так, как будто это было его кредо, идеологическая программа. На самом деле эти цитаты отражают подлинную систему ценностей говорящих примерно с той же достоверностью, что и «цитаты Ленина про интернет» или Ивана Аксакова про Европу.
Зачем власти идти сложным путем, зачем приручать «диких животных», когда вокруг столько ручных, домашних, которые вполне нашли общий язык с советской властью и могли бы служить примером для нынешней интеллигенции?
Есть практическое объяснение: эти творцы сегодня действительно популярны в мире; Довлатов и Бродский в большей степени, Высоцкий - в меньшей. Мировых брендов российского происхождения не так уж и много, нельзя разбрасываться. Кроме того, это демонстрация демократизма и широты нынешней власти: видите, теперь мы способны оценить и Бродского, и Высоцкого, и Довлатова в отличие от заскорузлых бонз из политбюро.
Но есть за всем этим еще и сверхзадача. Нам хотят внушить, что сама советская жизнь 1970-х была «нормальной», что она ничем принципиально не отличалась от европейской или американской жизни ХХ века. «Да нормально мы жили» - присказка каких-нибудь фанатов советского теперь становится идеологией. Убедить в этой нормальности можно как раз за счет общепризнанных Довлатова, Бродского и Высоцкого. Та же «новая нормальность» исподволь внушалась, когда ко Дню Москвы в прошлом году появилась серия плакато в «Москва созидает» с изображением Марины Цветаевой, Бориса Пастернака или академика Николая Вавилова, без указаний на то, при каких трагических обстоятельствах им пришлось «созидать».
Но если тут примирение «антисоветского с советским» выглядит схематично, то в кино и сериалах последних лет это осуществляется с помощью более тонких механизмов. Одна из главных находок последних десятилетий - выражение «погружение в эпоху». Мы слышим эту фразу от продюсеров уже лет десять; на вопрос «Что вы хотели сказать тем или иным сериалом?» они отвечают стандартной фразой: «Мы хотели передать аромат эпохи». Это означает: мы отказываемся от критического осмысления эпохи, превращая ее в музей. А тех, кто из этой эпохи всеми силами выбивался, выламывался, сегодня насильно запихивают обратно. Это не что иное, как посмертное превращение «я» обратно в «мы», растворение, посмертная их «женитьба» на советской власти - с помощью кино. Характерно похожи сюжеты фильмов «Высоцкий. Спасибо, что живой» Петра Буслова и «Конец прекрасной эпохи» Станислава Говорухина по произведениям Довлатова. Оба фильма демонстрируют, как свободно жилось Высоцкому и Довлатову, как разрешалось им то, что обычным гражданам не позволялось, не говоря уже о том, что спецслужбы в таких фильмах обычно бескорыстно помогают писателям или артистам. У Говорухина так и вовсе главная мысль, что советская власть была безобидной, люди сами писали доносы друг на друга и все испортили.
Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего, который покажут в эти дни на Берлинском кинофестивале, в художественном отношении, конечно, гораздо более совершенен. Авторы показывают нам шесть обычных дней ноября 1971 года из жизни Довлатова, перед его отъездом в Таллин. Но и тут режиссер не скрывает, что хотел заодно «показать эпоху». Это, вероятно, своего рода охранная грамота, род компромисса, на который должен идти художник сегодня. Результатом является какое-то вполне умиротворенное «растворение» Довлатова и Бродского в обычной советской жизни. В фильме они работают, пишут статьи и делают переводы, читают в кругу интеллигенции, ведут откровенные разговоры. Вот видите, как бы говорит фильм, можно было жить, можно было существовать и так; а кто не мог, тот мог уехать, но это уже личное дело каждого.
Чего тут больше - искреннего убеждения режиссера в том, что «жизнь тогда была честнее» (знаменитый военный фильм его отца Алексея Германа-старшего «Проверка на дорогах» пролежал на полке 15 лет по цензурным соображениям), или игры по нынешним правилам, согласно которым, критикуя советскую власть, нужно обязательно показывать и «хорошее»? Этого мы в ближайшее время, конечно же, не узнаем.
Запрещенный прием - задавать в таких случаях вопрос «Что бы сами творцы сказали, будь они живы?». Ответить на него невозможно в силу понятных причин. Но в том, что касается советского времени, их ответ мы знаем: они и сами отвечали на него, кто мог, и это было общим местом, единственным компромиссом для советского человека 1970-х: жить, не замечая советской власти. Наивность этой позиции сегодня ясна, но когда-то это была единственная возможная и выстраданная, вымученная позиция, требующая известных жертв. Теперь же эта позиция преподносится нам в качестве одного из готовых вариантов существования, которые сама система якобы предоставляла на выбор. Именно в этом и состоит искажение жизненной правды. С помощью этих фильмов затемняется собственно основная проблема любого человека в СССР, не только творца: недостаток свободы, который искажает саму человеческую природу. И если для большинства это не было проблемой (так, по крайней мере, нам сегодня внушают), то наши герои это ощущали в качестве главной травмы всей жизни. И именно эта травма вымывается сегодня из их новой, официальной биографии - по чуть-чуть, малыми дозами, разными способами, превращаясь постепенно в бытовую, неважную, второстепенную проблему. Еще чуть-чуть - и песня Высоцкого «Охота на волков» в массовом сознании будет означать буквально охоту на волков.
«Нормальная была жизнь» - вот в итоге что внушается. Попытка в рамках современной идеологии примирить советское и антисоветское за счет механического сращивания противоположностей. Схема эта искусственная и оттого не работающая. Постсоветский общественный консенсус в Восточной Европе, например, строится именно на признании порочности самой природы тоталитаризма, и никакие формальные или ситуативные «достоинства» системы не могут служить оправданием. Примирение возможно только на общем признании утопичности, тупиковости попыток сделать людей счастливыми насильно. Правда состоит в том, что существование человека в тоталитарном обществе было «анормальным» - с общечеловеческой точки зрения и, кстати, даже с точки зрения нынешней официальной российской. Но сказать это сегодня вслух, тем более в кино - значит нарушить одно из основных негласных табу. И вместо разговора со зрителем на важнейшую тему - о свободе и несвободе - раз за разом будут рождаться гибриды про «аромат» очередной эпохи, каждая из которых умела давить людей как-то неповторимо и с особым вкусом.
Бродский создал неслыханную модель поведения. Он жил не в пролетарском государстве, а в монастыре собственного духа. Он не боролся с режимом. Он его не замечал. И даже нетвердо знал о его существовании. Его неосведомленность в области советской жизни казалась притворной. Например, он был уверен, что Дзержинский - жив. И что "Коминтерн" - название музыкального ансамбля. Он не узнавал членов Политбюро ЦК. Когда на фасаде его дома укрепили шестиметровый портрет Мжаванадзе, Бродский сказал:
- Кто это? Похож на Уильям Блейка.
"Он не первый. Он, к сожалению, единственный".
У Бродского есть такие строки:
"Ни страны, ни погоста,
Не хочу выбирать,
На Васильевский остров
Я приду умирать..."
Однажды знакомый спросил у Грубина:
— Не знаешь, где живет Бродский?
— Где живет, не знаю. Но умирать ходит на Васильевский остров.
Помню, Иосиф Бродский высказывался следующим образом:
- Ирония есть нисходящая метафора.
Я удивился:
- Что значит нисходящая метафора?
- Объясняю, - сказал Иосиф, - вот послушайте. "Ее глаза как бирюза" - это восходящая метафора. А "ее глаза как тормоза" - это нисходящая метафора.
Бродский перенес тяжелую операцию на сердце. Я навестил его в госпитале. Должен сказать, что Бродский меня и в нормальной обстановке подавляет. А тут я совсем растерялся.
Лежит Иосиф - бледный, чуть живой. Кругом аппаратура, провода и циферблаты.
И вот я произнес что-то совсем неуместное:
- Вы тут болеете, и зря. А Евтушенко между тем выступает против колхозов...
Действительно, что-то подобное имело место. Выступление Евтушенко на московском писательском съезде было довольно решительным.
Вот я и сказал:
- Евтушенко выступил против колхозов...
Бродский еле слышно ответил:
- Если он против, я - за.
Найман и Бродский шли по Ленинграду. Дело было ночью.
- Интересно, где Южный Крест? - спросил вдруг Бродский.
(Как известно, Южный Крест находится в соответствующем полушарии.)
Найман сказал:
- Иосиф! Откройте словарь Брокгауза и Эфрона. Найдите там букву "А". Поищите слово "Астрономия".
Бродский ответил:
- Вы тоже откройте словарь на букву "А". И поищите там слово "Астроумие".
Писателя Воскобойникова обидели американские туристы. Непунктуально вроде бы себя повели. Не явились в гости. Что-то в этом роде.
Воскобойников надулся:
- Я, - говорит, - напишу Джону Кеннеди письмо. Мол, что это за люди, даже не позвонили.
А Бродский ему и говорит:
- Ты напиши "до востребования". А то Кеннеди ежедневно бегает на почту и все жалуется: "Снова от Воскобойникова ни звука!.."
Сидели мы как-то втроем - Рейн, Бродский и я. Рейн, между прочим, сказал:
- Точность - это великая сила. Педантической точностью славились Зощенко, Блок, Заболоцкий. При нашей единственной встрече Заболоцкий сказал мне: "Женя, знаете, чем я победил советскую власть? Я победил ее своей точностью!"
Бродский перебил его:
- Это в том смысле, что просидел шестнадцать лет от звонка до звонка?!
Дело было лет пятнадцать назад. Судили некоего Лернера. Того самого Лернера, который в 69 году был знаменитым активистом расправы над Бродским.
Судили его за что-то позорное. Кажется, за подделку орденских документов.
И вот объявлен приговор - четыре года.
И тогда произошло следующее. В зале присутствовал искусствовед Герасимов. Это был человек, пишущий стихи лишь в минуты абсолютной душевной гармонии. То есть очень редко. Услышав приговор, он встал. Сосредоточился.
Затем отчетливо и громко выкрикнул:
"Бродский в Мичигане,
Лернер в Магадане!"
Двадцать пять лет назад вышел сборник Галчинского. Четыре стихотворения в нем перевел Иосиф Бродский.
Раздобыл я эту книжку. Встретил Бродского. Попросил его сделать автограф.
Иосиф вынул ручку и задумался. Потом он без напряжения сочинил экспромт:
Дарит Сержу переводчик".
Я был польщен. На моих глазах было создано короткое изящное
стихотворение.
Захожу вечером к Найману. Показываю книжечку и надпись. Найман достает свой экземпляр. На первой странице читаю:
"Двести восемь польских строчек
Дарит Толе переводчик".
У Евгения Рейна, в свою очередь, был экземпляр с надписью:
"Двести восемь польских строчек
Дарит Жене переводчик".
Все равно он гений.
Иосиф Бродский (на книге стихов, подаренной Михаилу Барышникову):
Пусть я - Аид, а он - всего лишь - гой,
И профиль у него совсем другой,
И все же я не сделаю рукой
Того, что может сделать он ногой!"
Бродский о книге Ефремова:
- Как он решился перейти со второго абзаца на третий?!