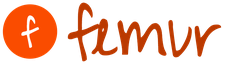Действие I - III. А.Н.Островский
Пьеса Островского «Гроза» была написана в 1859 году. Замысел произведения появился у писателя в середине лета, а 9 октября 1859 года работа уже была окончена. Это не классицистическая, а реалистическая пьеса. Конфликт представляет собой столкновение «тёмного царства» с потребностью в новой жизни. Произведение вызвало большой резонанс не только в театральной, но и в литературной среде. Прототипом главной героини стала актриса театра Любовь Косицкая, которая впоследствии и сыграла роль Катерины.
Фабула пьесы представляет собой эпизод из жизни семьи Кабановых, а именно – встречу и последующую за ней измену жены с приехавшим в город молодым человеком. Это событие и становится фатальным не только для самой Катерины, но и для всей семьи. Чтобы лучше узнать о конфликте и сюжетных линиях, вы можете прочитать краткое содержание «Гроза» по главам, которое представлено ниже.
Главные герои
Катерина – молодая девушка, жена Тихона Кабанова. Скромная, чистая, правильная. Она остро чувствует несправедливость окружающего мира.
Борис – молодой человек, «порядочно образованный», приехал к своему дяде, Савлу Прокофьевичу Дикому. Влюблён в Катерину.
Кабаниха (Марфа Игнатьевна Кабанова) – богатая купчиха, вдова. Властная и деспотичная женщина, подчиняет людей своей воле.
Тихон Кабанов – сын Кабанихи и муж Катерины. Поступает так, как будет угодно его матери, не имеет своего мнения.
Другие персонажи
Варвара – дочь Кабанихи. Своевольная девушка, которая не боится матери.
Кудряш – возлюбленный Варвары.
Дикой Савел Прокофьевич – купец, важное лицо в городе. Грубый и невоспитанный человек.
Кулигин – мещанин, одержимый идеями прогресса.
Барыня – полусумасшедшая.
Феклуша – странница.
Глаша – служанка Кабановых.
Действие 1
Кудряш и Кулигин говорят о красоте природы, но их мнения различны. Для Кудряша пейзажи – ничто, а Кулигина они приводят в восторг. Издалека мужчины видят Бориса и Дикого, который активно размахивает руками. Они начинают сплетничать о Савле Прокофьевиче. К ним подходит Дикой. Он недоволен появлением в городе своего племянника, Бориса, и не хочет с ним разговаривать. Из разговора Бориса с Савлом Прокофьевичем становится понятно, что кроме Дикого, у Бориса и его сестры из родственников никого больше не осталось.
Чтобы получить наследство после смерти бабки, Борис вынужден наладить хорошие отношения со своим дядей, однако тот не хочет отдавать деньги, которые бабка Бориса завещала внуку.
Борис, Кудряш и Кулигин обсуждают тяжёлый характер Дикого. Борис признаётся, что ему трудно быть в городе Калиново, ведь он не знает здешних обычаев. Кулигин считает, что тут нельзя заработать честным трудом. Но если бы у Кулигина были деньги, мужчина потратил бы их на благо человечеству, собрав перпету-мобиле. Появляется Феклуша, нахваливая купечество и жизнь в целом, приговаривая: «на земле обетованной живём…».
Борису жаль Кулигина, он понимает, что мечты изобретателя о том, чтобы создавать полезные для общества механизмы, навсегда останутся лишь мечтами. Сам Борис не хочет загубить свою молодость в этом захолустье: «загнан, забит, да ещё и сдуру-то влюбляться вздумал…» в ту, с которой и поговорить не удалось. Этой девушкой оказывается Катерина Кабанова.
На сцене Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.
Кабанов говорит с матерью. Этот диалог показан как типичная беседа в этой семье. Тихону надоели нравоучения матери, но он всё равно лебезит перед ней. Кабаниха просит признать сына, что жена ему стала важнее матери, будто Тихон вскоре и вовсе перестанет уважать мать. Катерина, присутствуя при этом, отрицает слова Марфы Игнатьевны. Кабанова с удвоенной силой начинает наговаривать на себя, чтобы окружающие переубеждали её в обратном. Кабанова называет себя помехой супружеской жизни, но в её словах нет искренности. Уже через мгновение она берёт ситуацию под свой контроль, обвиняя сына в слишком мягком характере: «Посмотри на себя! Станет ли тебя жена бояться после этого?»
В этой фразе виден не только её властный характер, но и отношение к невестке и семейной жизни в целом.
Кабанов признаёт, что у него нет собственной воли. Марфа Игнатьевна уходит. Тихон жалуется на жизнь, упрекая во всём деспотичную мать. Варвара, его сестра, отвечает, что Тихон сам в ответе за свою жизнь. После этих слов Кабанов уходит выпить к Дикому.
Катерина и Варвара разговаривают по душам. «Мне иногда кажется, что я птица» – так характеризует себя Катя. Она совсем завяла в этом обществе. Особенно хорошо это прослеживается на фоне её жизни до замужества. Катерина много времени проводила с мамой, помогала ей, гуляла: «я жила, ни об чём не тужила, точно птичка на воле». Катерина чувствует приближение смерти; признаётся, что больше не любит своего мужа. Варвара обеспокоена состоянием Кати, и, чтобы улучшить её настроение, Варвара решает устроить Катерине встречу с другим человеком.
На сцене появляется Барыня, она указывает на Волгу: «Вот красота-то куда ведёт. В самый омут». Её слова окажутся пророческими, хотя в городе её предсказаниям никто не верит. Катерина испугалась сказанных старой женщиной слов, но Варвара скептически отнеслась к ним, так как Барыня во всём видит гибель.
Кабанов возвращается. В то время замужним женщинам нельзя было разгуливать в одиночестве, поэтому Кате пришлось его дожидаться, чтобы уйти домой.
Действие 2
Варвара видит причину страданий Катерины в том, что Катино сердце «ещё не уходилось», ведь девушку рано выдали замуж. Катерине жалко Тихона, но других чувств к нему у неё нет. Варвара давно это подметила, но просит скрывать правду, потому что ложь – основа существования семьи Кабановых. Катерина не привыкла жить нечестно, поэтому говорит, что уйдёт от Кабанова, если больше не сможет быть с ним.
Кабанову нужно срочно уехать на две недели. Карета уже готова, вещи собраны, осталось только попрощаться с родными. Тихон приказывает Катерине слушаться маменьку, повторяя фразы за Кабанихой: «скажи, чтобы не грубила свекрови…, чтобы почитала свекровь, как родную мать, …чтобы сложа руки не сидела,… чтобы на молодых парней не заглядывалась!» Эта сцена была унизительна и для Тихона, и для его жены. Слова о других мужчинах смущают Катю. Она просит мужа остаться или же взять её с собой. Кабанов отказывает жене и ему неловко за фразу матери о других мужчинах и Катерине. Девушка предчувствует надвигающуюся беду.
Тихон, прощаясь, кланяется матери в ноги, исполняя её волю. Кабанихе не нравится, что Катерина попрощалась с мужем объятиями, ведь мужчина в семье главный, а она с ним вровень стала. Девушке приходится кланяться Тихону в ноги.
Марфа Игнатьевна говорит, что нынешнее поколение совсем не знает порядков. Кабаниха недовольна, что Катерина не плачет после отъезда мужа. Хорошо, когда в доме есть старшие: они могут научить. Она надеется не дожить до времени, когда все старики перемрут: «на чём свет стоять будет – не знаю…»
Катя остаётся одна. Ей нравится тишина, но одновременно она её пугает. Тишина для Катерины становится не отдыхом, а скукой. Катя жалеет, что у неё нет детей, ведь она могла бы быть хорошей матерью. Катерина вновь думает о полётах и свободе. Девушка представляет как могла бы сложиться её жизнь: «я начну работу какую-нибудь по обещанию; пойду в гостиный двор, куплю холста, да и буду шить белье, а потом раздам бедным. Они за меня богу помолят». Варвара уходит гулять, сообщая, что сменила замок на калитке в саду. С помощью этой маленькой хитрости Варвара хочет устроить Катерине встречу с Борисом. Катерина винит в своих несчастиях Кабаниху, но тем не менее не желает поддаваться «греховному искушению» и тайно встречаться с Борисом. Ей не хочется идти на поводу у своих чувств и нарушать священные узы брака.
Сам Борис так же не хочет идти против правил морали, он не уверен, что Катя испытывает к нему похожие чувства, но всё равно желает увидеть девушку вновь.
Действие 3
Феклуша и Глаша беседуют о моральных устоях. Они рады, что дом Кабанихи – последний «рай» на земле, ведь у остальных жителей города настоящий «содом». Говорят они и о Москве. С точки зрения провинциалок, Москва – слишком суетливый город. Всё и все там словно в тумане, оттого и уставшие ходят, а в лицах печаль.
Заходит пьяный Дикой. Он просит Марфу Игнатьевну поговорить с ним, чтобы облегчить душу. Он недоволен тем, что все постоянно просят у него денег. Особенно Дикого раздражает его племянник. В это время около дома Кабановых проходит Борис, он ищет своего дядю. Борис жалеет, что, будучи так близко к Катерине, не может её увидеть. Кулигин приглашает Бориса на прогулку. Молодые люди ведут разговор о бедных и богатых. С точки зрения Кулигина, богатые закрываются в своих домах для того, чтобы другие не видели их насилия над родственниками.
Они видят Варвару, которая целуется с Кудряшом. Она же и сообщает Борису о месте и времени предстоящей встречи с Катей.
Ночью в овраге под садом Кабановых Кудряш поёт песню о козаке. Борис рассказывает ему о своих чувствах к замужней девушке, Екатерине Кабановой. Варвара и Кудряш уходят на берег Волги, оставляя Бориса дожидаться Катю.
Катерина напугана происходящим, девушка прогоняет Бориса, но тот успокаивает её. Катерина ужасно нервничает, сознаётся, что своей воли у неё нет, ведь «теперь над ней воля…» Бориса. В порыве чувств она обнимает молодого человека: «коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?» Молодые признаются друг другу в любви.
Час расставания близок, так как скоро может проснуться Кабаниха. Влюблённые договариваются встретиться на следующий день. Неожиданно возвращается Кабанов.
Действие 4
(события разворачиваются спустя 10 дней после третьего действия)
Жители города гуляют по галерее с видом на Волгу. Видно, что надвигается гроза. На стенах разрушенной галереи можно различить очертания картины геенны огненной, изображение битвы под Литвой. Кулигин и Дикой разговаривают на повышенных тонах. Кулигин воодушевлённо рассказывает о благом деле для всех, просит Савла Прокофьевича помочь ему. Дикой отказывает достаточно грубо: «так знай, что ты червяк. Захочу – помилую, захочу – раздавлю». Он не понимает ценности изобретения Кулигина, а именно громоотвода, с помощью которого можно будет получать электричество.
Все уходят, сцена пуста. Вновь слышен раскат грома.
Катерина всё больше предчувствует, что скоро умрёт. Кабанов, замечая странное поведение жены, просит ту покаяться во всех грехах, но этот разговор быстро заканчивает Варвара. Из толпы выходит Борис, здоровается с Тихоном. Катерина бледнеет ещё больше. Кабаниха может что-то заподозрить, поэтому Варвара подаёт сигнал Борису, чтобы тот ушёл.
Кулигин призывает не бояться стихии, ведь убивает не она, а благодать. Тем не менее жители продолжают обсуждать надвигающуюся бурю, которая «даром не пройдёт». Катя говорит мужу, что сегодня её убьёт гроза. Ни Варвара, ни Тихон не понимают внутренних мучений Катерины. Варвара советует успокоиться и помолиться, а Тихон предлагает пойти домой.
Появляется Барыня, обращается к Кате со словами: «Куда прячешься, глупая? От Бога не уйдёшь! …в омут лучше с красотой-то! Да скорей!» В исступлении Катерина признаётся в своём грехе и мужу и свекрови. Все те десять дней, когда мужа не было дома, Катя тайно встречалась с Борисом.
Действие 5
Кабанов и Кулигин обсуждают признание Катерины. Часть вины Тихон опять перекладывает на Кабаниху, которая хочет закопать Катю живьём. Кабанов мог бы простить жену, но боится гнева матери. Семья Кабановых рассыпалась окончательно: даже Варвара сбежала с Кудряшом.
Глаша сообщает о пропаже Катерины. Все отправляются на поиски девушки.
Катерина на сцене одна. Она думает, что погубила и себя, и Бориса. Катя не видит причин жить дальше, просит прощения и зовёт возлюбленного. Борис пришёл на зов девушки, он нежен и ласков с ней. Но Борису нужно уезжать в Сибирь, а Катю он взять с собой не может. Девушка просит его подавать милостыню нуждающимся и молиться за свою душу, убеждая, что не задумала ничего плохого. После прощания с Борисом Катерина бросается в реку.
Люди кричат, что какая-то девушка сбросилась с берега в воду. Кабанов понимает, что это была его жена, поэтому хочет прыгнуть вслед за ней. Кабаниха останавливает сына. Кулигин приносит тело Катерины. Она так же прекрасна, как была при жизни, появилась только лишь небольшая капля крови на её виске. «Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед судией, который милосерднее вас!»
Пьеса завершается словами Тихона: «Хорошо тебе, Катя! А я зачем-то остался жить на свете да мучиться!».
Заключение
Произведение «Гроза» Островского А. Н. можно назвать одной из главных пьес среди всего творческого пути писателя. Социально-бытовая тематика, безусловно, была близка зрителю того времени, как близка и сегодня. Однако на фоне всех этих деталей разворачивается непросто драма, а настоящая трагедия, завершающаяся смертью главной героини. Сюжет, на первый взгляд, незамысловат, но только лишь чувствами Катерины к Борису, романом «Гроза» не ограничивается. Параллельно можно проследить несколько сюжетных линий, а, соответственно, и несколько конфликтов, которые реализуются на уровне второстепенных персонажей. Такая особенность пьесы полностью соответствует реалистическим принципам обобщения.
Из пересказа «Грозы» легко можно сделать вывод о природе конфликта и содержании, однако для более подробного понимания текста рекомендуем ознакомиться с полным вариантом произведения.
Тест по пьесе «Гроза»
После прочтения краткого содержания вы можете проверить свои знания, пройдя этот тест.
Рейтинг пересказа
Средняя оценка: 4.7 . Всего получено оценок: 18024.
А.Н.Островский
(1823-1886)
Гроза
Драма в пяти действиях
Лица :
Савел Прокофьевич Дикой,
купец, значительное лицо в городе.
Борис Григорьевич,
племянник его, молодой человек, порядочно образованный.
Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха),
богатая купчиха, вдова.
Тихон Иваныч Кабанов,
ее сын.
Катерина,
жена его.
Варвара,
сестра Тихона.
Кулигин,
мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум-мобиле.
Ваня Кудряш,
молодой человек, конторщик Дикова.
Шапкин,
мещанин.
Феклуша,
странница.
Глаша,
девка в доме Кабановой.
Барыня с двумя лакеями,
старуха 70-ти лет, полусумасшедшая.
Городские жители обоего пола.
* Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски.
Действие происходит в городе Калинове, на берегу Волги, летом. Между 3-м и 4-м действиями происходит 10 дней.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Общественный сад на высоком берегу Волги, за Волгой сельский вид. На сцене две скамейки и несколько кустов.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Кулигин сидит на скамье и смотрит за реку. Кудряш и Шапкин прогуливаются.
К у л и г и н (поет). "Среди долины ровныя, на гладкой высоте..." (Перестает петь.) Чудеса, истинно надобно сказать, что чудеса! Кудряш! Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу.
К у д р я ш. А что?
К у л и г и н. Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется.
К у д р я ш. Нешто!
К у л и г и н. Восторг! А ты "нешто"! Пригляделись вы либо не понимаете, какая красота в природе разлита.
К у д р я ш. Ну, да ведь с тобой что толковать! Ты у нас антик, химик.
К у л и г и н. Механик, самоучка-механик.
К у д р я ш. Все одно.
Молчание.
К у л и г и н (показывает в сторону). Посмотри-ка, брат Кудряш, кто это там так руками размахивает?
К у д р я ш. Это? Это Дикой племянника ругает.
К у л и г и н. Нашел место!
К у д р я ш. Ему везде место. Боится, что ль, он кого! Достался ему на жертву Борис Григорьич, вот он на нем и ездит.
Ш а п к и н. Уж такого-то ругателя, как у нас Савел Прокофьич, поискать еще! Ни за что человека оборвет.
К у д р я ш. Пронзительный мужик!
Ш а п к и н. Хороша тоже и Кабаниха.
К у д р я ш. Ну, да та хоть, по крайности, все под видом благочестия, а этот как с цепи сорвался!
Ш а п к и н. Унять-то его некому, вот он и воюет!
К у д р я ш. Мало у нас парней-то на мою стать, а то бы мы его озорничать-то отучили.
Ш а п к и н. А что бы вы сделали?
К у д р я ш. Постращали бы хорошенько.
Ш а п к и н. Как это?
К у д р я ш. Вчетвером этак, впятером в переулке где-нибудь поговорили бы с ним с глазу на глаз, так он бы шелковый сделался. А про нашу науку-то и не пикнул бы никому, только бы ходил да оглядывался.
Ш а п к и н. Недаром он хотел тебя в солдаты-то отдать.
К у д р я ш. Хотел, да не отдал, так это все одно, что ничего. Не отдаст он меня: он чует носом-то своим, что я свою голову дешево не продам. Это он вам страшен-то, а я с ним разговаривать умею.
Ш а п к и н. Ой ли?
К у д р я ш. Что тут: ой ли! Я грубиян считаюсь; за что ж он меня держит? Стало быть, я ему нужен. Ну, значит, я его и не боюсь, а пущай же он меня боится.
Ш а п к и н. Уж будто он тебя и не ругает?
К у д р я ш. Как не ругать! Он без этого дышать не может. Да не спускаю и я: он слово, а я десять; плюнет, да и пойдет. Нет, уж я перед ним рабствовать не стану.
К у л и г и н. С него, что ль, пример брать! Лучше уж стерпеть.
К у д р я ш. Ну вот, коль ты умен, так ты его прежде учливости-то выучи, да потом и нас учи. Жаль, что дочери-то у него подростки, больших-то ни одной нет.
Ш а п к и н. А то что бы?
К у д р я ш. Я б его уважил. Больно лих я на девок-то!
Проходят Дикой и Борис, Кулигин снимает шапку.
Ш а п к и н (Кудряшу). Отойдем к сторонке: еще привяжется, пожалуй.
Отходят.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Те же. Дикой и Борис.
Д и к о й. Баклуши ты, что ль, бить сюда приехал? Дармоед! Пропади ты пропадом!
Б о р и с. Праздник; что дома-то делать.
Д и к о й. Найдешь дело, как захочешь. Раз тебе сказал, два тебе сказал: "Не смей мне навстречу попадаться"; тебе все неймется! Мало тебе места-то? Куда ни поди, тут ты и есть! Тьфу ты, проклятый! Что ты, как столб, стоишь-то? Тебе говорят аль нет?
Б о р и с. Я и слушаю, что ж мне делать еще!
Д и к о й (посмотрев на Бориса). Провались ты! Я с тобой и говорить-то не хочу, с езуитом. (Уходя.) Вот навязался! (Плюет и уходит.)
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
К у л и г и н, Борис, Кудряш и Шапкин.
К у л и г и н. Что у вас, сударь, за дела с ним? Не поймем мы никак. Охота вам жить у него да брань переносить.
Б о р и с. Уж какая охота, Кулигин! Неволя.
К у л и г и н. Да какая же неволя, сударь, позвольте вас спросить? Коли можно, сударь, так скажите нам.
Б о р и с. Отчего ж не сказать? Знали бабушку нашу, Анфису Михайловну?
К у л и г и н. Ну, как не знать!
К у д р я ш. Как не знать!
Б о р и с. Батюшку она ведь невзлюбила за то, что он женился на благородной. По этому-то случаю батюшка с матушкой и жили в Москве. Матушка рассказывала, что она трех дней не могла ужиться с родней, уж очень ей дико казалось.
К у л и г и н. Еще бы не дико! Уж что говорить! Большую привычку нужно, сударь, иметь.
Б о р и с. Воспитывали нас родители в Москве хорошо, ничего для нас не жалели. Меня отдали в Коммерческую академию, а сестру в пансион, да оба вдруг и умерли в холеру, мы с сестрой сиротами и остались. Потом мы слышим, что и бабушка здесь умерла и оставила завещание, чтобы дядя нам выплатил часть, какую следует, когда мы придем в совершеннолетие, только с условием.
К у л и г и н. С каким же, сударь?
Б о р и с. Если мы будем к нему почтительны.
К у л и г и н. Это значит, сударь, что вам наследства вашего не видать никогда.
Б о р и с. Да нет, этого мало, Кулигин! Он прежде наломается над нами, надругается всячески, как его душе угодно, а кончит все-таки тем, что не даст ничего или так, какую-нибудь малость. Да еще станет рассказывать, что из милости дал, что и этого бы не следовало.
К у д р я ш. Уж это у нас в купечестве такое заведение. Опять же, хоть бы вы и были к нему почтительны, нешто кто ему запретит сказать-то, что вы непочтительны?
Б о р и с. Ну да. Уж он и теперь поговаривает иногда: "У меня свои дети, за что я чужим деньги отдам? Через это я своих обидеть должен!"
К у л и г и н. Значит, сударь, плохо ваше дело.
Б о р и с. Кабы я один, так бы ничего! Я бы бросил все да уехал. А то сестру жаль. Он было и ее выписывал, да матушкины родные не пустили, написали, что больна. Какова бы ей здесь жизнь была – и представить страшно.
К у д р я ш. Уж само собой. Нешто они обращение понимают!
К у л и г и н. Как же вы у него живете, сударь, на каком положении?
Б о р и с. Да ни на каком. "Живи, – говорит, – у меня, делай, что прикажут, а жалованья, что положу". То есть через год разочтет, как ему будет угодно.
К у д р я ш. У него уж такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей о жалованье, изругает на чем свет стоит. "Ты, – говорит, – почему знаешь, что я на уме держу? Нешто ты мою душу можешь знать? А может, я приду в такое расположение, что тебе пять тысяч дам". Вот ты и поговори с ним! Только еще он во всю свою жизнь ни разу в такое-то расположение не приходил.
К у л и г и н. Что ж делать-то, сударь! Надо стараться угождать как-нибудь.
Б о р и с. В том-то и дело, Кулигин, что никак невозможно. На него и свои-то никак угодить не могут; а уж где ж мне?
К у д р я ш. Кто ж ему угодит, коли у него вся жизнь основана на ругательстве? А уж пуще всего из-за денег; ни одного расчета без брани не обходится. Другой рад от своего отступиться, только бы унялся. А беда, как его поутру кто-нибудь рассердит! Целый день ко всем придирается.
Б о р и с. Тетка каждое утро всех со слезами умоляет: "Батюшки, не рассердите! Голубчики, не рассердите!"
К у д р я ш. Да нешто убережешься! Попал на базар, вот и конец! Всех мужиков переругает. Хоть в убыток проси, без брани все-таки не отойдет. А потом и пошел на весь день.
Ш а п к и н. Одно слово: воин!
К у д р я ш. Еще какой воин-то!
Б о р и с. А вот беда-то, когда его обидит такой человек, которого не обругать не смеет; тут уж домашние держись!
К у д р я ш. Батюшки! Что смеху-то было! Как-то его на Волге на перевозе гусар обругал. Вот чудеса-то творил!
Б о р и с. А каково домашним-то было! После этого две недели все прятались по чердакам да по чуланам.
К у л и г и н. Что это? Никак, народ от вечерни тронулся?
Проходят несколько лиц в глубине сцены.
К у д р я ш. Пойдем, Шапкин, в разгул! Что тут стоять-то?
Кланяются и уходят.
Б о р и с. Эх, Кулигин, больно трудно мне здесь, без привычки-то. Все на меня как-то дико смотрят, точно я здесь лишний, точно мешаю им. Обычаев я здешних не знаю. Я понимаю, что все это наше русское, родное, а все-таки не привыкну никак.
К у л и г и н. И не привыкнете никогда, сударь.
Б о р и с. Отчего же?
К у л и г и н. Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать. Знаете, что ваш дядюшка, Савел Прокофьич, городничему отвечал? К городничему мужички пришли жаловаться, что он ни одного из них путем не разочтет. Городничий и стал ему говорить: "Послушай, – говорит, – Савел Прокофьич, рассчитывай ты мужиков хорошенько! Каждый день ко мне с жалобой ходят!" Дядюшка ваш потрепал городничего по плечу да и говорит: "Стоит ли, ваше высокоблагородие, нам с вами о таких пустяках разговаривать! Много у меня в год-то народу перебывает; вы то поймите: не доплачу я им по какой-нибудь копейке на человека, у меня из этого тысячи составляются, так оно; мне и хорошо!" Вот как, сударь! А между собой-то, сударь, как живут! Торговлю друг у друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на друга; залучают в свои высокие-то хоромы пьяных приказных, таких, сударь, приказных, что и виду-то человеческого на нем нет, обличье-то человеческое потеряно. А те им за малую благостыню на гербовых листах злостные кляузы строчат на ближних. И начнется у них, сударь, суд да дело, и несть конца мучениям. Судятся, судятся здесь да в губернию поедут, а там уж их и ждут да от, радости руками плещут. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; водят их, водят, волочат их, волочат, а они еще и рады этому волоченью, того только им и надобно. "Я, – говорит, – потрачусь, да уж и ему станет в копейку". Я было хотел все это стихами изобразить...
Б о р и с. А вы умеете стихами?
К у л и г и н. По-старинному, сударь. Поначитался-таки Ломоносова, Державина... Мудрец был Ломоносов, испытатель природы... А ведь тоже из нашего, из простого звания.
Б о р и с. Вы бы и написали. Это было бы интересно.
К у л и г и н. Как можно, сударь! Съедят, живого проглотят. Мне уж и так, сударь, за мою болтовню достается; да не могу, люблю разговор рассыпать! Вот еще про семейную жизнь хотел я вам, сударь, рассказать; да когда-нибудь в другое время. А тоже есть что послушать.
Входят Феклуша и другая женщина.
Ф е к л у ш а. Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Да что уж говорить! В обетованной земле живете! И купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный! Щедростью и подаяниями многими! Я так довольна, так, матушка, довольна, по горлышко! За наше неоставление им еще больше щедрот приумножится, а особенно дому Кабановых.
Уходят.
Б о р и с. Кабановых?
К у л и г и н. Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела совсем.
Молчание.
Только б мне, сударь, перпету-мобиль найти!
Б о р и с. Что ж бы вы сделали?
К у л и г и н. Как же, сударь! Ведь англичане миллион дают; я бы все деньги для общества и употребил, для поддержки. Работу надо дать мещанству-то. А то руки есть, а работать нечего.
Б о р и с. А вы надеетесь найти перпетуум-мобиле?
К у л и г и н. Непременно, сударь! Вот только бы теперь на модели деньжонками раздобыться. Прощайте, сударь! (Уходит.)
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Б о р и с (один). Жаль его разочаровывать-то! Какой хороший человек! Мечтает себе – и счастлив. А мне, видно, так и загубить свою молодость в этой трущобе. Уж ведь совсем убитый хожу, а тут еще дурь в голову лезет! Ну, к чему пристало! Мне ли уж нежности заводить? Загнан, забит, а тут еще сдуру-то влюбляться вздумал. Да в кого? В женщину, с которой даже и поговорить-то никогда не удастся! (Молчание.) К все-таки нейдет она у меня из головы, хоть ты что хочешь. Вот она! Идет с мужем, ну, и свекровь с ними! Ну, не дурак ли я? Погляди из-за угла да и ступай домой. (Уходит.)
С противоположной стороны входят Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.
К а б а н о в а. Если ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала.
К а б а н о в. Да как же я могу, маменька, вас ослушаться!
К а б а н о в а. Не очень-то нынче старших уважают.
В а р в а ра (про себя). Не уважишь тебя, как же!
К а ба н о в. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг.
К а б а н о в а. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видала да своими ушами не сдыхала, каково теперь стало почтение родителям от детей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болезней от детей переносят.
К а б а н о в. Я, маменька...
К а б а н о в а. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажет, так, я думаю, можно бы перенести! А, как ты думаешь?
К а б а н о в. Да когда же я, маменька, не переносил от вас?
К а б а н о в а. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны с нас, дураков, и взыскивать.
К а б а н о в (вздыхая, в сторону). Ах ты, господи. (Матери.) Да смеем ли мы, маменька, подумать!
К а б а н о в а. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, все думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не дает, со свету сживает. А сохрани господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и пошел разговор, что свекровь заела совсем.
К а б а н о в. Нешто, маменька, кто говорит про вас?
К а б а н о в а. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила. (Вздыхает.) Ох, грех тяжкий! Вот долго ли согрешить-то! Разговор близкий сердцу пойдет, ну и согрешишь, рассердишься. Нет, мой друг, говори что хочешь про меня. Никому не закажешь говорить: в глаза не посмеют, так за глаза станут.
К а б а н о в. Да отсохни язык...
К а б а н о в а. Полно, полно, не божись! Грех! Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. С тех пор как женился, я уж от тебя прежней любви не вижу.
К а б а н о в. В чем же вы, маменька, это видите?
К а б а н о в а. Да во всем, мой друг! Мать чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун, она сердцем может чувствовать. Аль жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не знаю.
К а б а н о в. Да нет, маменька! Что вы, помилуйте!
К а т е р и н а. Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит.
К а б а н о в а. Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Не заступайся, матушка, не обижу небось! Ведь он мне тоже сын; ты этого не забывай! Что ты выскочила в глазах-то поюлить! Чтобы видели, что ли, как ты мужа любишь? Так знаем, знаем, в глазах-то ты это всем доказываешь.
В а р в а р а (про себя). Нашла место наставления читать.
К а т е р и н а. Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Что при людях, что без людей, я все одна, ничего я из себя не доказываю.
К а б а н о в а. Да я об тебе и говорить не хотела; а так, к слову пришлось.
К а т е р и н а. Да хоть и к слову, за что ж ты меня обижаешь?
К а б а н о в а. Эка важная птица! Уж и обиделась сейчас.
К а т е р и н а. Напраслину-то терпеть кому ж приятно!
К а б а н о в а. Знаю я, знаю, что вам не по нутру мои слова, да что ж делать-то, я вам не чужая, у меня об вас сердце болит. Я давно вижу, что вам воли хочется. Ну что ж, дождетесь, поживете и на воле, когда меня не будет. Вот уж тогда делайте что хотите, не будет над вами старших. А может, и меня вспомянете.
К а б а н о в. Да мы об вас, маменька, денно и нощно бога молим, чтобы вам, маменька, бог дал здоровья и всякого благополучия и в делах успеху.
К а б а н о в а. Ну, полно, перестань, пожалуйста. Может быть, ты и любил мать, пока был холостой. До меня ли тебе: у тебя жена молодая.
К а б а н о в. Одно другому не мешает-с: жена само по себе, а к родительнице я само по себе почтение имею.
К а б а н о в а. Так променяешь ты жену на мать? Ни в жизнь я этому не поверю.
К а б а н о в. Да для чего ж мне менять-с? Я обеих люблю.
К а б а н о в а. Ну да, так и есть, размазывай! Уж я вижу, что я вам помеха.
К а б а н о в. Думайте как хотите, на все есть ваша воля; только я не знаю, что я за несчастный такой человек на свет рожден, что не могу вам угодить ничем.
К а б а н о в а. Что ты сиротой-то прикидываешься? Что ты нюни-то распустил? Ну какой ты муж? Посмотри ты на себя! Станет ли тебя жена бояться после этого?
К а б а н о в. Да зачем же ей бояться? С меня и того довольно, что она меня любит.
К а б а н о в а. Как зачем бояться! Как зачем бояться! Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станет бояться, меня и подавно. Какой же это порядок-то в доме будет? Ведь ты, чай, с ней в законе живешь. Али, по-вашему, закон ничего не значит? Да уж коли ты такие дурацкие мысли в голове держишь, ты бы при ней-то, по крайней мере, не болтал да при сестре, при девке; ей тоже замуж идти: этак она твоей болтовни наслушается, так после муж-то нам спасибо скажет за науку. Видишь ты, какой еще ум-то у тебя, а ты еще хочешь своей волей жить.
К а б а н о в. Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Где уж мне своей волей жить!
К а б а н о в а. Так, по-твоему, нужно все лаской с женой? Уж и не прикрикнуть на нее и не пригрозить?
К а б а н о в. Да я, маменька...
К а б а н о в а (горячо). Хоть любовника заводи! А? И это, может быть, по-твоему, ничего? А? Ну, говори!
К а б а н о в. Да, ей-богу, маменька...
К а б а н о в а (совершенно хладнокровно). Дурак! (Вздыхает.) Что с дураком и говорить! Только грех один!
Молчание.
Я домой иду.
К а б а н о в. И мы сейчас, только раз-другой по бульвару пройдем.
К а б а н о в а. Ну, как хотите, только ты смотри, чтобы мне вас не дожидаться! Знаешь, я не люблю этого.
К а б а н о в. Нет, маменька, сохрани меня господи!
К а б а н о в а. То-то же! (Уходит.)
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Те же, без Кабановой.
К а б а н о в. Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достается от маменьки! Вот жизнь-то моя какая!
К а т е р и н а. Чем же я-то виновата?
К а б а н о в. Кто ж виноват, я уж не знаю,
В а р в а р а. Где тебе знать!
К а б а н о в. То все приставала: "Женись да женись, я хоть бы поглядела на тебя на женатого". А теперь поедом ест, проходу не дает – все за тебя.
В а р в а р а. Так нешто она виновата? Мать на нее нападает, и ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену. Скучно мне глядеть-то на тебя! (Отворачивается.)
К а б а н о в. Толкуй тут! Что ж мне делать-то?
В а р в а р а. Знай свое дело – молчи, коли уж лучше ничего не умеешь. Что стоишь – переминаешься? По глазам вижу, что у тебя и на уме-то.
К а б а н о в. Ну, а что?
В а р в а ра. Известно, что. К Савелу Прокофьичу хочется, выпить с ним. Что, не так, что ли?
К а б а н о в. Угадала, брат.
К а т е р и н а. Ты, Тиша, скорей приходи, а то маменька опять браниться станет.
В а р в а р а. Ты проворней, в самом деле, а то знаешь ведь!
К а б а н о в. Уж как не знать!
В а р в а р а. Нам тоже невелика охота из-за тебя брань-то принимать.
К а б а н о в. Я мигом. Подождите! (Уходит.)
ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Катерина и Варвара.
К а т е р и н а. Так ты, Варя, жалеешь меня?
В а р в а р а (глядя в сторону). Разумеется, жалко.
К а т е р и н а. Так ты, стало быть, любишь меня? (Крепко целует.)
В а р в а р а. За что ж мне тебя не любить-то.
К а т е р и н а. Ну, спасибо тебе! Ты милая такая, я сама тебя люблю до смерти.
Молчание.
Знаешь, мне что в голову пришло?
В а р в а р а. Что?
К а т е р и н а. Отчего люди не летают?
В а р в а р а. Я не понимаю, что ты говоришь.
К а т е р и н а. Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь? (Хочет бежать.)
В а р в а р а. Что ты выдумываешь-то?
К а т е р и н а (вздыхая). Какая я была резвая! Я у вас завяла совсем.
В а р в а р а. Ты думаешь, я не вижу?
К а т е р и н а. Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле. Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать не принуждала; что хочу, бывало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас расскажу. Встану я, бывало, рано; коли летом, так схожу на ключок, умоюсь, принесу с собой водицы и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много-много. Потом пойдем с маменькой в церковь, все и странницы, – у нас полон дом был странниц; да богомолок. А придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом, а странницы станут рассказывать: где они были, что видели, жития разные, либо стихи поют. Так до обеда время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение. Таково хорошо было!
В а р в а р а. Да ведь и у нас то же самое.
К а т е р и н а. Да здесь все как будто из-под неволи. И до смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно как все это в одну секунду было. Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается. А знаешь: в солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно облако, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. А то, бывало, девушка, ночью встану – у нас тоже везде лампадки горели – да где-нибудь в уголке и молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем я молилась тогда, чего просила, не знаю; ничего мне не надобно, всего у меня было довольно. А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то, будто я летаю, так и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко, да и не то.
В а р в а р а. А что же?
К а т е р и н а (помолчав). Я умру скоро.
В а р в а р а. Полно, что ты!
К а т е р и н а. Нет, я знаю, что умру. Ох, девушка, что-то со мной недоброе делается, чудо какое-то! Никогда со мной этого не было. Что-то во мне такое необыкновенное. Точно я снова жить начинаю, или... уж и не знаю.
В а р в а р а. Что же с тобой такое?
К а т е р и н а (берет ее за руку). А вот что, Варя: быть греху какому-нибудь! Такой на меня страх, такой-то на меня страх! Точно я стою над пропастью и меня кто-то туда толкает, а удержаться мне не за что. (Хватается за голову рукой.)
В а р в а р а. Что с тобой? Здорова ли ты?
К а т е р и н а. Здорова... Лучше бы я больна была, а то нехорошо. Лезет мне в голову мечта какая-то. И никуда я от нее не уйду. Думать стану – мыслей никак не соберу, молиться – не отмолюсь никак. Языком лепечу слова, а на уме совсем не то: точно мне лукавый в уши шепчет, да все про такие дела нехорошие. И то мне представляется, что мне самое себе совестно сделается. Что со мной? Перед бедой перед какой-нибудь это! Ночью, Варя, не спится мне, все мерещится шепот какой-то: кто-то так ласково говорит со мной, точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья да горы, а точно меня кто-то обнимает так горячо-горячо и ведет меня куда-то, и я иду за ним, иду...
В а р в а р а. Ну?
К а т е р и н а. Да что же это я говорю тебе: ты девушка.
В а р в а р а (оглядываясь). Говори! Я хуже тебя.
К а т е р и н а. Ну, что ж мне говорить? Стыдно мне.
В а р в а р а. Говори, нужды нет!
К а т е р и н а. Сделается мне так душно, так душно дома, что бежала бы. И такая мысль придет на меня, что, кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волге, на лодке, с песнями, либо на тройке на хорошей, обнявшись...
В а р в а р а. Только не с мужем.
К а т е р и н а. А ты почем знаешь?
В а р в а р а. Еще бы не знать.
К а т е р и н а. Ах, Варя, грех у меня на уме! Сколько я, бедная, плакала, чего уж я над собой не делала! Не уйти мне от этого греха. Никуда не уйти. Ведь это нехорошо, ведь это страшный грех, Варенька, что я другого люблю?
В а р в а р а. Что мне тебя судить! У меня свои грехи есть.
К а т е р и н а. Что же мне делать! Сил моих не хватает. Куда мне деваться; я от тоски что-нибудь сделаю над собой!
В а р в а р а. Что ты! Что с тобой! Вот погоди, завтра братец уедет, подумаем; может быть, и видеться можно будет.
К а т е р и н а. Нет, нет, не надо! Что ты! Что ты! Сохрани господи!
В а р в а р а. Чего ты испугалась?
К а т е р и н а. Если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из дому, я уж не пойду домой ни за что на свете.
В а р в а р а. А вот погоди, там увидим.
К а т е р и н а. Нет, нет, и не говори мне, я и слушать не хочу.
В а р в а р а. А что за охота сохнуть-то! Хоть умирай с тоски, пожалеют, что ль, тебя! Как же, дожидайся. Так какая ж неволя себя мучить-то!
Входит Барыня с палкой и два лакея в треугольных шляпах сзади.
ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
Те же и Барыня.
Б а р ы н я. Что, красавицы? Что тут делаете? Молодцов поджидаете, кавалеров? Вам весело? Весело? Красота-то ваша вас радует? Вот красота-то куда ведет. (Показывает на Волгу.) Вот, вот, в самый омут.
Варвара улыбается.
Что смеетесь! Не радуйтесь! (Стучит палкой.) Все в огне гореть будете неугасимом. Все в смоле будете кипеть неутолимой. (Уходя.) Вон, вон куда красота-то ведет! (Уходит.)
ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
Катерина и Варвара.
К а т е р и н а. Ах, как она меня испугала! Я дрожу вся, точно она пророчит мне что-нибудь.
В а р в а р а. На свою бы тебе голову, старая карга!
К а т е р и н а. Что она сказала такое, а? Что она сказала?
В а р в а р а. Вздор все. Очень нужно слушать, что она городит. Она всем так пророчит. Всю жизнь смолоду-то грешила. Спроси-ка, что об ней порасскажут! Вот умирать-то и боится. Чего сама-то боится, тем и других пугает. Даже все мальчишки в городе от нее прячутся, грозит на них палкой да кричит (передразнивая): "Все гореть в огне будете!"
К а т е р и н а (зажмурившись). Ах, ах, перестань! У меня сердце упало.
В а р в а р а. Есть чего бояться! Дура старая...
К а т е р и н а. Боюсь, до смерти боюсь. Все она мне в глазах мерещится.
Молчание.
В а р в а р а (оглядываясь). Что это братец нейдет, вон, никак, гроза заходит.
К а т е р и н а (с ужасом). Гроза! Побежим домой! Поскорее!
В а р в а р а. Что ты, с ума, что ли, сошла? Как же ты без братца-то домой покажешься?
К а т е р и н а. Нет, домой, домой! Бог с ним!
В а р в а р а. Да что ты уж очень боишься: еще далеко гроза-то.
К а т е р и н а. А коли далеко, так, пожалуй, подождем немного; а право бы, лучше идти. Пойдем лучше!
В а р в а р а. Да ведь уж коли чему быть, так и дома не спрячешься.
К а т е р и н а. Да все-таки лучше, все покойнее: дома-то я к образам да богу молиться!
В а р в а р а. Я и не знала, что ты так грозы боишься. Я вот не боюсь.
К а т е р и н а. Как, девушка, не бояться! Всякий должен бояться. Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми. Мне умереть не страшно, а как я подумаю, что вот вдруг я явлюсь перед богом такая, какая я здесь с тобой, после этого разговору-то, – вот что страшно. Что у меня на уме-то! Какой грех-то! Страшно вымолвить!
Гром.
Кабанов входит.
В а р в а р а. Вот братец идет. (Кабанову.) Беги скорей!
Гром.
К а т е р и н а. Ах! Скорей, скорей!
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Комната в доме Кабановых.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Глаша (собирает платье в узлы) и Феклуша (входит).
Ф е к л у ш а. Милая девушка, все-то ты за работой! Что делаешь, милая?
Г л а ш а. Хозяина в дорогу собираю.
Ф е к л у ш а. Аль едет куда свет наш?
Г л а ш а. Едет.
Ф е к л у ш а. Надолго, милая, едет?
Г л а ш а. Нет, ненадолго.
Ф е к л у ш а. Ну, скатертью ему дорога! А что, хозяйка-то станет выть аль нет?
Г л а ш а. Уж не знаю, как тебе сказать.
Ф е к л у ш а. Да она у вас воет когда?
Г л а ш а. Не слыхать что-то.
Ф е к л у ш а. Уж больно я люблю, милая девушка, слушать, коли кто хорошо воет-то.
Молчание.
А вы, девушка, за убогой-то присматривайте, не стянула б чего.
Г л а ш а. Кто вас разберет, все вы друг на друга клеплете. Что вам ладно-то не живется? Уж у нас ли, кажется, вам, странным, не житье, а вы все ссоритесь да перекоряетесь. Греха-то вы не боитесь.
Ф е к л у ш а. Нельзя, матушка, без греха: в миру живем. Вот что я тебе скажу, милая девушка: вас, простых людей, каждого один враг смущает, а к нам, к странным людям, к кому шесть, к кому двенадцать приставлено; вот и надобно их всех побороть. Трудно, милая девушка!
Г л а ш а. Отчего ж к вам так много?
Ф е к л у ш а. Это, матушка, враг-то из ненависти на нас, что жизнь такую праведную ведем. А я, милая девушка, не вздорная, за мной этого греха нет. Один грех за мной есть точно, я сама знаю, что есть. Сладко поесть люблю. Ну так что ж! По немощи моей господь посылает.
Г л а ш а. А ты, Феклуша, далеко ходила?
Ф е к л у ш а. Нет, милая. Я, по своей немощи, далеко не ходила; а слыхать – много слыхала. Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет православных, а салтаны землей правят. В одной земле сидит на троне салтан Махнут турецкий, а в другой – салтан Махнут персидский; и суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и, что ни судят они, все неправильно. И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно, такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему закону так выходит, а по-ихнему все напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пишут: "Суди меня, судья неправедный!". А то есть еще земля, где все люди с песьими головами.
Г л а ш а. Отчего же так – с песьими?
Ф е к л у ш а. За неверность. Пойду я, милая девушка, по купечеству поброжу: не будет ли чего на бедность. Прощай покудова!
Г л а ш а. Прощай!
Феклуша уходит.
Вот еще какие земли есть! Каких-то, каких-то чудес на свете нет! А мы тут сидим, ничего не знаем. Еще хорошо, что добрые люди есть: нет-нет да и услышишь, что на белом свете делается; а то бы так дураками и померли.
Входят Катерина и Варвара.
Катерина и Варвара.
В а р в а р а (Глаше). Тащи узел-то в кибитку, лошади приехали. (Катерине.) Молоду тебя замуж-то отдали, погулять-то тебе в девках не пришлось: вот у тебя сердце-то и не уходилось еще.
Глаша уходит.
К а т е р и н а. И никогда не уходится.
В а р в а р а. Отчего ж?
К а т е р и н а. Такая уж я зародилась, горячая! Я еще лет шести была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно; я выбежала на Волгу, села в лодку, да и отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли, верст за десять!
В а р в а р а. Ну, а парни поглядывали на тебя?
К а т е р и н а. Как не поглядывать!
В а р в а р а. Что же ты? Неужто не любила никого?
К а т е р и н а. Нет, смеялась только.
В а р в а р а. А ведь ты, Катя, Тихона не любишь.
К а т е р и н а. Нет, как не любить! Мне жалко его очень!
В а р в а р а. Нет, не любишь. Коли жалко, так не любишь. Да и не за что, надо правду сказать. И напрасно ты от меня скрываешься! Давно уж я заметила, что ты любишь другого человека.
К а т е р и н а (с испугом). По чем же ты заметила?
В а р в а р а. Как ты смешно говоришь! Маленькая я, что ли! Вот тебе первая примета: как ты увидишь его, вся в лице переменишься.
Катерина потупляет глаза.
Да мало ли...
К а т е р и н а (потупившись). Ну, кого же?
В а р в а р а. Да ведь ты сама знаешь, что называть-то?
К а т е р и н а. Нет, назови. По имени назови!
В а р в а р а. Бориса Григорьича.
К а т е р и н а. Ну да, его, Варенька, его! Только ты, Варенька, ради бога...
В а р в а р а. Ну, вот еще! Ты сама-то, смотри, не проговорись как-нибудь.
К а т е р и н а. Обманывать-то я не умею, скрывать-то ничего не могу.
В а р в а р а. Ну, а ведь без этого нельзя; ты вспомни, где ты живешь! У нас ведь дом на том держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало. Я вчера гуляла, так его видела, говорила с ним.
К а т е р и н а (после непродолжительного молчания, потупившись). Ну, так что ж?
В а р в а р а. Кланяться тебе приказал. Жаль, говорит, что видеться негде.
К а т е р и н а (потупившись еще более). Где же видеться! Да и зачем...
В а р в а р а. Скучный такой.
К а т е р и н а. Не говори мне про него, сделай милость, не говори! Я его и знать не хочу! Я буду мужа любить. Тиша, голубчик мой, ни на кого тебя не променяю! Я и думать-то не хотела, а ты меня смущаешь.
В а р в а р а. Да не думай, кто же тебя заставляет?
К а т е р и н а. Не жалеешь ты меня ничего! Говоришь: не думай, а сама напоминаешь. Разве я хочу об нем думать? Да что делать, коли из головы нейдет. Об чем ни задумаю, а он так и стоит перед глазами. И хочу себя переломить, да не могу никак. Знаешь ли ты, меня нынче ночью опять враг смущал. Ведь я было из дому ушла.
В а р в а р а. Ты какая-то мудреная, бог с тобой! А по-моему: делай, что хочешь, только бы шито да крыто было.
К а т е р и н а. Не хочу я так. Да и что хорошего! Уж я лучше буду терпеть, пока терпится.
В а р в а р а. А не стерпится, что ж ты сделаешь?
К а т е р и н а. Что я сделаю?
В а р в а р а. Да, что ты сделаешь?
К а т е р и н а. Что мне только захочется, то и сделаю.
В а р в а р а. Сделай, попробуй, так тебя здесь заедят.
К а т е р и н а. Что мне! Я уйду, да и была такова.
В а р в а р а. Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена.
К а т е р и н а. Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру! Конечно, не дай бог случиться! А уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь!
Молчание.
В а р в а р а. Знаешь что, Катя! Как Тихон уедет, так давай в саду спать, в беседке.
К а т е р и н а. Ну зачем, Варя?
В а р в а р а. Да нешто не все равно?
К а т е р и н а. Боюсь я в незнакомом-то месте ночевать,
В а р в а р а. Чего бояться-то! Глаша с нами будет.
К а т е р и н а. Все как-то робко! Да я, пожалуй.
В а р в а р а. Я б тебя и не звала, да меня-то одну маменька не пустит, а мне нужно.
К а т е р и н а (смотря на нее). Зачем же тебе нужно?
В а р в а р а (смеется). Будем там ворожить с тобой.
К а т е р и н а. Шутишь, должно быть?
В а р в а р а. Известно, шучу; а то неужто в самом деле?
Молчание.
К а т е р и н а. Где ж это Тихон-то?
В а р в а р а. На что он тебе?
К а т е р и н а. Нет, я так. Ведь скоро едет.
В а р в а р а. С маменькой сидят запершись. Точит она его теперь, как ржа железо.
К а т е р и на. За что же?
В а р в а р а. Ни за что, так, уму-разуму учит. Две недели в дороге будет, заглазное дело. Сама посуди! У нее сердце все изноет, что он на своей воле гуляет. Вот она ему теперь надает приказов, один другого грозней, да потом к образу поведет, побожиться заставит, что все так точно он и сделает, как приказано.
К а т е р и н а. И на воле-то он словно связанный.
В а р в а р а. Да, как же, связанный! Он как выедет, так запьет. Он теперь слушает, а сам думает, как бы ему вырваться-то поскорей.
Входят Кабанова и Кабанов.
Те же, Кабанова и Кабанов.
К а б а н о в а. Ну, ты помнишь все, что я тебе сказала. Смотри ж, помни! На носу себе заруби!
К а б а н о в. Помню, маменька.
К а б а н о в а. Ну, теперь все готово. Лошади приехали. Проститься тебе только, да и с богом.
К а б а н о в. Да-с, маменька, пора.
К а б а н о в а. Ну!
К а б а н о в. Чего изволите-с?
К а б а н о в а. Что ж ты стоишь, разве порядку не забыл? Приказывай жене-то, как жить без тебя.
Катерина потупила глаза.
К а б а н о в. Да она, чай, сама знает.
К а б а н о в а. Разговаривай еще! Ну, ну, приказывай. Чтоб и я слышала, что ты ей приказываешь! А потом приедешь спросишь, так ли все исполнила.
К а б а н о в (становясь против Катерины). Слушайся маменьки, Катя!
К а б а н о в а. Скажи, чтоб не грубила свекрови.
К а б а н о в. Не груби!
К а б а н о в а. Чтоб почитала свекровь, как родную мать!
К а б а н о в. Почитай, Катя, маменьку, как родную мать.
К а б а н о в а. Чтоб сложа руки не сидела, как барыня.
К а б а н о в. Работай что-нибудь без меня!
К а б а н о в а. Чтоб в окна глаз не пялила!
К а б а н о в. Да, маменька, когда ж она...
К а б а н о в а. Ну, ну!
К а б а н о в. В окна не гляди!
К а б а н о в а. Чтоб на молодых парней не заглядывалась без тебя.
К а б а н о в. Да что ж это, маменька, ей-богу!
К а б а н о в а (строго). Ломаться-то нечего! Должен исполнять, что мать говорит. (С улыбкой.) Оно все лучше, как приказано-то.
Кабанов (сконфузившись). Не заглядывайся на парней!
Катерина строго взглядывает на него.
К а б а н о в а. Ну, теперь поговорите промежду себя, коли что нужно. Пойдем, Варвара!
Уходят.
Кабанов и Катерина (стоит, как будто в оцепенении).
К а б а н о в. Катя!
Молчание.
Катя, ты на меня не сердишься?
К а т е р и н а (после непродолжительного молчания, качает головой). Нет!
К а б а н о в. Да что ты такая? Ну, прости меня!
К а т е р и н а (все в том же состоянии, покачав головой). Бог с тобой! (Закрыв лицо рукою.) Обидела она меня!
К а б а н о в. Все к сердцу-то принимать, так в чахотку скоро попадешь. Что ее слушать-то! Ей ведь что-нибудь надо ж говорить! Ну и пущай она говорит, а ты мимо ушей пропущай, Ну, прощай, Катя!
К а т е р и н а (кидаясь на шею мужу). Тиша, не уезжай! Ради бога, не уезжай! Голубчик, прошу я тебя!
К а б а н о в. Нельзя, Катя. Коли маменька посылает, как же я не поеду!
К а т е р и н а. Ну, бери меня с собой, бери!
К а б а н о в (освобождаясь из ее объятий). Да нельзя.
К а т е р и н а. Отчего же, Тиша, нельзя?
К а б а н о в. Куда как весело с тобой ехать! Вы меня уж заездили здесь совсем! Я не чаю, как вырваться-то; а ты еще навязываешься со мной.
К а т е р и н а. Да неужели же ты разлюбил меня?
К а б а н о в. Да не разлюбил, а с этакой-то неволи от какой хочешь красавицы жены убежишь! Ты подумай то: какой ни на есть, я все-таки мужчина; всю жизнь вот этак жить, как ты видишь, так убежишь и от жены. Да как знаю я теперича, что недели две никакой грозы надо мной не будет, кандалов этих на ногах нет, так до жены ли мне?
К а т е р и н а. Как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь?
К а б а н о в. Слова как слова! Какие же мне еще слова говорить! Кто тебя знает, чего ты боишься? Ведь ты не одна, ты с маменькой остаешься.
К а т е р и н а. Не говори ты мне об ней, не тирань ты моего сердца! Ах, беда моя, беда! (Плачет.) Куда мне, бедной, деться? За кого мне ухватиться? Батюшки мои, погибаю я!
К а б а н о в. Да полно ты!
К а т е р и н а (подходит к мужу и прижимается к нему). Тиша, голубчик, кабы ты остался либо взял ты меня с собой, как бы я тебя любила, как бы я тебя голубила, моего милого! (Ласкает его.)
К а б а н о в. Не разберу я тебя, Катя! То от тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то так сама лезешь.
К а т е р и н а. Тиша, на кого ты меня оставляешь! Быть беде без тебя! Быть беде!
К а б а н о в. Ну, да ведь нельзя, так уж нечего делать.
К а т е р и н а. Ну, так вот что! Возьми ты с меня какую-нибудь клятву страшную...
К а б а н о в. Какую клятву?
К а т е р и н а. Вот какую: чтобы не смела я без тебя ни под каким видом ни говорить ни с кем чужим, ни видеться, чтобы и думать я не смела ни о ком, кроме тебя.
К а б а н о в. Да на что ж это?
К а т е р и н а. Успокой ты мою душу, сделай такую милость для меня!
К а б а н о в. Как можно за себя ручаться, мало ль что может в голову прийти.
К а т е р и н а (Падая на колени). Чтоб не видать мне ни отца, ни матери! Умереть мне без покаяния, если я...
К а б а н о в (поднимая ее). Что ты! Что ты! Какой грех-то! Я и слушать не хочу!
Те же, Кабанова, Варвара и Глаша.
К а б а н о в а. Ну, Тихон, пора. Поезжай с богом! (Садится.) Садитесь все!
Все садятся. Молчание.
Ну, прощай! (Встает, и все встают.)
К а б а н о в (подходя к матери). Прощайте, маменька! Кабанова (жестом показывая в землю). В ноги, в ноги!
Кабанов кланяется в ноги, потом целуется с матерью.
Прощайся с женой!
К а б а н о в. Прощай, Катя!
Катерина кидается ему на шею.
К а б а н о в а. Что на шею-то виснешь, бесстыдница! Не с любовником прощаешься! Он тебе муж – глава! Аль порядку не знаешь? В ноги кланяйся!
Катерина кланяется в ноги.
К а б а н о в. Прощай, сестрица! (Целуется с Варварой.) Прощай, Глаша! (Целуется с Глашей.) Прощайте, маменька! (Кланяется.)
К а б а н о в а. Прощай! Дальние проводы – лишние слезы.
Кабанов уходит, за ним Катерина, Варвара и Глаша.
К а б а н о в а (одна). Молодость-то что значит! Смешно смотреть-то даже на них! Кабы не свои, насмеялась бы досыта: ничего-то не знают, никакого порядка. Проститься-то путем не умеют. Хорошо еще, у кого в доме старшие есть, ими дом-то и держится, пока живы. А ведь тоже, глупые, на свою волю хотят; а выйдут на волю-то, так и путаются на покор да смех добрым людям. Конечно, кто и пожалеет, а больше все смеются. Да не смеяться-то нельзя: гостей позовут, посадить не умеют, да еще, гляди, позабудут кого из родных. Смех, да и только! Так-то вот старина-то и выводится. В другой дом и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, так плюнешь, да вон скорее. Что будет, как старики перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю. Ну, да уж хоть то хорошо, что не увижу ничего.
Входят Катерина и Варвара.
Кабанова, Катерина и Варвара.
К а б а н о в а. Ты вот похвалялась, что мужа очень любишь; вижу я теперь твою любовь-то. Другая хорошая жена, проводивши мужа-то, часа полтора воет, лежит на крыльце; а тебе, видно, ничего.
К а т е р и н а. Не к чему! Да и не умею. Что народ-то смешить!
К а б а н о в а. Хитрость-то невеликая. Кабы любила, так бы выучилась. Коли порядком не умеешь, ты хоть бы пример-то этот сделала; все-таки пристойнее; а то, видно, на словах только. Ну, я богу молиться пойду, не мешайте мне.
В а р в а р а. Я со двора пойду.
К а б а н о в а (ласково). А мне что! Поди! Гуляй, пока твоя пора придет. Еще насидишься!
Уходят Кабанова и Варвара.
К а т е р и н а (одна, задумчиво). Ну, теперь тишина у вас в доме воцарится. Ах, какая скука! Хоть бы дети чьи-нибудь! Эко горе! Деток-то у меня нет: все бы я и сидела с ними да забавляла их. Люблю очень с детьми разговаривать – ангелы ведь это. (Молчание.) Кабы я маленькая умерла, лучше бы было. Глядела бы я с неба на землю да радовалась всему. А то полетела бы невидимо, куда захотела. Вылетела бы в поле и летала бы с василька на василек по ветру, как бабочка. (Задумывается.) А вот что сделаю: я начну работу какую-нибудь по обещанию; пойду в гостиный двор, куплю холста, да и буду шить белье, а потом раздам бедным. Они за меня богу помолят. Вот и засядем шить с Варварой и не увидим, как время пройдет; а тут Тиша приедет.
Входит Варвара.
Катерина и Варвара.
В а р в а р а (покрывает голову платком перед зеркалом). Я теперь гулять пойду; а ужо нам Глаша постелет постели в саду, маменька позволила. В саду, за малиной, есть калитка, ее маменька запирает на замок, а ключ прячет. Я его унесла, а ей подложила другой, чтоб не заметила. На вот, может быть, понадобится. (Подает ключ.) Если увижу, так скажу, чтоб приходил к калитке.
К а т е р и н а (с испугом отталкивая ключ). На что! На что! Не надо, не надо!
В а р в а р а. Тебе не надо, мне понадобится; возьми, не укусит он тебя.
К а т е р и н а. Да что ты затеяла-то, греховодница! Можно ли это! Подумала ль ты! Что ты! Что ты!
В а р в а р а. Ну, я много разговаривать не люблю, да и некогда мне. Мне гулять пора. (Уходит.)
ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ
К а т е р и н а (одна, держа ключ в руках). Что она это делает-то? Что она только придумывает? Ах, сумасшедшая, право сумасшедшая! Вот погибель-то! Вот она! Бросить его, бросить далеко, в реку кинуть, чтоб не нашли никогда. Он руки-то жжет, точно уголь. (Подумав.) Вот так-то и гибнет наша сестра-то. В неволе-то кому весело! Мало ли что в голову-то придет. Вышел случай, другая и рада: так очертя голову и кинется. А как же это можно, не подумавши, не рассудивши-то! Долго ли в беду попасть! А там и плачься всю жизнь, мучайся; неволя-то еще горчее покажется. (Молчание.) А горька неволя, ох, как горька! Кто от нее не плачет! А пуще всех мы, бабы. Вот хоть я теперь! Живу, маюсь, просвету себе не вижу. Да и не увижу, знать! Что дальше, то хуже. А теперь еще этот грех-то на меня. (Задумывается.) Кабы не свекровь!.. Сокрушила она меня... от нее мне и дом-то опостылел; стены-то даже противны, (Задумчиво смотрит на ключ.) Бросить его? Разумеется, надо бросить. И как он ко мне в руки попал? На соблазн, на пагубу мою. (Прислушивается.) Ах, кто-то идет. Так сердце и упало. (Прячет ключ в карман.) Нет!.. Никого! Что я так испугалась! И ключ спрятала... Ну, уж, знать, там ему и быть! Видно, сама судьба того хочет! Да какой же в этом грех, если я взгляну на него раз, хоть издали-то! Да хоть и поговорю-то, так все не беда! А как же я мужу-то!.. Да ведь он сам не захотел. Да, может, такого и случая-то еще во всю жизнь не выдет. Тогда и плачься на себя: был случай, да не умела пользоваться. Да что я говорю-то, что я себя обманываю? Мне хоть умереть, да увидеть его. Перед кем я притворяюсь-то!.. Бросить ключ! Нет, ни за что на свете! Он мой теперь... Будь что будет, а я Бориса увижу! Ах, кабы ночь поскорее!..
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Улица. Ворота дома Кабановых, перед воротами скамейка.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Кабанова и Феклуша (сидят на скамейке).
Ф е к л у ш а. Последние времена, матушка Марфа Игнатьевна, последние, по всем приметам последние. Еще у вас в городе рай и тишина, а по другим городам так просто содом, матушка: шум, беготня, езда беспрестанная! Народ-то так и снует, один туда, другой сюда.
К а б а н о в а. Некуда нам торопиться-то, милая, мы и живем не спеша.
Ф е к л у ш а. Нет, матушка, оттого у вас тишина в городе, что многие люди, вот хоть бы вас взять, добродетелями, как цветами, украшаются: оттого все и делается прохладно и благочинно. Ведь эта беготня-то, матушка, что значит? Ведь это суета! Вот хоть бы в Москве: бегает народ взад и вперед, неизвестно зачем. Вот она суета-то и есть. Суетный народ, матушка Марфа Игнатьевна, вот он и бегает. Ему представляется-то, что он за делом бежит; торопится, бедный, людей не узнает; ему мерещится, что его манит некто, а придет на место-то, ан пусто, нет ничего, мечта одна. И пойдет в тоске. А другому мерещится, что будто он догоняет кого-то знакомого. Со стороны-то свежий человек сейчас видит, что никого нет; а тому-то все кажется от суеты, что он догоняет. Суета-то, ведь она вроде туману бывает. Вот у вас в этакой прекрасный вечер редко кто и за ворота-то выйдет посидеть; а в Москве-то теперь гульбища да игрища, а по улицам-то индо грохот идет, стон стоит. Да чего, матушка Марфа Игнатьевна, огненного змия стали запрягать: все, видишь, для ради скорости.
К а б а н о в а. Слышала я, милая.
Ф е к л у ш а. А я, матушка, так своими глазами видела; конечно, другие от суеты не видят ничего, так он им машиной показывается, они машиной и называют, а я видела, как он лапами-то вот так (растопыривает пальцы) делает. Ну, и стон, которые люди хорошей жизни, так слышат.
К а б а н о в а. Назвать-то всячески можно, пожалуй, хоть машиной назови; народ-то глуп, будет всему верить. А меня хоть ты золотом осыпь, так я не поеду.
Ф е к л у ш а. Что за крайности, матушка! Сохрани господи от такой напасти! А вот еще, матушка Марфа Игнатьевна, было мне в Москве видение некоторое. Иду я рано поутру, еще чуть брезжится, и вижу, на высоком-превысоком доме, на крыше, стоит кто-то, лицом черен. Уж сами понимаете кто. И делает он руками, как будто сыплет что, а ничего не сыпется. Тут я догадалась, что это он плевелы сыплет, а народ днем в суете-то своей невидимо и подберет. Оттого-то они так и бегают, оттого и женщины-то у них все такие худые, тела-то никак не нагуляют, да как будто они что потеряли либо чего ищут: в лице печаль, даже жалко.
К а б а н о в а. Все может быть, моя милая! В наши времена чего дивиться!
Ф е к л у ш а. Тяжелые времена, матушка Марфа Игнатьевна, тяжелые. Уж и время-то стало в умаление приходить.
К а б а н о в а. Как так, милая, в умаление?
Ф е к л у ш а. Конечно, не мы, где нам заметить в суете-то! А вот умные люди замечают, что у нас и время-то короче становится. Бывало, лето и зима-то тянутся-тянутся, не дождешься, когда кончатся; а нынче и не увидишь, как пролетят. Дни-то и часы все те же как будто остались, а время-то, за наши грехи, все короче и короче делается. Вот что умные-то люди говорят.
К а б а н о в а. И хуже этого, милая, будет.
Ф е к л у ш а. Нам-то бы только не дожить до этого,
К а б а н о в а. Может, и доживем.
Входит Дикой.
К а б а н о в а. Что это ты, кум, бродишь так поздно?
Д и к о й. А кто ж мне запретит!
К а б а н о в а. Кто запретит! Кому нужно!
Д и к о й. Ну, и, значит, нечего разговаривать. Что я, под началом, что ль, у кого? Ты еще что тут! Какого еще тут черта водяного!..
К а б а н о в а. Ну, ты не очень горло-то распускай! Ты найди подешевле меня! А я тебе дорога! Ступай своей дорогой, куда шел. Пойдем, Феклуша, домой. (Встает.)
Д и к о й. Постой, кума, постой! Не сердись. Еще успеешь дома-то быть: дом-от твой не за горами. Вот он!
К а б а н о в а. Коли ты за делом, так не ори, а говори толком.
Д и к о й. Никакого дела нет, а я хмелен, вот что.
К а б а н о в а. Что ж, ты мне теперь хвалить тебя прикажешь за это?
Д и к о й. Ни хвалить, ни бранить. А, значит, я хмелен. Ну, и кончено дело. Пока не просплюсь, уж этого дела поправить нельзя.
К а б а н о в а. Так ступай, спи!
Д и к о й. Куда ж это я пойду?
К а б а н о в а. Домой. А то куда же!
Д и к о й. А коли я не хочу домой-то?
К а б а н о в а. Отчего же это, позволь тебя спросить?
Д и к о й. А потому, что у меня там война идет.
К а б а н о в а. Да кому ж там воевать-то? Ведь ты один только там воин-то и есть.
Д и к о й. Ну так что ж, что я воин? Ну что ж из этого?
К а б а н о в а. Что? Ничего. А и честь-то не велика, потому что воюешь-то ты всю жизнь с бабами. Вот что.
Д и к о й. Ну, значит, они и должны мне покоряться. А то я, что ли, покоряться стану!
К а б а н о в а. Уж немало я дивлюсь на тебя: столько у тебя народу в доме, а на тебя на одного угодить не могут.
Д и к о й. Вот поди ж ты!
К а б а н о в а. Ну, что ж тебе нужно от меня?
Д и к о й. А вот что: разговори меня, чтобы у меня сердце прошло. Ты только одна во всем городе умеешь меня разговорить.
К а б а н о в а. Поди, Феклушка, вели приготовить закусить что-нибудь.
Феклуша уходит.
Пойдем в покои!
Д и к о й. Нет, я в покои не пойду, в покоях я хуже.
К а б а н о в а. Чем же тебя рассердили-то?
Д и к о й. Еще с утра с самого.
К а б а н о в а. Должно быть, денег просили.
Д и к о й. Точно сговорились, проклятые; то тот, то другой целый день пристают.
К а б а н о в а. Должно быть, надо, коли пристают.
Д и к о й. Понимаю я это; да что ж ты мне прикажешь с собой делать, когда у меня сердце такое! Ведь уж знаю, что надо отдать, а все добром не могу. Друг ты мне, и я тебе должен отдать, а приди ты у меня просить – обругаю. Я отдам, отдам, а обругаю. Потому, только заикнись мне о деньгах, у меня всю нутренную разжигать станет; всю нутренную вот разжигает, да и только; ну, и в те поры ни за что обругаю человека.
К а б а н о в а. Нет над тобой старших, вот ты и куражишься.
Д и к о й. Нет, ты, кума, молчи! Ты слушай! Вот какие со мной истории бывали. О посту как-то о великом я говел, а тут нелегкая и подсунь мужичонка: за деньгами пришел, дрова возил. И принесло ж его на грех-то в такое время! Согрешил-таки: изругал, так изругал, что лучше требовать нельзя, чуть не прибил. Вот оно, какое сердце-то у меня! После прощенья просил, в ноги кланялся, право так. Истинно тебе говорю, мужику в ноги кланялся. Вот до чего меня сердце доводит: тут на дворе, в грязи, ему и кланялся; при всех ему кланялся.
К а б а н о в а. А зачем ты нарочно-то себя в сердце приводишь? Это, кум, нехорошо.
Д и к о й. Как так нарочно?
К а б а н о в а. Я видала, я знаю. Ты, коли видишь, что просить у тебя чего-нибудь хотят, ты возьмешь да нарочно из своих на кого-нибудь и накинешься, чтобы рассердиться; потому что ты знаешь, что к тебе сердитому никто уж не пойдет. Вот что, кум!
Д и к о й. Ну, что ж такое? Кому своего добра не жалко!
Глаша входит.
Г л а ш а. Марфа Игнатьевна, закусить поставлено, пожалуйте!
К а б а н о в а. Что ж, кум, зайди. Закуси, чем бог послал.
Д и к о й. Пожалуй.
К а б а н о в а. Милости просим! (Пропускает вперед Дикого и уходит за ним.)
Глаша, сложа руки, стоит у ворот.
Г л а ш а. Никак. Борис Григорьич идет. Уж не за дядей ли? Аль так гуляет? Должно, так гуляет.
Входит Борис.
Глаша, Борис, потом К у л и г и н.
Б о р и с. Не у вас ли дядя?
Г л а ш а. У нас. Тебе нужно, что ль, его?
Б о р и с. Послали из дому узнать, где он. А коли у вас, так пусть сидит: кому его нужно. Дома-то рады-радехоньки, что ушел.
Г л а ш а. Нашей бы хозяйке за ним быть, она б его скоро прекратила. Что ж я, дура, стою-то с тобой! Прощай. (Уходит.)
Б о р и с. Ах ты, господи! Хоть бы одним глазком взглянуть на нее! В дом войти нельзя: здесь незваные не ходят. Вот жизнь-то! Живем в одном городе, почти рядом, а увидишься раз в неделю, и то в церкви либо на дороге, вот и все! Здесь что вышла замуж, что схоронили – все равно.
Молчание.
Уж совсем бы мне ее не видать: легче бы было! А то видишь урывками, да еще при людях; во сто глаз на тебя смотрят. Только сердце надрывается. Да и с собой-то не сладишь никак. Пойдешь гулять, а очутишься всегда здесь у ворот. И зачем я хожу сюда? Видеть ее никогда нельзя, а еще, пожалуй, разговор какой выйдет, ее-то в беду введешь. Ну, попал я в городок! (Идет, ему навстречу Кулигин.)
К у л и г и н. Что, сударь? Гулять изволите?
Б о р и с. Да, гуляю себе, погода очень хороша нынче.
К у л и г и н. Очень хорошо, сударь, гулять теперь. Тишина, воздух отличный, из-за Волги с лугов цветами пахнет, небо чистое...
Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна.
Пойдемте, сударь, на бульвар, ни души там нет.
Б о р и с. Пойдемте!
К у л и г и н. Вот какой, сударь, у нас городишко! Бульвар сделали, а не гуляют. Гуляют только по праздникам, и то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды показывать. Только пьяного приказного и встретишь, из трактира домой плетется. Бедным гулять, сударь, некогда, у них день и ночь работа. И спят-то всего часа три в сутки. А богатые-то что делают? Ну, что бы, кажется, им не гулять, не дышать свежим воздухом? Так нет. У всех давно ворота, сударь, заперты, и собаки спущены... Вы думаете, они дело делают либо богу молятся? Нет, сударь. И не от воров они запираются, а чтоб люди не видали, как они своих домашних едят поедом да семью тиранят. И что слез льется за этими запорами, невидимых и неслышимых! Да что вам говорить, сударь! По себе можете судить. И что, сударь, за этими замками разврату темного да пьянства! Все шито да крыто – никто ничего не видит и не знает, видит только один бог! Ты, говорит, смотри, в людях меня да на улице, а до семьи моей тебе дела нет; на это, говорит, у меня есть замки, да запоры, да собаки злые. Семья, говорит, дело тайное, секретное! Знаем мы эти секреты-то! От этих секретов-то, сударь, ему только одному весело, а остальные волком воют. Да и что за секрет? Кто его не знает! Ограбить сирот, родственников, племянников, заколотить домашних так, чтобы ни об чем, что он там творит, пискнуть не смели. Вот и весь секрет. Ну, да бог с ними! А знаете, сударь, кто у нас гуляет? Молодые парни да девушки. Так эти у сна воруют часок-другой, ну и гуляют парочками. Да вот пара!
Показываются Кудряш и Варвара. Целуются.
Б о р и с. Целуются.
К у л и г и н. Это у нас нужды нет.
Кудряш уходит, а Варвара подходит к своим воротам и манит Бориса. Он подходит.
Борис, Кулигин и Варвара.
К у л и г и н. Я, сударь, на бульвар пойду. Что вам мешать-то? Там и подожду.
Б о р и с. Хорошо, я сейчас приду.
К у л и г и н уходит.
В а р в а р а (закрываясь платком). Знаешь овраг за Кабановым садом?
Б о р и с. Знаю.
В а р в а р а. Приходи туда ужо попозже.
Б о р и с. Зачем?
В а р в а р а. Какой ты глупый! Приходи: там увидишь, зачем. Ну, ступай скорей, тебя дожидаются.
Борис уходит.
Не узнал ведь! Пущай теперь подумает. А ужотко я знаю, что Катерина не утерпит, выскочит. (Уходит в ворота.)
СЦЕНА ВТОРАЯ
Ночь. Овраг, покрытый кустами; наверху – забор сада Кабановых и калитка; сверху – тропинка.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
К у д р я ш (входит с гитарой). Нет никого. Что ж это она там! Ну, посидим да подождем. (Садится на камень.) Да со скуки песенку споем. (Поет.)
Как донской-то казак, казак вел коня поить,
Добрый молодец, уж он у ворот стоит.
У ворот стоит, сам он думу думает,
Думу думает, как будет жену губить.
Как жена-то, жена мужу возмолилася,
Во скоры-то ноги ему поклонилася:
"Уж ты, батюшка, ты ли, мил сердечный друг!
Ты не бей, не губи ты меня со вечера!
Ты убей, загуби меня со полуночи!
Дай уснуть моим малым детушкам,
Малым детушкам, всем ближним соседушкам".
Входит Борис.
Кудряш и Борис.
К у д р я ш (перестает петь). Ишь ты! Смирен, смирен, а тоже в разгул пошел.
Б о р и с. Кудряш, это ты?
К у д р я ш. Я, Борис Григорьич!
Б о р и с. Зачем это ты здесь?
К у д р я ш. Я-то? Стало быть, мне нужно, Борис Григорьич, коли я здесь. Без надобности б не пошел. Вас куда бог несет?
Б о р и с (оглядывает местность). Вот что, Кудряш: мне бы нужно здесь остаться, а тебе ведь, я думаю, все равно, ты можешь идти и в другое место.
К у д р я ш. Нет, Борис Григорьич, вы, я вижу, здесь еще в первый раз, а у меня уж тут место насиженное и дорожка-то мной протоптана. Я вас люблю, сударь, и на всякую вам услугу готов; а на этой дорожке вы со мной ночью не встречайтесь, чтобы, сохрани господи, греха какого не вышло. Уговор лучше денег.
Б о р и с. Что с тобой, Ваня?
К у д р я ш. Да что: Ваня! Я знаю, что я Ваня. А вы идите своей дорогой, вот и все. Заведи себе сам, да и гуляй себе с ней, и никому до тебя дела пет. А чужих не трогай! У нас так не водится, а то парни ноги переломают. Я за свою... Да я и не знаю, что сделаю! Горло перерву.
Б о р и с. Напрасно ты сердишься; у меня и на уме-то нет отбивать у тебя. Я бы и не пришел сюда, кабы мне не велели.
К у д р я ш. Кто ж велел?
Б о р и с. Я не разобрал, темно было. Девушка какая-то остановила меня на улице и сказала, чтобы я именно сюда пришел, сзади сада Кабановых, где тропинка.
К у д р я ш. Кто ж бы это такая?
Б о р и с. Послушай, Кудряш. Можно с тобой поговорить по душе, ты не разболтаешь?
К у д р я ш. Говорите, не бойтесь! У меня все одно, что умерло.
Б о р и с. Я здесь ничего не знаю, ни порядков ваших, ни обычаев; а дело-то такое...
К у д р я ш. Полюбили, что ль, кого?
Б о р и с. Да, Кудряш.
К у д р я ш. Ну что ж, это ничего. У нас насчет этого слободно. Девки гуляют себе как хотят, отцу с матерью и дела нет. Только бабы взаперти сидят.
Б о р и с. То-то и горе мое.
К у д р я ш. Так неужто ж замужнюю полюбили?
Б о р и с. Замужнюю, Кудряш.
К у д р я ш. Эх, Борис Григорьич, бросить надоть!
Б о р и с. Легко сказать – бросить! Тебе это, может быть, все равно; ты одну бросишь, а другую найдешь. А я не могу этого! Уж я коли полюбил...
К у д р я ш. Ведь это, значит, вы ее совсем загубить хотите, Борис Григорьич!
Б о р и с. Сохрани, господи! Сохрани меня, господи! Нет, Кудряш, как можно. Захочу ли я ее погубить! Мне только бы видеть ее где-нибудь, мне больше ничего не надо.
К у д р я ш. Как, сударь, за себя поручиться! А ведь здесь какой народ! Сами знаете. Съедят, в гроб вколотят.
Б о р и с. Ах, не говори этого, Кудряш, пожалуйста, не пугай ты меня!
К у д р я ш. А она-то вас любит?
Б о р и с. Не знаю.
К у д р я ш. Да вы видались когда аль нет?
Б о р и с. Я один раз только и был у них с дядей. А то в церкви вижу, на бульваре встречаемся. Ах, Кудряш, как она молится, кабы ты посмотрел! Какая у ней на лице улыбка ангельская, а от лица-то будто светится.
К у д р я ш. Так это молодая Кабанова, что ль?
Б о р и с. Она, Кудряш.
К у д р я ш. Да! Так вот оно что! Ну, честь имеем проздравить!
Б о р и с. С чем?
К у д р я ш. Да как же! Значит, у вас дело на лад идет, коли сюда приходить велели.
Б о р и с. Так неужто она велела?
К у д р я ш. А то кто же?
Б о р и с. Нет, ты шутишь! Этого быть не может. (Хватается за голову.)
К у д р я ш. Что с вами?
Б о р и с. Я с ума сойду от радости.
К у д р я ш. Бота! Есть от чего с ума сходить! Только вы смотрите -- себе хлопот не наделайте, да и ее-то в беду не введите! Положим, хоть у нее муж и дурак, да свекровь-то больно люта.
Варвара выходит из калитки.
Те же и Варвара, потом Катерина.
В а р в а р а (у калитки поет).
За рекою, за быстрою, мой Ваня гуляет,
Там мой Ванюшка гуляет...
К у д р я ш (продолжает).
Товар закупает.
(Свищет.)
В а р в а р а (сходит по тропинке и, закрыв лицо платком, подходит к Борису). Ты, парень, подожди. Дождешься чего-нибудь. (Кудряшу.) Пойдем на Волгу.
К у д р я ш. Ты что ж так долго? Ждать вас еще! Знаешь, что не люблю!
Варвара обнимает его одной рукой и уходит.
Б о р и с. Точно я сон какой вижу! Эта ночь, песни, свиданья! Ходят обнявшись. Это так ново для меня, так хорошо, так весело! Вот и я жду чего-то! А чего жду – и не знаю, и вообразить не могу; только бьется сердце да дрожит каждая жилка. Не могу даже и придумать теперь, что сказать-то ей, дух захватывает, подгибаются колени! Вот когда у меня сердце глупое раскипится вдруг, ничем не унять. Вот идет.
Катерина тихо сходит по тропинке, покрытая большим белым платком, потупив глаза в землю.
Это вы, Катерина Петровна?
Молчание.
Уж как мне благодарить вас, я и не знаю.
Молчание.
Кабы вы знали, Катерина Петровна, как я люблю вас! (Хочет взять ее за руку.)
К а т е р и н а (с испугом, но не поднимая глаз). Не трогай, не трогай меня! Ах, ах!
Б о р и с. Не сердитесь!
К а т е р и на. Поди от меня! Поди прочь, окаянный человек! Ты знаешь ли: ведь мне не замолить этого греха, не замолить никогда! Ведь он камнем ляжет на душу, камнем.
Б о р и с. Не гоните меня!
К а т е р и н а. Зачем ты пришел? Зачем ты пришел, погубитель мой? Ведь я замужем, ведь мне с мужем жить до гробовой доски!
Б о р и с. Вы сами велели мне прийти...
К а т е р и н а. Да пойми ты меня, враг ты мой: ведь до гробовой доски!
Б о р и с. Лучше б мне не видеть вас!
К а т е р и н а (с волнением). Ведь что я себе готовлю? Где мне место-то, знаешь ли?
Б о р и с. Успокойтесь! (Берет ев за руку.) Сядьте!
К а т е р и н а. Зачем ты моей погибели хочешь?
Б о р и с. Как же я могу хотеть вашей погибели, когда люблю вас больше всего на свете, больше самого себя!
К а т е р и н а. Нет, нет! Ты меня загубил!
Б о р и с. Разве я злодей какой?
К а т е р и н а (качая головой). Загубил, загубил, загубил!
Б о р и с. Сохрани меня бог! Пусть лучше я сам погибну!
К а т е р и н а. Ну, как же ты не загубил меня, коли я, бросивши дом, ночью иду к тебе.
Б о р и с. Ваша воля была на то.
К а т е р и н а. Нет у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе. (Поднимает глаза и смотрит на Бориса.)
Небольшое молчание.
Твоя теперь воля надо мной, разве ты не видишь! (Кидается к нему на шею.)
Б о р и с (обнимает Катерину). Жизнь моя!
К а т е р и н а. Знаешь что? Теперь мне умереть вдруг захотелось!
Б о р и с. Зачем умирать, коли нам жить так хорошо?
К а т е р и н а. Нет, мне не жить! Уж я знаю, что не жить.
Б о р и с. Не говори, пожалуйста, таких слов, не печаль меня...
К а т е р и н а. Да, тебе хорошо, ты вольный казак, а я!..
Б о р и с. Никто и не узнает про нашу любовь. Неужели же я тебя не пожалею!
К а т е р и н а. Э! Что меня жалеть, никто не виноват, – сама на то пошла. Не жалей, губи меня! Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю! (Обнимает Бориса.) Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда? Говорят, даже легче бывает, когда за какой-нибудь грех здесь, на земле, натерпишься.
Б о р и с. Ну, что об этом думать, благо нам теперь-то хорошо!
К а т е р и н а. И то! Надуматься-то да наплакаться-то еще успею на досуге.
Б о р и с. А я было испугался; я думал, ты меня прогонишь.
К а т е р и н а (улыбаясь). Прогнать! Где уж! С нашим ли сердцем! Кабы ты не пришел, так я, кажется, сама бы к тебе пришла.
Б о р и с. Я и не знал, что ты меня любишь.
К а т е р и н а. Давно люблю. Словно на грех ты к нам приехал. Как увидела тебя, так уж не своя стала. С первого же раза, кажется, кабы ты поманил меня, я бы и пошла за тобой; иди ты хоть на край света, я бы все шла за тобой и не оглянулась бы.
Б о р и с. Надолго ли муж-то уехал?
Катерина. На две недели.
Б о р и с. О, так мы погуляем! Время-то довольно.
К а т е р и на. Погуляем. А там... (задумывается) как запрут на замок, вот смерть! А не запрут на замок, так уж найду случай повидаться с тобой!
Входят Кудряш и Варвара.
Те же, Кудряш и Варвара.
В а р в а р а. Ну что, сладили?
Катерина прячет лицо у Бориса на груди.
Б о р и с. Сладили.
В а р в а р а. Пошли бы, погуляли, а мы подождем. Когда нужно будет, Ваня крикнет.
Борис и Катерина уходят. Кудряш и Варвара садятся на камень.
К у д р я ш. А это вы важную штуку придумали, в садовую калитку лазить. Оно для нашего брата оченно способна.
В а р в а р а. Все я.
К у д р я ш. Уж тебя взять на это. А мать-то не хватится?
В а р в а р а. Э! Куда ей! Ей и в лоб-то не влетит.
К у д р я ш. А ну, на грех?
В а р в а р а. У нее первый сон крепок; вот к утру, так просыпается.
К у д р я ш. Да ведь как знать! Вдруг ее нелегкая поднимет.
В а р в а р а. Ну так что ж! У нас калитка-то, которая со двора, изнутри заперта, из саду; постучит, постучит, да так и пойдет. А поутру мы скажем, что крепко спали, не слыхали. Да и Глаша стережет; чуть что, она сейчас голос подаст. Без опаски нельзя! Как же можно! Того гляди, в беду попадешь.
Кудряш берет несколько аккордов на гитаре. Варвара прилегает к плечу Кудряша, который, не обращая внимания, тихо играет.
В а р в а р а (зевая). Как бы то узнать, который час?
К у д р я ш. Первый.
В а р в а р а. Почем ты знаешь?
К у д р я ш. Сторож в доску бил.
В а р в а р а (зевая). Пора. Покричи-ка. Завтра мы пораньше выйдем, так побольше погуляем.
К у д р я ш (свищет и громко запевает).
Все домой, все домой,
А я домой не хочу.
Б о р и с (за сценой). Слышу!
В а р в а р а (встает). Ну, прощай. (Зевает, потом целует холодно, как давно знакомого.) Завтра, смотрите, приходите пораньше! (Смотрит в ту сторону, куда пошли Борис и Катерина.) Будет вам прощаться-то, не навек расстаетесь, завтра увидитесь. (Зевает и потягивается.)
Вбегает Катерина, а за ней Борис.
Кудряш, Варвара, Борис и Катерина.
К а т е р и н а (Варваре). Ну, пойдем, пойдем! (Всходят по тропинке. Катерина оборачивается.) Прощай.
Б о р и с. До завтра!
К а т е р и н а. Да, до завтра! Что во сне увидишь, скажи! (Подходит к калитке.)
Б о р и с. Непременно.
К у д р я ш (поет под гитару).
Гуляй, млада, до поры,
До вечерней до зари!
Ай лели, до поры,
До вечерней до зари.
В а р в а р а (у калитки).
А я, млада, до поры,
До утренней до зари,
Ай лели, до поры,
До утренней до зари!
Уходят.
К у д р я ш.
Как зорюшка занялась,
А я домой поднялась... и т. д.
Вклад Александра Николаевича Островского в русскую драматургию трудно переоценить. Свидетельством признания его заслуг перед национальным театром стало научное звание члена-корреспондента Петербургской Академии наук. Его дом гостеприимно открывал двери перед Львом Николаевичем Сергеевичем Тургеневым, Федором Михайловичем Достоевским, Петром Ивановичем Чайковским. Народную славу принесла ему драма «Гроза». Предметом данной статьи является ее краткое содержание. «Гроза» по действиям (а их в драме 5) происходит в придуманном приволжском городе Калинове.
Действие 1. Характеристика города Калинова
Первое действие происходит в саду, разбитом на волжском берегу. Беседуют инженер-самоучка Кулигин с конторщиком купца Савела Прокофьича Дикого - Ваней Кудряшом. Позже к их разговору присоединяется образованный племянник Дикого - Борис. Мы слышим от них емкую и нелицеприятную характеристику порядков в этом уездном городе. Здесь процветает самодурство Дикого, с одной стороны, и ханжеская мораль купчихи Марфы Игнатьевны Кабановой (по прозвищу Кабаниха), с другой. Дикий, как очевидно, планирует присвоить часть наследства, принадлежащую Борису.
В городе процветают хамство и иезуитство. Его проповедуют самые зажиточные горожане. Если Савел Прокофьич нагло, с криком и руганью обирает своих работников, постоянно не доплачивая им жалованье, то Марфа Игнатьевна третирует своих домашних (невестку Катерину, сына Тихона и дочь Варвару) более тонко - постоянными упреками и поучениями. При этом каждый свой выпад Кабаниха может объяснить «по понятиям»: мол, так заведено и т. д. Ее мораль «непробиваема». Неслучайно с оценки устоев города начинается «Гроза». Краткое содержание по действиям в дальнейшем целиком опирается на это емкое описание.
Действие 2. В доме Кабанихи
Мы становимся свидетелями действа в доме купчихи Кабанихи. Странница Феклуша беседует с дворовой девкой Глашей. Юродивая хвалит щедрость дома Кабановых и пытается заинтересовать слушающих примитивными выдумками об укладе жизни в «дальних странах». Иронично изображает шарлатанство пьеса Островского «Гроза». Краткое содержание по главам нам показывает и настоящую виновницу трагедии.

Дочь купчихи Варвара беспечно играет роль сводни. Ее невестке Катерине понравился племянник Дикого, Борис. Муж Катерины Тихон уезжает по делам. Его сестренка, жизненные убеждения которой - «все можно, если концы в воду», собирая братца в дорогу, одновременно подговаривает к измене его жену, Катерину. Для этого она придумала хитрую «комбинацию» с подменой ключа матери от калитки.
Катерина по-своему пытается сохранить верность мужу. Просит Тихона взять ее с собой. А когда тот отказывает, то она, как водилось в народе, пытается связать себя клятвой, через которую не сможет перешагнуть. Но недалекий Тихон и тут прерывает ее.
Действие 3. Свидание
Свидание Катерины и Бориса - главная идея этого эпизода драмы, его краткое содержание. «Гроза» по действиям происходит в разных местах провинциального Калинова. Видна улица перед домом Кабанихи. Вначале пьяный Савел Прокофьевич «сцепляется» с купчихой. Правда, «одного поля ягоды» вскоре примиряются. Затем им на смену выходит философствующий Кулигин, потом целующаяся парочка - Кудряш и Варвара. Чрезмерно инициативная Варя назначает Борису от имени Катерины встречу вблизи сада Кабановых в овраге. И наконец, происходит само свидание. Причем Кудряш с Варварой и Борис с Катериной назначают его в одном том же месте. Правда, потом пары расходятся.

Катерина пылко признается Борису в любви. Однако, как видно, у того отношение к любви меркантильное, потребительское. Не понимает он, а скорее всего, и не может понять, какое сокровище - душа Катерины. Не прошел он испытание любовью, мелкий человечишка. Ослепленная чувством Катерина, конечно же, не замечает этих нюансов.
Действие 4. Кульминация
Проступок и расплата - таково у многих драм краткое содержание. «Гроза» по действиям подводит нас к своей кульминации. Льет дождь, а Калинов находится во власти грозы. В начале действия мещанин Кулигин доказывает купцу Дикому необходимость обустройства в городе громоотводов. Но хитрый скупец по-хамски оскорбляет инженера-самоучку и переводит разговор на то, что гроза - кара господня. Так, впрочем, думают многие. Трепещет от молний совершившая прелюбодейство Катерина. Ее не успокаивают увещевания Кулигина о природе электричества. Случается то, чего опасалась Варвара: напуганная увещеваниями появившейся, как чертик из табакерки, полоумной барыни, сопровождаемой лакеями, Катерина признается в своей измене мужу Тихону. Стоит ли ожидать от него великодушия? Вряд ли.
Действие 5. Трагедия
«Может ли счастье быть там, где царят унижения и ханжество?» - незримо слышим мы риторический вопрос драматурга, читая краткое содержание. «Гроза» по действиям тщательно прорисовывает образы героев, давая им исчерпывающую характеристику. Пьяный Тихон беседует с Кулигиным. Рассказывает, как беспробудно пил во время поездки в Москву, о том, что за измену «немного побил» Катерину. (Так мама велела.) Радуется, что Бориса дядюшка Савел Прокофьич отправляет в Сибирь. Из его слов мы узнаем, что Варя сбежала к Кудряшу от самодурства мамы Марфы Игнатьевны.

В это время Катерина ищет встречи с Борисом. Увидев его, уговаривает взять ее в поездку в Сибирь. После отказа она кротко просит молодого человека молиться о ее грешной душе. Но даже это не пронимает слабовольного молодого человека. Глубоко показательна его последняя фаза: «Эх, кабы сила!» Это фраза полного морального банкрота. Катерина же не хочет возвращаться в опостылевший дом Кабанихи, прыгает в Волгу и тонет в ней. Кулигин обвиняет Марфу Игнатьевну и Тихона в немилосердном отношении к Катерине. Тихон же винит мать, себя считая несчастным.
Выводы
Потрясенный силой таланта драматурга, критик Добролюбов написал о «Грозе» блестящую статью «Луч света в темном царстве». В ней он показал, что несбывшиеся мечты о счастье в браке, а также тлетворная обстановка в доме Кабановых привели Катерину к самоубийству. Причем этот поступок в понимании Добролюбова приобрел черты протеста личности. С ним не согласился критик Писарев, указавший на неразвитость разума, интуитивность и обостренную эмоциональность Катерины, приведшие ее к Впрочем, спор этих двух видных критиков можно рассудить словами классика Гончарова о том, что «доброе сердце» ценнее изощренного разума.
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Михаил Достоевский
«Гроза». Драма в пяти действиях А. Н. Островского
Нам предстоит трудная задача. Перед нами произведение писателя, который более всех других наших современных писателей возбуждал и даже и теперь еще возбуждает о себе самые противоречивые толки. Суждения о нем странны уже по своей крайней противуречивости; но значение их покажется еще страннее, если обратить внимание на то, что они исходят из одного и того же лагеря. Нисколько не было бы удивительно, если бог
. Островском расходились в мнениях, например, славянофилы с западниками. (Так как эти странные прозвища до сих пор существуют на самом деле в нашей жизни, то мы и называем их их собственными именами.) Это бы еще ничего: в чем согласны они между собою? Удивительны разноголосные мнения об одном и том же писателе в одном и том же стане, в одном и том же кружке, например, у западников. И какие еще разноголосные. Давно ли нашему драматургу в одно время давали прозвища гостинодворского Коцебу, а в другое провозглашали его обличителем русских самодуров и восхищались им за это?1
Выражение «гостинодворский Коцебу»
появилось в эпиграмме Н. Ф. Щербины (1821–1869) «Четверостишие, сказанное близорукой завистью» (1853):
Со взором пьяным, взглядом узким,Приобретенным в погребу,Себя зовет Шекспиром русскимГостинодворский Коцебу. А. Ф. Коцебу (1761–1819) – немецкий драматург, автор верноподданнических пьес. «Обличителем русских самодуров» провозгласил Островского Добролюбов.
Еще недавно одна наиболее читаемая и достаточно западная у нас газета с неизреченною щедростию не отказывала в таланте – чуть ли еще не в некотором – автору «Грозы». Еще на днях другой, весьма уважаемый читающею публикою и не менее того западный критик поднимал на эту «Грозу» целую бурю, между тем как другие тоже очень западные органы отзывались о ней не без восторга, хотя и несколько сдержанно.2
Имеется в виду статья Н. Ф. Павлова и, вероятно, отзывы Панаева и Дудышкина (см. наст. издание).
Одни в этой же пьесе наиболее ценят в г. Островском поэзию, другие порицают его не только за излишнюю верность природе, но даже за некоторый цинизм. Одним словом, выходит премилый концерт и преназидательный для будущего историка нашей современной литературы. Публика слушает этот концерт уже несколько лет сряду и ничего в нем не понимает. Один г. Островский его не слушает и идет себе своею ровной поэтической дорогой. И прекрасно делает.
У славянофилов этой разноголосицы нет, потому ли, что у них в последнее время была одна только «Беседа»,3
Речь идет о журнале «Русская беседа», издававшемся в Москве в 1856–1860 гг., который, действительно, был органом славянофилов.
Или уже потому, что во многих наших вопросах они стоят на более твердой почве, чем их противники. Как ни обманчиво было их увлечение видеть в г. Островском поэта своих идей и принципов, мы уже ради одной справедливости должны сказать, что честь открытия г. Островского, как высокоталантливого писателя, принадлежит только им одним.
Многим, может быть, это покажется парадоксом, а между тем это так. Не спорим, что первое произведение г. Островского «Свои люди» встречено было западниками с необыкновенным увлечением, с единодушным восторгом. Но восторг этот потому именно и был единодушен, что в этой комедии г. Островский является еще далеко не самим собою, далеко не тем самобытным писателем, который так пленяет нас в позднейших своих комедиях и сценах. Тут за ним виднелся еще его славный предшественник, виднелась преднамеренная цель выставить то-то и то-то в известном свете, казнить другое. Тут еще горько смеется гоголевская сатира, с намерением бросается в глаза еще то, от чего поэт отказался впоследствии. Одним словом, тут еще нет той свободы, с которой поэт относится к действительности в позднейших своих пьесах. Помимо таланта, эта сатира, эта преднамеренная цель и заставили западников рукоплескать поэту. Талант ведь не спас его от охлаждения и брани этих же самых западников, когда явились более высокие по искусству произведения, как «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Бедная невеста», «Не так живи, как хочется». Все помнят это время, все читали отзывы, полные пренебрежения и даже брани разных петербургских газет и журналов.4
В критическом духе об указанных пьесах Островского писали в «Современнике» Н. Г. Чернышевский и анонимный рецензент «Отечественных записок» (вероятно, Дудышкин).
Да не повторяется ли то же самое еще и теперь, когда истина все более и более берет верх, и резкие приговоры должны бы, кажется, смягчиться, хоть уж перед очевидностью.
Но между тем, как все это происходило в Петербурге, Москва со своими славянофилами, с своим «Москвитянином»5
«Москвитянин»
– журнал славянофильского направления, издававшийся в 1841–1856 гг. В нем восторженно писали об Островском А. Григорьев, Е. Эдельсон и др. С 1850 г. сам Островский входил в так называемую «молодую редакцию» «Москвитянина».
; с своей «Беседой», наконец, не только оставалась одних и тех же мнений о г. Островском, но росла в любви и в удивлении к нему с каждой новой его пьесой. В особенности много, резко и долго вопиял в огромной пустыне один талантливый голос, который так же громко, хотя и менее резко, раздавался в последнее время за г. Островского и в петербургских журналах.6
Речь идет о статье А. Григорьева «Русская литература в 1851 году» (Москвитянин. 1852. № 4), в которой критик, по поводу напечатанной в том же номере журнала комедии «Бедная невеста», писал о «новом слове», «новых надеждах для искусства». И впоследствии Григорьев не раз давал сходные оценки творчества Островского.
Есть много причин всем этим колебаниям и противоречиям критики западников. Оставшись после смерти Белинского без главы, без авторитета, без центра, где бы вырабатывались и получали известный строй все разноголосные и крайне личные мнения, лишенная вдруг тона и лоска, которые ей давал наш незабвенный критик – критика западников вдруг распалась, раздробилась на маленькие кружки и на отдельные мнения. Верная памяти Белинского относительно прогресса и общественных принципов, она после него оказалась совершенно несостоятельною относительно эстетических. После него она не разъяснила ни одного эстетического вопроса, не осветила ни одной темной стороны искусства. В начале пятидесятых годов она ограничивалась одними историческими исследованиями и на этом пути точно оказала большие услуги. Потом она с жадностью бросилась на общественные вопросы: публицизм оттеснил эстетику на последний план. Не одно художественное произведение разбиралось с точки зрения утилитарных идей или общественных вопросов. Мы уже упомянули, что даже г. Островский, талант чисто художественный, разобран был недавно в одном журнале с точки зрения обличителя русских самодуров.
Вот это-то желание отыскивать и в произведениях г. Островского небывалую философию и предполагать в них преднамеренную цель, идею, и составляет, по нашему мнению, главнейшую причину этой разноголосицы, этих противоречивых мнений о разбираемом нами писателе. Критика западников на основании, может быть, одних пословиц, которыми большею частью названы комедии г. Островского, заподозрила в них какую-то допетровскую «философию», а автора в славянофильстве и в желании доказывать своими произведениями славянофильские убеждения. Мы не имеем удовольствия знать г. Островского, и потому нам неизвестно, славянофил ли он или западник, да, признаться, до этого нам и дела нет, тем более, что из пьес его, даже из самых ярких по заглавию, или по пословице, этого не видно. По нашему мнению, г. Островский в своих сочинениях не славянофил и не западник, а просто художник, глубокий знаток русской жизни и русского сердца. Может быть, и даже весьма вероятно, судя по заглавиям, г. Островский действительно хотел послужить славянофильству, но такое желание, как видно из самого дела, т. е. из сущности его произведений, ограничилось одними названиями или пословицами.
Упомянув, что после первой своей комедии «Свои люди» г. Островский оставил сатирическое направление и потому стал самостоятельнее, мы вовсе не хотели набросить какую-нибудь тень на это направление. Мы думаем только, что, оставив сатиру, которая, несмотря на блестящую попытку, по нашему мнению, не есть главный нерв в таланте г. Островского, – он развил в себе гораздо лучшие стороны, присущие его таланту. Талант нашего драматурга по преимуществу объективный и художественный. По таланту своему он адепт чистого искусства. Даже там, где он видимо силится что-нибудь доказать, натянуть свои поэтические образы на какую-нибудь идею, например, в «Доходном месте», даже и там доказательства у него как-то не клеятся, действие не совсем вяжется, а образы остаются резкие, лица выходят полные и яркие, часто высокопоэтические, как Полинька, всегда верные действительности и характерные, как Юсов, Белогубов, Кукушкина.7
Перечислены персонажи комедии «Доходное место» (1856).
Он прежде всего поэт в своих созданиях, и точно такой же поэт в пьесах «Не в свои сани не садись», «Не так живи, как хочется», «Бедная невеста», как и в «Воспитаннице», как в «Грозе», о которых говорят теперь, что с них-то будто бы и началась поэзия у г. Островского. Разница только в степени поэзии, в избранном быте, в самых лицах. Авдотья Максимовна и Груша8
Авдотья Максимовна (Дуня)
– героиня комедии «Не в свои сани не садись» (1852); Груша
– героиня драмы «Не так живи, как хочется» (1854).
Такие же поэтические образы, как и Воспитанница, как Катерина в «Грозе». В последней, правда, поэтический колорит кажется гуще и ярче, но это потому, что и обстоятельства, в которые поставлено это лицо, крупнее и резче, а главное, и сам характер здесь глубже, чем в упомянутых комедиях. Поэзия, за исключением разве мелких сцен, всегда была присуща, как главная стихия, произведениям г. Островского. Вот почему нам всегда казалось несправедливым мнение критики, будто с «Воспитанницы» сделался какой-то перелом в таланте нашего драматического писателя, и он, будто бы отказавшись от славянофильских идей, обратился к чистой поэзии.
Мы думаем, что если был перелом, то уж никак не в г. Островском, а в петербургской критике, которая вдруг в первый раз открыла поэзию в «Воспитаннице» и так обрадовалась своей находке, что тут же определила быть перелому в таланте автора, и стала доказывать, что он, автор, стоит уважения только за «Воспитанницу» и за «Грозу». Прежние же писания так себе, пустячки, поклонение славянофильству – много говорить о них нечего.
Вот в том-то и дело, что в прежних произведениях своих г. Островский настолько же славянофил, насколько и западник. Скажем более: если б он был самым крайним западником, он не мог бы иначе написать «Не в свои сани не садись», «Не так живи, как хочется», «Бедность не порок», не перестав быть художником и поэтом. Зачем навязывать автору такую философию, которой нет в его произведении? Неужели на основании только пословиц в заглавии?
Остановимся на этом обвинении, насколько позволяют нам пределы статьи этой. Критике не понравился Русаков9
Русаков
– персонаж комедии «Не в свои сани не садись».
Своей патриархальностию, особенным складом ума. Но все, что ни говорит этот человек, он говорит не ради проведения какой-нибудь внешней идеи, а потому только, что он Русаков и иначе говорить не может. У него нет ярлыка на лбу, он живой человек.
– Что это, Иванушка, – говорит он Бородкину, – как я погляжу, народ-то все хуже и хуже делается, и что это будет, уж и не знаю. Возьмем хоть из нашего брата: ну, старики-то еще туда и сюда, а молодые-то?.. на что это похоже?.. Ни стыда, ни совести, ведь поверить ничего нельзя, а уж уважения и не спрашивай. Нет, мы, бывало, страх имели, старших уважали. Опять эту моду выдумали! Прежде ее не было, так лучше было, право. Проще жили, ну и народ честней был. А то я, говорит, хочу по моде жить, по-нынешнему, а глядишь, тому не платит, другому не платит.
Бородкин. Все это, Максим Федотыч, от необузданности, а то и от глупости.
Русаков. Именно от необузданности. Бить некому! А то-то бы учить-то надо… Охо-хо, – палка-то по ним плачет.
Мы нарочно выписали самое резкое место в комедии. Но, Боже мой, разве подобные речи вы не слыхивали тысячу раз от очень умных и очень добрых простолюдинов. Неужели ж говорящие и думающие так непременно должны быть негодяи? Дело в том, что Русаков говорит и думает так, оттого что не приготовлен к многим жизненным вопросам. Но если судьба поставит его когда-нибудь лицом к лицу с ними и он должен будет, так или иначе, разрешить их, – он всегда разрешит их верно и гуманно. Тогда вдруг и глаза у него откроются, и мыслить он будет здраво. Он оттого, может быть, немного слишком любит старину, что вообще, по евангельскому слову, возлюбил много в жизни; а так как он человек темный, необразованный, непосредственный, то и не может вдруг, без особенной нужды, отстать от многих привязанностей и во всякое время ясно обсуживать явления жизни. Но несмотря на свою темноту, тот же Русаков выражает собою всю широкость, все всепрощение русской натуры. Когда дошло до дела, он сперва отталкивает, оскорбляет дочь, но тут же одумывается и укоряет себя. В русском человеке есть способность прямо подходить к истине и понять ее со всех сторон. Вместе с этой способностью он соединяет и всепримиряемость, т. е. способность простить даже злую, враждебную обстановку, если только в ней заключается истина. Это качество, присущее русскому народу, оправдывается всей его историей, начиная с Петра и до Петра. Оно составляет принадлежность славянского племени, весь залог его будущего развития; и это свойство русского человека, главного представителя славянского племени, впервые выражено у нас в искусстве г. Островским, в чем и состоит вся сила его таланта, вся заслуга его перед русскою литературой. Это-то и есть новое слово, сказанное г. Островским; мы не говорим уже о других его заслугах, напр., о том, что он первый открыл красоту в русской женщине, которая, после Татьяны,10
Речь идет о героине пушкинского «Евгения Онегина».
Осталась без выражения.
Теперь спрашивается: можно ли, на том только основании, что в пьесе Русаков человек добрый и с сердцем, заподозрить, что говорит он это не свои мысли, а мысли автора? Или не потому ли это славянофильская пьеса, что Вихорев, сопоставленный с ним, негодяй отъявленный? Что же из этого? Как что! да этот негодяй представляет запад, цивилизацию…
Но почему же он представляет запад, цивилизацию? Почему это не просто первый встречный прощелыга, бездельник, ищущий купеческих дочек с большим приданым и нужный только для хода пьесы? И в самом деле, будь он человек хороший, а не бездельник, пьесы бы не было. Где же у него ярлык, гласящий, что он не прощелыга, не негодяй, а представитель запада? В какой фразе он говорит или только проговаривается об этом? Какое постороннее лицо в комедии намекает на это? Вы напрасно будете искать в ней ответы на все эти вопросы. Их нет в ней. Ни одно слово в комедии не дает вам права утверждать, что одно лицо представляет в ней славянофильскую философию, а другое – лжемудрствующий запад.
Утверждать противное, видеть в таком пошлом безнравственном лице, мы не говорим уже представителя, а только намек на западную цивилизацию, значило бы не только усомниться в уме автора, но и нанести ему жестокую обиду. Каким бы крайним славянофилом он ни был, по мнению западников – предположим это – он все-таки не стал бы бороться с их учением таким нечистым образом, такою громадною и неудачною клеветою. Этого люди умные, люди с сердцем никогда не делают. Такое обвинение, хотя и пущенное в автора среди самого, разгара борьбы славянофилов с западниками, заявило только крайнее увлечение партии. Русаков его никогда ни одним словом не оскорбил ни науки, ни просвещения. У автора это прекрасный тип русского человека, хотя и необразованного и в низкой доле, тип, созданный впервые так смело и положительно в нашей литературе. После гоголевских отрицаний это было, конечно, дерзостью в глазах критики. Человек необразованный, какой-то купец, какого-то уездного городишка, старик, которому (о, преступление) нравится более его старое время, чем настоящее, осмелился предстать на суд критики, созданный со всею полнотою жизни, а главное, не с неумытым каким-нибудь рылом, не комическим брюханом, изрыгающим невежественную хулу на все прекрасное в жизни, а с чистым, любящим сердцем, с натурой доброй, открытой и честной, со всеми милыми подробностями своего мирного житья – этого не могли постичь и простить западники того времени.
Вот что значит, как в жизни, так и в литературе, искать в человеке прежде всего его мнений и убеждений, а не самого человека. Русаков не был бы Русаковым, если б стал мечтать о прогрессе и либеральничать. Что он за уездный гений, чтоб явиться вдруг реформатором в той среде, в которой взрос и которою пропитан.
Мы простились бы здесь с Русаковым и с его прелестною Дуняшей, если б не прочли на днях еще одного замечания, которое показалось нам совершенно несправедливым. В одной газете была выражена мысль, что нельзя сочувствовать страдающим лицам г. Островского, если знаешь наперед, что с переменою обстоятельств эти жертвы сделаются сами мучителями; что нельзя сочувствовать дочери, которой отец не позволяет выйти замуж за любимого человека, если знаешь, что этот человек негодяй, и что отец поэтому совершенно прав. Конечно нельзя, но мы сочувствуем Дуне Русаковой11
Авдотья Максимовна (Дуня)
– героиня комедии «Не в свои сани не садись» (1852).
Вовсе не в том, что она хочет выйти замуж за негодяя; мы сочувствуем именно тому, чтоб она не вышла замуж. Тут участие наше все переносится на несчастного старика-отца, которому угрожает опасность навсегда потерять свое любимое детище. Мы сочувствуем Дуне как прелестнейшему и грациознейшему типу русской девушки, типу, созданному с необыкновенной поэтической силой, которая все сокровища своего золотого сердца, по детскому незнанию жизни, тратит на какого-нибудь Вихорева; что же касается вообще до сочувствия, то уж это, кажется, известное дело, что сочувствие лицам в жизни и сочувствие лицам в искусстве – не одно и то же. Возьмем пример, довольно крупный: мы сочувствуем лицам гоголевского «Ревизора» и «Мертвых душ», мы находим их прекрасно созданными, а между тем не дай вам Бог, читатель, встретить их в жизни. Тут сочувствие мгновенно превращается в омерзение.
Из всего нами сказанного, да не заключат, чтоб мы считали Русакова идеалом совершенного русского человека: мы только открываем в нем черты, присущие русской натуре. Замечание это совершенно лишнее, но мы видели столько примеров ложного понимания, что оговариваемся… ну хоть для ясности.
Те же самые упреки, ту же самую брань возбудила другая пьеса г. Островского «Не так живи, как хочется». Тут отец уговаривает дочь, бежавшую от беспутного мужа, возвратиться к нему.
– Как ты от мужа бежишь, глупая? – говорит он ей. – Ты думаешь, мне тебя не жаль? Ну вот все вместе и поплачем о твоем горе – вот и вся наша помощь! Что я могу сделать? Поплакать с тобой – я поплачу. Ведь я отец твой, дитятко мое, милое мое (плачет и целует ее), ты одно пойми, дочка моя милая: Бог соединил, человек не разлучает. Отцы наши так жили не жаловались, не роптали. Ужели мы умнее их? Пойдем к мужу.
Представьте же себе, что за дичь и чепуха вышла бы, если б этот самый старик, мещанин какого-то уездного городка, да еще прошедшего столетия, говорил дочери совершенно противное тому, что он сказал в пьесе. Чтобы ему в самом деле, по случаю бегства дочери из мужнина дома, начать толковать ей о прогрессе, об эмансипации женщин, да уж кстати слегка коснуться и Жорж-Санда?
Неприятно поразил западников и конец этой драмы. Беспутный муж, напившийся в горя и отчаяния, бежит с ножом искать ненавистную жену. Каким-то чудом он попадает на Москву-реку. Это было ночью, на маслянице. Ему чудятся черти. Он блуждает в беспамятстве, сам не зная где. Вдруг над собою он слышит колокольный звон, останавливается, приходит несколько в память, осматривается: он стоит над прорубью. Еще шаг и он утонул бы. Он идет домой, бросается в ноги отцу, кается и мирится с женою.
Кроме легенды, поэтически рассказанной в форме драмы, и ловко подмеченной черты в русском характере, мы ничего здесь не видим, к чему можно было бы привязаться самому крайнему западнику. Петру, впрочем, и оставалось только два выхода из его положения: утопиться или зажить новою жизнию. Он выбрал последнее, и мы, право, не видим, в чем он тут поперечил воззрениям западников. Впрочем, об этой пьесе нельзя говорить мало. В ней затронуто много вопросов, которые не мешало бы подвергнуть критической оценке в настоящее время, когда стихла уже наша литературная междоусобица. Не один пункт морали, называвшейся прежде славянофильскою, мог бы теперь сделаться общечеловеческим. Мы жалеем, что не можем остановиться здесь на некоторых вопросах по поводу этой драмы, не обременив статьи этой и без того уже частыми отступлениями.
Не понимаем мы также, отчего так долго критика глумилась над другою комедией: «Бедность не порок». Поговорка эта, как видно из хода пьесы, более относилась к Мите, приказчику, чем к Любиму Торцову. Но еще непонятнее для нас то обстоятельство, что критика могла проглядеть в этих трех пьесах такие типы и характеры, как Русаков, Бородкин, Вихорев, Петр, Гордей Торцов, Коршунов, Любим Торцов и такие прелестные женские головки, как Дуня Русакова, Груша, Любовь Гордеевна. Да ведь это перлы нашей литературы. Да ведь они озарены тою же поэзией, которая живет и в двух женских лицах двух последних пьес г. Островского. А типы, женские и мужские «Бедной невесты», этого едва ли не лучшего произведения нашего автора? Отчего же все эти чудные образы до сих пор лежали под спудом для петербургской критики? Что это, упрямство, непонимание, или дело «не нашего прихода»? Право, можно подумать на последнее, если сообразить, что благосклонные отзывы стали встречаться в петербургских журналах с тех пор, как г. Островский начал посещать Петербург, печататься здесь в Петербурге и сделался, таким образом, нашим прихожанином. Сваливать такое странное явление на перелом, будто бы недавно совершившийся в направлении нашего драматурга, нельзя, не погрешив против истины. Любой умный и внимательный читатель увидит, что перелома или изменения в направлении не случалось с г. Островским в последнее время. В его таланте раз только совершился перелом и то давно уж, именно после появления его первой комедии «Свои люди сочтемся». Отказавшись от сатиры, он стал изображать нравы русского мелколюдья как свободный художник, не связанный служением какой-либо партии или посторонней идее. Русская жизнь с ее светлыми и темными сторонами стала для него единственным законом. Герои его большею частью мелкие купцы или мещане каких-нибудь уездных городишек, которые можно отыскать только на подробной карте. Героини – их жены и дочери, существа иногда лелеемые отцом и матерью, иногда одною только матерью, а иногда и трепещущие перед вселомающею волею какого-нибудь самодура. Вот невзрачный материал, из которого г. Островский делает превосходнейшие произведения искусства. Но зато этот материал есть весь наш народ, а народ, взятый во всей его полноте, во всей его всеобъемлемости, есть все. В нем, а не вне его, все силы, все пружины его будущего развития. В нем вся будущая заслуга его перед человечеством, и смотря с этой точки зрения, изображение чисто народных типов, может быть, важнее изображения всевозможных общечеловеческих идеалов. Г. Островский, может быть, единственный писатель, не поклонившийся ни которой из враждовавших партий, между тем как одна из них видела в нем почему-то своего адепта, а другая негодовала на него за это.
Правда, в последнее десятилетие шла ожесточенная борьба между этими партиями, начавшая стихать только в последнее время. Но какое же дело до этой борьбы и войны художнику?
Правда и то, что в военное время часто хватают совершенно невинного молодца, пробирающегося тайком на любовное свидание, зачисляют его в шпионы, а потом расстреливают.
Охотники до идей в произведениях искусства возрадуются при чтении новой драмы г. Островского. Мы заранее уверены, что у нас в печати появится не одна статья, в которой пресерьезно будут утверждать, что автор хотел доказать своей драмой, например, хоть это: как пагубно для снохи иметь лютую свекровь и слабого мужа; или употребив более высокий слог: как пагубен домашний деспотизм и до каких последствий может довести он пылкие натуры; или если употребить еще более высокий слог, как пагубен патриархальный
деспотизм для натур восприимчивых и жаждущих обновленной жизни, прогресса и цивилизации. Как ни вертите эту мысль, каких напыщенных фраз ни прибирайте для ее выражения, в результате все-таки выйдет, что она стара до пошлости, справедлива до математической аксиомы и что она так всем известна, что стала смешна. Доказывать ее художественным произведением вовсе нет никакой надобности, и уж наверное г. Островский совсем не думал о ней, когда начинал свою драму. Какая же, по-вашему, в ней идея? – спросят нас. Никакой, ответим мы, если вы идею принимаете за цель, с которою пишется известное произведение, или целый десяток идей, а может быть и два-три, и может быть и еще более. Одну мы уже сказали, другие отыскать нетрудно. Нет факта в жизни, нет происшествия, которые не имели бы своей идеи, своей морали. Такой-то части, такого-то квартала сделался пожар, и вот наверно несколько идей родится в голове нашей при рассказе об его подробностях. Если вы уж так любите идеи, возьмите приведенную выше и пишите на нее статью, или поговорите с доктором Панглосом.12
Панглос
– герой философской повести Вольтера «Кандид» (1759), проповедник теории бездумного, не опирающегося на факты оптимизма.
Последнее будет еще лучше: страницы в статье выйдут красноречивые, а главное, выйдут кстати в наше время, когда благодетельная гласность и пр.
Но ради этой самой гласности не навязывайте ее поэту. Мало ли какая высокая мораль истекает из создания художника, мало ли какие мысли навеют на читателя или на зрителя его подробности. Чем жизненнее это создание, тем обильнее оно и этими идеями и этой моралью, потому что родник их есть все же вечно сущая жизнь. Изображая просто жизнь, или даже малейшую частицу, одну капельку из этого беспредельного моря, искусство изображает и идеи, присущие этой частице, этой капле. Мы нисколько не хотим порицать произведений, созданных под влиянием известной идеи. Если идея светла и гуманна, если произведение запечатлено талантом, то оно будет не менее прекрасно и не менее долговечно.
Ведь Дон-Кихот, если верить Сервантесу, был написан с очень тривиальною целью.13
В прологе к первой части «Дон Кихота» Сервантес утверждал, что его книга «есть сплошное обличение рыцарских романов» и ее цель – «свергнуть власть рыцарских романов и свести на нет широкое распространение, какое получили они в высшем обществе и среди простонародья».
Цель эта давно миновалась, а Дон-Кихот живет и будет вечно жить, как величайшее, произведение искусства.
Эта мысль, или уж если вам лучше нравится, идея о домашнем деспотизме и еще десяток других не менее гуманных идей, пожалуй, и кроются в пьесе г. Островского. Но уж наверное не ими задавался он, приступая к своей драме. Это видно из самой пьесы (сюжет которой мы, впрочем, не станем рассказывать, предполагая, что все интересующиеся нашею литературою уже прочли ее). Для тех же, которые почему-нибудь не успели еще прочесть этой драмы, голый рассказ ее содержания не даст о ней никакого понятия. На домашний деспотизм автор потратил меньше красок, чем на изображение других пружин своей пьесы. С таким деспотизмом еще можно ужиться. Кудряш с Варварой славно водят его за нос, да и сам молодой Кабанов не слишком-то им стесняется и преисправно зашибает хмелем. Старуха Кабанова более сварлива, чем зла, более закоренелая формалистка, чем черствая женщина. Гибнет одна Катерина, но она погибла бы и без деспотизма. Это жертва собственной чистоты и своих верований. Но к этой мысли существенной, вытекающей прямо из характера Катерины, мы еще возвратимся. А теперь остановимся на этой личности.
Перед нами два женских лица: старуха Кабанова и Катерина. Обе они родились в одном и том же слое общества, а может быть, и даже всего вероятнее, в одном и том же городе. Обе они с малолетства окружены были одними и теми же явлениями, явлениями странными, уродливыми до какой-то сказочной поэзии. Они с ранних лет подчинились одним и тем же требованиям, одним и тем же формам. Вся жизнь их, размеренная на часы, течет с математическою правильностью. Смотрят на жизнь они совершенно одинаково, веруют и поклоняются одному и тому же. Религия у них одна и та же. Странницы и богомолки не переводятся у них в доме, рассказывают им нелепейшие сказки о своих далеких странствиях, сказки, в которые они обе верят, как в нечто непременное и неизменное. Дьявол с своими проказами играет у них такую же роль, как самое обыденное явление, роль какого-то домашнего человека. А между тем вся эта жизнь, все эти обстоятельства, все это верование сделали из одной сухую и черствую формалистку, еще более засушили в ней от природы сухой и бедный темперамент, тогда как другая (Катерина), не переставая подчиняться окружающим ее явлениям, совершенно убежденная в их законности и истине, создает изо всего этого целый поэтический мир, полный какого-то чарующего обаяния. Ее спасают и нравственная чистота и младенческая невинность, и та поэтическая сила, которая врождена в этом характере. Это лицо, не переставая быть действительным, все проникнуто поэзией, тою русскою поэзией, которая веет на вас из русских песен и преданий. Поэтическая сила в ней так велика, что она все облекает в поэтические образы, во всем видит поэзию, даже в могиле. Солнышко ее греет, говорит она, дождичком мочит, весной на ней травка вырастет, мягкая такая, – птички гнездышко выведут, цветочки расцветут.
Мы должны привести здесь одну поэтическую страницу драмы г. Островского, чтоб иметь возможность далее проследить характер Катерины!
– Такая ли я была, – говорит она Варваре, сестре своего мужа. – Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле. Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня как куклу, работать не принуждала; что хочу, бывало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас расскажу. Встану я, бывало, рано; коли летом, так схожу на ключик, умоюсь, принесу с собой водицы, и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много, много. Потом пойдем с маменькой в церковь, все, и странницы. У нас полон дом был странниц, да богомолок. А придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом, а странницы станут рассказывать, где они были, что видели, жития разные, либо стихи поют. Так до обеда время и пройдет, тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы, да пение. Таково хорошо было.
А когда Варвара замечает ей, что и теперь она так же точно живет, то она продолжает:
– Да здесь все как-будто из-под неволи. И до смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно, как все это в одну секунду было. Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается! А знаешь, в солнечный день, из купола такой светлый столб вниз идет и в этом столбе ходит дым, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. А то, бывало, девушка, ночью встану, у нас тоже везде лампадки горели, да где-нибудь в уголке и молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колени, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем я молилась тогда, чего просила, не знаю; ничего мне не надобно, всего у меня было довольно. А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы и деревья, будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся.
Из этой страницы, удивительной по своей поэтической прелести, характер ясно создается в уме вашем. Это та же самая обстановка, в которой окончательно зачерствела Кабанова и которую молодое, мечтательное воображение Катерины оправило в такую высокую поэзию. Для этой чистой, незапятнанной натуры доступна одна только светлая сторона вещей; подчиняясь всему окружающему, находя все законным, она умела из мизерной жизни провинциального городка создать свой собственный мирок. Она верит всем бредням странниц, верит в нечистую силу и особенно боится ее. Эта сила в воображении ее украсилась всеми преданиями, всеми народными рассказами. Десять тысяч церемоний, так деспотически властвующих в городке, где живет она, нисколько не смущают ее. Она выросла среди них и исполняет их свято. Там только, где они насилуют ее открытую и прямую душу, там она возмущается против них. Она не станет, например, как ни уговаривай ее, выть
по уехавшем муже, для того только, чтобы люди видели, как она его любит. «Не к чему! Да я не умею. Что народ-то смешить!» – отвечает она на слова свекрови, что, дескать, хорошая жена, проводивши мужа-то, часа полтора воет, лежит на крыльце. Малейшее отклонение от прямого пути она считает тяжким грехом. Ад со всеми своими ужасами, со всей своей огненной поэзией настолько же занимает ее воображение, как и рай с его радостями. Но не приписывайте ее чистоты и добродетели одному религиозному направлению ума. Чистота эта в ней врожденная. Без нее она, как и тысячи других, вошла бы в разные сделки и договоры с своею совестью и посредством разных пожертвований, эпитимий,14
Эпитимья
– церковное покаяние: поклоны, пост, молитва.
Лишних постов и поклонов, прекрасно ужилась бы и с адом и с раем, как бы ни был ужасен один, неподкупен другой.
Пьеса «Гроза» известного русского писателя XIX века Александра Островского, была написана в 1859 году на волне общественного подъема в преддверии социальных реформ. Она стала одним из лучших произведений автора, открыв глаза всего мира на нравы и моральные ценности тогдашнего купеческого сословия. Впервые была опубликована в журнале «Библиотека для чтения» в 1860 году и благодаря новизне своей тематики (описания борьбы новых прогрессивных идей и стремлений со старыми, консервативными устоями) сразу же после публикации вызывала широкий общественный резонанс. Она стала темой для написания большого количества критических статей того времени («Луч света в темном царстве» Добролюбова, «Мотивы русской драмы» Писарева, критика Апполона Григорьева).
История написания
Вдохновленный красотой Волжского края и его бескрайними просторами во время поездки с семьей в Кострому в 1848 году, Островский начинает написание пьесы в июле 1859 года, уже через три месяца он её заканчивает и отправляет на суд петербургской цензуры.
Проработав на протяжении нескольких лет в канцелярии Московского совестного суда, он хорошо знал, что представляет собой купечество в Замоскворечье (исторический район столицы, на правом берегу Москвы-реки), не раз сталкиваясь по долгу службы с тем, что творилось за высокими заборами купеческих хором, а именно с жестокостью, самодурством, невежеством и различными суевериями, незаконными сделками и аферами, слезами и страданием окружающих. Основой для сюжета пьесы стала трагическая судьба невестки в купеческой зажиточной семье Клыковых, которая произошла в реальности: молодая женщина бросилась в Волгу и утонула, не выдержав притеснений со стороны властной свекрови, устав от бесхарактерности мужа и тайной страсти к почтовому служащему. Многие считали, что именно истории из жизни костромского купечества стали прототипом для сюжета написанной Островским пьесой.
В ноябре 1859 года пьеса была сыграна на подмостках Малого академического театра в Москве, в декабре того же года в Александринском драматическом театре в Петербурге.
Анализ произведения
Сюжетная линия

В центе описываемых в пьесе событий находится зажиточная купеческая семья Кабановых, проживающая в вымышленном волжском городе Калинове, неком своеобразном и замкнутом мирке, символизирующем общий устрой всей патриархальной Российской державы. Семья Кабановых состоит из властной и жестокой женщины-тирана, и по сути главы семьи, богатой купчихи и вдовы Марфы Игнатьевны, её сына, Тихона Ивановича, безвольного и бесхарактерного на фоне тяжелого нрава его матушки, дочери Варвары, научившейся обманом и хитростью противостоять деспотизму матери, а также невестки Катерины. Молодая женщина, выросшая в семье где её любили и жалели, страдает в доме нелюбимого мужа от его безвольности и претензий свекрови, по сути лишившись воли и став жертвой жестокости и самодурства Кабанихи, оставленная на произвол судьбы тряпкой-мужем.

От безысходности и отчаяния Катерина ищет утешения в любви к Борису Дикому, который тоже её любит, но боится ослушаться своего дяди, богатого купца Савёла Прокофьича Дикого, ведь от него зависит материальное положение его и сестры. Тайком он встречается с Катериной, но в последний момент предает её и сбегает, потом по указанию дяди уезжает в Сибирь.
Катерина, будучи воспитанной в послушании и подчинении мужу, мучаясь собственным грехом, признается во всем мужу в присутствии его матери. Та делает жизнь невестки совершенно невыносимой, и Катерина, страдая от несчастливой любви, укоров совести и жестоких гонений тирана и деспота Кабанихи, решает покончить со своими мучениями, единственным способом, в котором она видит спасение, это самоубийство. Она бросается с обрыва в Волгу и трагически погибает.
Главные действующие лица
Все персонажи пьесы поделены на два противоборствующих лагеря, одни (Кабаниха, её сын и дочь, купец Дикой и его племянник Борис, служанки Феклуша и Глаша) являются представителями старого, патриархального уклада жизни, другие (Катерина, механик-самоучка Кулигин) - нового, прогрессивного.

Молодая женщина, Катерина, жена Тихона Кабанова, является центральной героиней пьесы. Она воспитана в строгих патриархальных правилах, в соответствии с законами древнерусского Домостроя: жена должна во всем покоряться мужу, уважать его, выполнять все его требования. Сначала Катерина пыталась всеми силами полюбить своего мужа, стать для него покорной и хорошей женой, однако ввиду его полной бесхребетности и слабости характера, может испытывать к нему только жалость.
Внешне она выглядит слабой и молчаливой, но в глубине её души хранится достаточно силы воли и упорства, чтобы противостоять тирании свекрови, которая побаивается, что невестка может изменить её сына Тихона и тот перестанет покоряться воле матери. Катерине тесно и душно в темном царстве жизни в Калинове, она буквально там задыхается и в мечтах она улетает, как птица прочь из этого ужасного для неё места.
Борис

Полюбив приезжего молодого человека Бориса, племянника богатого купца и дельца, она создает у себя в голове образ идеального возлюбленного и настоящего мужчины, который совсем не соответствует действительности, разбивает ей сердце и приводит к трагическому финалу.
В пьесе персонаж Катерины противостоит не конкретному человеку, своей свекрови, а всему в то время существующему патриархальному укладу.
Кабаниха

Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха), как и купец-самодур Дикой, который мучает и оскорбляет своих родных, не платит зарплату и обманывает своих рабочих, являются яркими представителями старого, мещанского уклада жизни. Они отличаются глупостью и невежественностью, неоправданной жестокостью, хамством и грубостью, полным неприятием каких-либо прогрессивных изменений в закостеневшем патриархальном укладе жизни.
Тихон

(Тихон, на иллюстрации возле Кабанихи - Марфы Игнатьевны )
Тихон Кабанов на протяжении всей пьесы характеризуется как тихий и безвольный человек, находящийся под полным влиянием деспотичной матери. Отличаясь мягкостью характера, он не предпринимает никаких попыток, чтобы защитить свою жену от нападок матери.
В конце пьесы он в конце концов не выдерживает и автор показывает его бунт против тирании и деспотизма, именно его фраза в конце пьесы приводит читателей к определенному выводу о глубине и трагизме сложившейся ситуации.
Особенности композиционного построения

(Фрагмент из драматической постановки )
Произведение начинается описанием города на Волге Калинова, образ которого является собирательным образом всех русских городов того времени. Изображенный в пьесе пейзаж волжских просторов контрастно оттеняет затхлую, унылую и мрачную атмосферу жизни в этом городе, которая подчеркивается мертвой замкнутостью жизни её жителей, их неразвитостью, серостью и дикой необразованностью. Общее состояние городской жизни автор охарактеризовал как бы перед грозой, когда пошатнется старый, ветхий уклад, а новые и прогрессивные веяния как порыв бешеного грозового ветра унесут долой мешающие людям нормально жить устаревшие правила и предрассудки. Описанный в пьесе период жизни жителей города Калинова как раз находится в состоянии, когда внешне все выглядит спокойным, но это только затишье перед грядущей бурей.

Жанр пьесы можно трактовать как социально-бытовую драму, а также как трагедию. Для первой характерно использование тщательного описания бытовых условий, максимальная передача его «плотности», а также выравнивание характеров. Внимание читателей должно распределяться между всеми участниками постановки. Трактовка пьесы как трагедии предполагает её более глубокий смысл и основательность. Если видеть в смерти Катерины последствие её конфликта со свекровью, то она выглядит как жертва семейного конфликта, и все само разворачивающееся действие в пьесе для настоящей трагедии кажется мелким и незначительным. Но если рассматривать гибель главной героини как конфликт нового, прогрессивного времени с угасающей, старой эпохой, то её поступок как нельзя лучше трактуется в героическом ключе, характерном для трагического повествования.

Талантливый драматург Александр Островский из социально-бытовой драмы о жизни купеческого сословия постепенно создает настоящую трагедию, в которой с помощью любовно-бытового конфликта он показал наступление эпохального перелома, происходящего в сознании народа. Простые люди осознают просыпающее чувство собственного достоинства, начинают по новому относиться к окружающему миру, хотят сами вершить свои судьбы и безбоязненно изъявлять свою волю. Это зарождающееся желание вступает в непримиримое противоречие с реальным патриархальным укладом. Судьба Катерины приобретает общественный исторический смысл, выражающий состояние народного сознания на переломном стыке двух эпох.
Александр Островский, вовремя заметивший обреченность загнивающих патриархальных устоев, написал пьесу «Гроза» и открыл глаза на происходящее всей российской общественности. Он изобразил разрушение привычного, устаревшего образа жизни, с помощью многозначного и образного понятия грозы, которая постепенно нарастая, сметет все со своего пути и откроет дорогу новой, лучшей жизни.