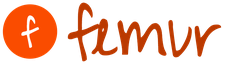Что придает мелодичность рассказу стланик. Проза В
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Шрифт:
100% +
Шоковая терапия
Еще в то благодатное время, когда Мерзляков работал конюхом и в самодельной крупорушке – большой консервной банке с пробитым дном на манер сита – можно было приготовить из овса, полученного для лошадей, крупу для людей, варить кашу и этим горьким горячим месивом заглушать, утишать голод, еще тогда он думал над одним простым вопросом. Крупные обозные материковские кони получали ежедневно порцию казенного овса, вдвое большую, чем приземистые и косматые якутские лошаденки, хотя те и другие возили одинаково мало. Ублюдку-першерону Грому засыпалось в кормушку столько овса, сколько хватило бы пяти «якуткам». Это было правильно, так велось везде, и не это мучило Мерзлякова. Он не понимал, почему лагерный людской паек, эта таинственная роспись белков, жиров, витаминов и калорий, предназначенных для поглощения заключенными и называемая котловым листом, составляется вовсе без учета живого веса людей. Если уж к ним относятся как к рабочей скотине, то и в вопросах рациона надо быть более последовательным, а не держаться какой-то арифметической средней – канцелярской выдумки. Эта страшная средняя в лучшем случае была выгодна только малорослым, и действительно, малорослые доходили позже других. Мерзляков по своей комплекции был вроде першерона Грома, и жалкие три ложки каши на завтрак только увеличивали сосущую боль в желудке. А ведь кроме пайка бригадный рабочий не мог получить почти ничего. Все самое ценное – и масло, и сахар, и мясо – попадало в котел вовсе не в том количестве, какое записано в котловом листе. Видел Мерзляков и другое. Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе не меняла тут ровно ничего. Щупленький интеллигент все же держался дольше, чем гигант калужанин – природный землекоп, – если их кормили одинаково, в соответствии с лагерной пайкой. В повышении пайки за проценты выработки тоже было мало проку, потому что основная роспись оставалась прежней, никак не рассчитанной на рослых людей. Для того чтобы лучше есть, надо было лучше работать, а для того чтобы лучше работать, надо было лучше есть. Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они первыми доходили, что вызывало всегда замечания врачей: дескать, вся эта Прибалтика послабее русского народа. Правда, родной быт латышей и эстонцев дальше стоял от лагерного быта, чем быт русского крестьянина, и им было труднее. Но главное все же заключалось в другом: они не были менее выносливы, они просто были крупнее ростом.
Года полтора назад случилось Мерзлякову после цинги, которая быстро свалила новичка, поработать внештатным санитаром в местной больничке. Там он увидел, что выбор дозы лекарства делается по весу. Испытание новых лекарств проводится на кроликах, мышах, морских свинках, а человеческая доза определяется пересчетом на вес тела. Дозы для детей меньше, чем дозы для взрослых.
Но лагерный рацион не рассчитывался по весу человеческого тела. Вот это и был тот вопрос, неправильное решение которого удивляло и волновало Мерзлякова. Но раньше, чем он ослабел окончательно, ему чудом удалось устроиться конюхом – туда, где можно было красть у лошадей овес и набивать им свой желудок. Мерзляков уже думал, что перезимует, а там – что бог даст. Но вышло не так. Заведующий конебазой был снят за пьянство, и на место его был назначен старший конюх – один из тех, кто в свое время научил Мерзлякова обращаться с жестяной крупорушкой. Старший конюх сам поворовал овса немало и в совершенстве знал, как это делается. Стремясь зарекомендовать себя перед начальством, он, не нуждаясь уже в овсяной крупе, нашел и собственноручно разломал все крупорушки. Овес стали жарить, варить и есть в природном виде, полностью приравнивая свой желудок к лошадиному. Новый заведующий написал рапорт по начальству. Несколько конюхов, в том числе и Мерзляков, были посажены в карцер за кражу овса и направлены с конебазы туда, откуда они пришли, – на общие работы.
На общих работах Мерзляков скоро понял, что смерть близка. Его шатало под тяжестью бревен, которые приходилось перетаскивать. Десятник, невзлюбивший этого ленивого лба («лоб» – это и значит «рослый» на местном языке), всякий раз ставил Мерзлякова «под комелек», заставляя тащить комель, толстый конец бревна. Однажды Мерзляков упал, не мог встать сразу со снега и, внезапно решившись, отказался тащить это проклятое бревно. Было уже поздно, темно, конвоиры торопились на политзанятия, рабочие хотели скорей добраться до барака, до еды, десятник в этот вечер опаздывал к карточному сражению, – во всей задержке был виноват Мерзляков. И он был наказан. Он был избит сначала своими же товарищами, потом десятником, конвоирами. Бревно так и осталось лежать в снегу – вместо бревна в лагерь принесли Мерзлякова. Он был освобожден от работы и лежал на нарах. Поясница болела. Фельдшер мазал спину Мерзлякова солидолом – никаких средств для растирания в медпункте давно не было. Мерзляков все время лежал, полусогнувшись, настойчиво жалуясь на боли в пояснице. Боли давно уже не было, сломанное ребро срослось очень быстро, и Мерзляков стремился ценой любой лжи оттянуть выписку на работу. Его и не выписывали. Однажды его одели, уложили на носилки, погрузили в кузов автомашины и вместе с другим больным увезли в районную больницу. Рентгенокабинета там не было. Теперь следовало подумать обо всем серьезно, и Мерзляков подумал. Он пролежал там несколько месяцев, не разгибаясь, был перевезен в центральную больницу, где, конечно, рентгенокабинет был и где Мерзлякова поместили в хирургическое отделение, в палаты травматических болезней, которые, по простоте душевной, больные называли «драматическими» болезнями, не думая о горечи этого каламбура.
– Вот еще этого, – сказал хирург, указывая на историю болезни Мерзлякова, – переводим к вам, Петр Иванович, лечить его в хирургическом нечего.
– Но вы же пишете в диагнозе: анкилоз на почве травмы позвоночника. Мне-то он к чему? – сказал невропатолог.
– Ну, анкилоз, конечно. Что же я еще могу написать? После побоев и не такие штуки могут быть. Вот у меня на прииске «Серый» был случай. Десятник избил работягу…
– Некогда, Сережа, слушать мне про ваши случаи. Я спрашиваю: зачем переводите?
– Я же написал: «Для обследования на предмет актирования». Потычьте его иголочками, актируем – и на пароход. Пусть будет вольным человеком.
– Но вы же делали снимки? Нарушения должны быть видны и без иголочек.
– Делал. Вот, изволите видеть. – Хирург навел на марлевую занавеску темный пленочный негатив. – Черт тут поймет в таком снимке. До тех пор, пока не будет хорошего света, хорошего тока, наши рентгенотехники все время будут такую муть давать.
– Истинно муть, – сказал Петр Иванович. – Ну, так и быть. – И он подписал на истории болезни свою фамилию, согласие на перевод Мерзлякова к себе.
В хирургическом отделении, шумном, бестолковом, переполненном отморожениями, вывихами, переломами, ожогами – северные шахты не шутили, – в отделении, где часть больных лежала прямо на полу палат и коридоров, где работал один молодой, бесконечно утомленный хирург с четырьмя фельдшерами: все они спали в сутки по три-четыре часа, – там и не могли внимательно заняться Мерзляковым. Мерзляков понял, что в нервном отделении, куда его внезапно перевели, и начнется настоящее следствие.
Вся его арестантская, отчаянная воля была сосредоточена давно на одном: не разогнуться. И он не разгибался. Как хотелось телу разогнуться хоть на секунду. Но он вспоминал прииск, щемящий дыхание холод, мерзлые, скользкие, блестящие от мороза камни золотого забоя, миску супчику, которую за обедом он выпивал залпом, не пользуясь ненужной ложкой, приклады конвоиров и сапоги десятников – и находил в себе силу, чтобы не разогнуться. Впрочем, сейчас уже было легче, чем первые недели. Он спал мало, боясь разогнуться во сне. Он знал, что дежурным санитарам давно приказано следить за ним, чтобы уличить его в обмане. А вслед за уличением – и это тоже знал Мерзляков – следовала отправка на штрафной прииск, а какой же должен быть штрафной прииск, если обыкновенный оставил у Мерзлякова такие страшные воспоминания?
На другой день после перевода Мерзлякова повели к врачу. Заведующий отделением расспросил коротко о начале заболевания, сочувственно покивал головой. Рассказал, как бы между прочим, что даже и здоровые мышцы при многомесячном неестественном положении привыкают к нему, и человек сам себя может сделать инвалидом. Затем Петр Иванович приступил к осмотру. На вопросы при уколах иглы, при постукивании резиновым молоточком, при надавливании Мерзляков отвечал наугад.
Больше половины своего рабочего времени Петр Иванович тратил на разоблачение симулянтов. Он понимал, конечно, причины, которые толкали заключенных на симуляцию. Петр Иванович сам был недавно заключенным, и его не удивляло ни детское упрямство симулянтов, ни легкомысленная примитивность их подделок. Петр Иванович, бывший доцент одного из сибирских институтов, сам сложил свою научную карьеру в те же снега, где его больные спасали свою жизнь, обманывая его. Нельзя сказать, чтобы он не жалел людей. Но он был врачом в большей степени, чем человеком, он был специалистом прежде всего. Он гордился тем, что год общих работ не выбил из него врача-специалиста. Он понимал задачу разоблачения обманщиков вовсе не с какой-нибудь высокой, общегосударственной точки зрения и не с позиций морали. Он видел в ней, в этой задаче, достойное применение своим знаниям, своему психологическому умению расставлять западни, в которые должны были к вящей славе науки попадаться голодные, полусумасшедшие, несчастные люди. В этом сражении врача и симулянта на стороне врача было все – и тысячи хитрых лекарств, и сотни учебников, и богатая аппаратура, и помощь конвоя, и огромный опыт специалиста, а на стороне больного был только ужас перед тем миром, откуда он пришел в больницу и куда он боялся вернуться. Именно этот ужас и давал заключенному силу для борьбы. Разоблачая очередного обманщика, Петр Иванович испытывал глубокое удовлетворение: еще раз он получает свидетельство жизни, что он хороший врач, что он не потерял квалификацию, а, наоборот, отточил, отшлифовал ее, словом, что он еще может…
«Дураки эти хирурги, – думал он, закуривая папиросу после ухода Мерзлякова. – Топографической анатомии не знают или забыли, а рефлексов и никогда не знали. Спасаются одним рентгеном. А нет снимка – и не могут уверенно сказать даже о простом переломе. А фасону сколько! – Что Мерзляков симулянт – это Петру Ивановичу ясно, конечно. – Ну, пусть полежит недельку. За эту недельку все анализы соберем, чтобы все было по форме. Все бумажки в историю болезни подклеим».
Петр Иванович улыбнулся, предвкушая театральный эффект нового разоблачения.
Через неделю в больнице собирали этап на пароход – перевод больных на Большую землю. Протоколы писались тут же в палате, и приехавший из управления председатель врачебной комиссии самолично просматривал больных, приготовленных больницей к отправке. Его роль сводилась к просмотру документов, проверке надлежащего оформления – личный осмотр больного отнимал полминуты.
– В моих списках, – сказал хирург, – есть некто Мерзляков. Ему год назад конвоиры позвоночник сломали. Я бы хотел его отправить. Он недавно переведен в нервное отделение. Документы на отправку – вот, заготовлены.
Председатель комиссии повернулся в сторону невропатолога.
– Приведите Мерзлякова, – сказал Петр Иванович. Полусогнутого Мерзлякова привели. Председатель бегло взглянул на него.
– Экая горилла, – сказал он. – Да, конечно, держать таких нечего. – И, взяв перо, он потянулся к спискам.
– Я своей подписи не даю, – сказал Петр Иванович громким и ясным голосом. – Это симулянт, и завтра я буду иметь честь показать его и вам и хирургу.
– Ну, тогда оставим, – равнодушно сказал председатель, положив перо. – И вообще, давайте кончать, уже поздно.
– Он симулянт, Сережа, – сказал Петр Иванович, беря под руку хирурга, когда они выходили из палаты. Хирург высвободил руку.
– Может быть, – сказал он, брезгливо морщась. – Дай вам бог успеха в разоблачении. Получите массу удовольствия.
На следующий день Петр Иванович на совещании у начальника больницы доложил о Мерзлякове подробно.
– Я думаю, – сказал он в заключение, – что разоблачение Мерзлякова мы проведем в два приема. Первым будет рауш-наркоз, о котором вы позабыли, Сергей Федорович, – сказал он с торжеством, поворачиваясь в сторону хирурга. – Это надо было сделать сразу. А уж если и рауш ничего не даст, тогда… – Петр Иванович развел руками – тогда шоковая терапия. Это занятная вещь, уверяю вас.
– Не слишком ли? – сказала Александра Сергеевна, заведующая самым большим отделением больницы – туберкулезным, полная, грузная женщина, недавно приехавшая с материка.
– Ну, – сказал начальник больницы, – такую сволочь… – Он мало стеснялся в присутствии дам.
– Посмотрим по результатам рауша, – сказал Петр Иванович примирительно.
Рауш-наркоз – это оглушающий эфирный наркоз кратковременного действия. Больной засыпает на пятнадцать – двадцать минут, и за это время хирург должен успеть вправить вывих, ампутировать палец или вскрыть какой-нибудь болезненный нарыв.
Начальство, наряженное в белые халаты, окружило операционный стол в перевязочной, куда положили послушного полусогнутого Мерзлякова. Санитары взялись за холщовые ленты, которыми обычно привязывают больных к операционному столу.
– Не надо, не надо! – закричал Петр Иванович, подбегая. – Вот лент-то и не надо.
Лицо Мерзлякова вывернули вверх. Хирург наложил на него наркозную маску и взял в руку бутылочку с эфиром.
– Начинайте, Сережа!
Эфир закапал.
– Глубже, глубже дыши, Мерзляков! Считай вслух!
– Двадцать шесть, двадцать семь, – ленивым голосом считал Мерзляков, и, внезапно оборвав счет, он заговорил что-то, не сразу понятное, отрывочное, пересыпанное матерной бранью.
Петр Иванович держал в своей руке левую руку Мерзлякова. Через несколько минут рука ослабла. Петр Иванович выпустил ее. Рука мягко и мертво упала на краю стола. Петр Иванович медленно и торжественно разогнул тело Мерзлякова. Все ахнули.
– Вот теперь привяжите его, – сказал Петр Иванович санитарам.
Мерзляков открыл глаза и увидел волосатый кулак начальника больницы.
– Ну что, гадина, – хрипел начальник. – Под суд теперь пойдешь.
– Молодец, Петр Иванович, молодец! – твердил председатель комиссии, хлопая невропатолога по плечу. – А ведь я вчера совсем собрался этой горилле вольную выдать!
– Развяжите его! – командовал Петр Иванович. – Слезай со стола!
Мерзляков еще не очнулся окончательно. В висках стучало, во рту был тошный, сладкий вкус эфира. Мерзляков еще и сейчас не понимал – сон это или явь, и, может быть, такие сны видел он не один раз и раньше.
– А ну вас всех к матери! – неожиданно крикнул он и согнулся, как раньше.
Широкоплечий, костлявый, почти касаясь своими длинными, толстыми пальцами пола, с мутным взглядом и взъерошенными волосами, действительно похожий на гориллу. Мерзляков вышел из перевязочной. Петру Ивановичу доложили, что больной Мерзляков лежит на койке в своей обычной позе. Врач велел привести его в свой кабинет.
– Ты разоблачен. Мерзляков, – сказал невропатолог. – Но я просил начальника. Тебя не отдадут под суд, не пошлют на штрафной прииск, тебя просто выпишут из больницы, и ты вернешься на свой прииск, на старую работу. Ты, брат, герой. Целый год морочил нам голову.
– Ничего я не знаю, – сказала горилла, не поднимая глаз.
– Как не знаешь? Ведь тебя только что разогнули!
– Никто меня не разгибал.
– Ну, милый мой, – сказал невропатолог. – Это уже вовсе лишнее. Я с тобой хотел по-хорошему. А так – гляди, сам будешь проситься на выписку через неделю.
– Ну что там еще будет через неделю, – тихо сказал Мерзляков. Как ему было объяснить врачу, что даже лишняя неделя, лишний день, лишний час, прожитый не на прииске, это и есть его, мерзляковское, счастье. Если врач не понимает этого сам, как объяснить ему? Мерзляков молчал и глядел в пол.
Мерзлякова увели, а Петр Иванович пошел к начальнику больницы.
– Так можно завтра, а не через неделю, – сказал начальник, выслушав предложение Петра Ивановича.
– Я обещал ему неделю, – сказал Петр Иванович, – не обеднеет же больница.
– Ну, ладно, – сказал начальник. – Пусть через неделю. Только меня позовите. А привязывать будете?
– Нельзя привязывать, – сказал невропатолог. – Вывихнет руку или ногу. Держать будут. – И, взяв историю болезни Мерзлякова, невропатолог написал в графе назначений «шоковая терапия» и поставил дату.
При шоковой терапии вводится в кровь больного доза камфорного масла в количестве, в несколько раз превышающей дозу того же лекарства, когда его вводят подкожным уколом для поддержания сердечной деятельности тяжелобольных. Действие ее приводит к внезапному приступу, подобному приступу буйного сумасшествия или эпилептическому припадку. Под ударом камфоры резко повышается вся мышечная деятельность, все двигательные силы человека. Мышцы приходят в напряжение небывалое, и сила больного, потерявшего сознание, удесятеряется. Приступ длится несколько минут.
Прошло несколько дней, а Мерзляков и не думал разгибаться по своей воле. Пришло утро, записанное в истории болезни, и Мерзлякова привели к Петру Ивановичу. На Севере дорожат всяким развлечением – докторский кабинет был полон. Восемь здоровенных санитаров выстроились вдоль стен. Посреди кабинета стояла кушетка.
– Здесь и будем делать, – сказал Петр Иванович, вставая из-за стола. – К хирургам ходить не станем. Кстати, где Сергей Федорович?
– Он не придет, – сказала Анна Ивановна, дежурная сестра. – Он сказал «занят».
– Занят, занят, – повторил Петр Иванович. – Ему полезно было бы посмотреть, как я делаю за него его работу.
Мерзлякову засучили рукав, и фельдшер помазал его руку йодом. Взяв в правую руку шприц, фельдшер проколол иглой вену близ локтевого сгиба. Темная кровь хлынула из иглы внутрь шприца. Фельдшер мягким движением большого пальца нажал поршень, и желтый раствор стал уходить в вену.
– Побыстрей вливайте! – сказал Петр Иванович. – И живей отходите в сторону. А вы, – сказал он санитарам, – держите его.
Огромное тело Мерзлякова подпрыгнуло и забилось в руках санитаров. Восемь человек держали его. Он хрипел, бился, лягался, но санитары держали его крепко, и он стал затихать.
– Тигра, тигра так удержать можно, – кричал Петр Иванович в восторге. – В Забайкалье тигров так руками ловят. Вот обратите внимание, – говорил он начальнику больницы, – как Гоголь преувеличивает. Помните конец «Тараса Бульбы»? «Мало не тридцать человек повисло у него по рукам и по ногам». А эта горилла покрупнее Бульбы-то. И всего восемь человек.
– Да, да, – сказал начальник. Гоголя он не помнил, но шоковая терапия ему чрезвычайно понравилась.
На следующее утро Петр Иванович во время обхода больных задержался у койки Мерзлякова.
– Ну, как, – спросил он, – какое твое решение?
– Выписывайте, – сказал Мерзляков.
На Крайнем Севере, на стыке тайги и тундры, среди карликовых берез, низкорослых кустов рябины с неожиданно крупными светло-желтыми водянистыми ягодами, среди шестисотлетних лиственниц, что достигают зрелости в триста лет, живет особенное дерево – стланик. Это дальний родственник кедра, кедрач, – вечнозеленые хвойные кусты со стволами потолще человеческой руки и длиной в два-три метра. Он неприхотлив и растет, уцепившись корнями за щели в камнях горного склона. Он мужествен и упрям, как все северные деревья. Чувствительность его необычайна.
Поздняя осень, давно пора быть снегу, зиме. По краю белого небосвода много дней ходят низкие, синеватые, будто в кровоподтеках, тучи. А сегодня осенний пронизывающий ветер с утра стал угрожающе тихим. Пахнет снегом? Нет. Не будет снега. Стланик еще не ложился. И дни проходят за днями, снега нет, тучи бродят где-то за сопками, и на высокое небо вышло бледное маленькое солнце, и все по-осеннему…
А стланик гнется. Гнется все ниже, как бы под безмерной, все растущей тяжестью. Он царапает своей вершиной камень и прижимается к земле, растягивая свои изумрудные лапы. Он стелется. Он похож на спрута, одетого в зеленые перья. Лежа, он ждет день, другой, и вот уже с белого неба сыплется, как порошок, снег, и стланик погружается в зимнюю спячку, как медведь. На белой горе взбухают огромные снежные волдыри – это кусты стланика легли зимовать.
А в конце зимы, когда снег еще покрывает землю трехметровым слоем, когда в ущельях метели утрамбовали плотный, поддающийся только железу снег, люди тщетно ищут признаков весны в природе, хотя по календарю весне пора уж прийти. Но день неотличим от зимнего – воздух разрежен и сух и ничем не отличен от январского воздуха. К счастью, ощущения человека слишком грубы, восприятия слишком просты, да и чувств у него немного, всего пять – этого недостаточно для предсказаний и угадываний.
Природа тоньше человека в своих ощущениях. Кое-что мы об этом знаем. Помните рыб лососевых пород, приходящих метать икру только в ту реку, где была выметана икринка, из которой развилась эта рыба? Помните таинственные трассы птичьих перелетов? Растений-барометров, цветов-барометров известно нам немало.
И вот среди снежной бескрайней белизны, среди полной безнадежности вдруг встает стланик. Он стряхивает снег, распрямляется во весь рост, поднимает к небу свою зеленую, обледенелую, чуть рыжеватую хвою. Он слышит неуловимый нами зов весны и, веря в нее, встает раньше всех на Севере. Зима кончилась.
Бывает и другое: костер. Стланик слишком легковерен. Он так не любит зиму, что готов верить теплу костра. Если зимой, рядом с согнувшимся, скрюченным по-зимнему кустом стланика развести костер – стланик встанет. Костер погаснет – и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет на старое место. И его занесет снегом.
Нет, он не только предсказатель погоды. Стланик – дерево надежд, единственное на Крайнем Севере вечнозеленое дерево. Среди белого блеска снега матово-зеленые хвойные его лапы говорят о юге, о тепле, о жизни. Летом он скромен и незаметен – все кругом торопливо цветет, стараясь процвести в короткое северное лето. Цветы весенние, летние, осенние перегоняют друг друга в безудержном бурном цветении. Но осень близка, и вот уже сыплется желтая мелкая хвоя, оголяя лиственницы, палевая трава свертывается и сохнет, лес пустеет, и тогда далеко видно, как среди бледно-желтой травы и серого мха горят среди леса огромные зеленые факелы стланика.
Мне стланик представлялся всегда наиболее поэтичным русским деревом, получше, чем прославленные плакучая ива, чинара, кипарис. И дрова из стланика жарче.
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
Рассказ «Стланик» был написан русским писателем Варламом Тихоновичем Шаламовым в пятидесятых годах нашего столетия, во время его проживания в Калининской области, и относится к циклу «Колымские рассказы». Как и многие другие писатели того времени, Варлам Тихонович стал жертвой тоталитаризма. Бесконечные ссылки, золотые прииски, таежные командировки, больничные койки... В 1949 году на Колыме он впервые начал записы- рать свои произведения. В документально-философской прозе Ша- ламов выразил весь многострадальный опыт сверхчеловеческих испытаний в сталинских лагерях строгого режима. Голод, холод, побои и унижения прекратились лишь после того, как в 1956 году писатель был реабилитирован. Но это событие, увы, не было концом всех перенесенных страданий. Как писателя, автора множества глубокомысленных произведений, его ожидало самое страшное: бойкот со стороны различных литературных изданий, полное игнорирование творчества. Рассказы Шаламова не печатались. Мотивировалось это тем, что в них не хватало энтузиазма, лишь один абстрактный гуманизм. Но как мог человек, столько претерпевший от этого режима, возносить ему дифирамбы? Несмотря на то что его рассказы постоянно возвращались редакцией, он продолжал писать. Тяжелейшее состояние здоровья не позволяло делать это самому, поэтому он диктовал свои стихи, воспоминания. Лишь по прошествии пяти лет с момента смерти писателя, в 1987 году, были опубликованы первые его работы: произведения из колымских тетрадей. Среди них - рецензируемый мною рассказ.
Стланик - таежное дерево, родственник кедра, растущее, благодаря своей неприхотливости, на горных склонах, цепляясь корнями за камни. Примечательно оно тем, что способно реагировать на условия окружающей среды. В предчувствии похолодания или выпадания снега оно прижимается к поверхности, расстилается. Это буквальный смысл рассказа, его тема. Но мне кажется, что это дерево для Шаламова не только предсказатель погоды. Он пишет, что стланик - единственное вечнозеленое дерево в этих северных краях, дерево надежд. Сильный, упрямый, неприхотливый, он подобен человеку, оставшемуся один на один в борьбе со стихией. Летом, когда другие растения пытаются процвести как можно быстрее, обгоняя в этом друг друга, стланик, наоборот, незаметен. Он непоколебимый идеолог борьбы, охваченный теплым веянием лета, не поддается соблазну и не изменяет своим принципам. Он постоянно насторожен и готов принести себя в жертву стихии. Разве не похоже это на людей? Вспомните, каким унижениям был подвергнут Борис Пастернак? А чуть позже, уже, казалось бы, совсем в другое время, издевательства над Андреем Дмитриевичем Сахаровым? Да, эти люди выстояли, хотя и были непоняты большинством и отвергнуты. Но многие другие ломались под гнетом тоталитарного строя. Были ли они неверны своим идеалам или просто слишком доверчивы? Может, и вправду они отцвели и оставили после себя лишь вымерший, холодный лес?
Шаламов писал о стланике как о слишком доверчивом дереве: стоит только развести близ него костер, как он тут же поднимает свои пушистые зеленые ветви. Костер погаснет, и стланик, огорченный обманом, опустится, занесенный снегом. По словам автора, чувства человека не так утонченны. Но, несмотря на это, люди слишком часто остаются обманутыми. Если дерево после этого способно вернуться к обыденной жизни, то человек - редко. Появление костра в жизни кедрача можно сравнить, по моему мнению, с периодом хрущевской «оттепели». Сколько людей тогда стали жертвами обмана, предательства!
Как писал Шаламов, у человека всего пять чувств. Да, может быть, их и недостаточно для того, чтобы распознавать перемены, происходящие вокруг, но их вполне хватит для того, чтобы проникнуться теми тысячами, которые овладевали писателем. Прочи- тав рассказ, я понял, какое значение имеет для человека надежда, вера в лучшее. Подобно ростку, вечнозеленому дереву, пробивающемуся сквозь вьюгу и стужу к солнечному свету, надежда в чело- веческом сознании заставляет его верить, отстаивать свои идеалы. Недаром говорят, что она умирает последней. Кроме того, меня не покидала мысль о непомерном мужестве как одинокого таежного дерева, так и многих людей, борющихся за справедливость.
Рецензия - исследование, содержащее критическую оценку. Мой бунтарский характер конечно же мог бы помочь мне в критике, но только тогда, когда я с чем-то не согласен. В этом на первый взгляд абстрактном произведении содержится столько скрытого смысла и различных доводов, с которыми я просто не могу спорить, что мне остается только полностью разделить свое мнение с автором. Если же критика бывает положительной, то рецензия мне удалась. И напоследок хочу сказать, что было бы замечательно, если бы огонь в душе каждого борца за справедливость горел так же жарко и ярко, как и дрова из замечательного таежного дерева.
Статья выложена на труднодоступном сайте, дублирую здесь.
Северные образы и мотивы в рассказе «Стланик» Варлама Шаламова
Объединяющим признаком рассказов Варлама Шаламова является Колыма. В широком смысле все его рассказы, написанные после освобождения — колымские, они все объединены лагерным, колымским опытом писателя. Шаламов считал, что после ужасов Колымы, Освенцима и Хиросимы уже невозможно писать прозой прошлого.
«Русские писатели-гуманисты II половины XIX века несут на душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке. От их наследия новая проза отказывается». Она должна быть прозой достоверности и может быть написана только людьми, знающими свой материал в совершенстве; не наблюдателями, а участниками того, о чем они будут писать. Место действия его «Колымских рассказов» — Колыма, Крайний Север. В связи с этим представляется необходимость рассмотрения влияния в рассказах Шаламова колымской, северной действительности. В качестве материала для анализа взят рассказ «Стланик» из цикла «Колымские рассказы».
Стланик, северное дерево, о котором писатель говорил так: «Из всех северных деревьев я больше других любил стланик, кедрач». Он сравнивает его с собой, его жизнь со своей судьбой. «Мои рассказы — это, в сущности, советы человеку, как держать себя в толпе». Шаламов против обезличивания, сливания с толпой, он всегда утверждал, что надо поступать только по своей совести, не слушая авторитетных, всеми уважаемых мнений. Именно в этом смысле можно сравнить его судьбу с жизнью северного дерева стланика. «Летом он скромен и незаметен — все кругом торопливо цветет, стараясь процвести в короткое северное лето... Но осень близка, и вот уже сыплется желтая мелкая хвоя, оголяя лиственницы, палевая трава свертывается и сохнет, лес пустеет, и тогда далеко видно, как среди бледно-желтой травы и серого мха горят среди леса огромные зеленые факелы стланика». Так и о своей жизни писал сам Шаламов, что он с боязнью подходит к теме Колымы, и что есть люди, у которых память лучше, чей талант ярче и глубже, чем его; но для себя Шаламов решил, что он обязательно вернется на материк и расскажет обо всем, что он увидел и понял в лагерях. Он попытается выжить, как это северное, неприхотливое и прямое дерево, которое растет «уцепившись корнями за щели в камнях горного склона». Шаламовский тланик воспринимается к живое существо. При его описании он использует олицетворения: стряхивая снег со своей... одежды; он обманывался; он погружается в зимнюю спячку, как медведь; он слышит зов весны, и веря в нее, встает раньше всех; стланик слишком легковерен; он так не любит зиму (кстати, сам Шаламов тоже не любил зиму), что готов верить теплу костра; разочарованный кедрач, плача от обиды и т.д. Градации в описании стланика используются, чтобы соединить неодушевленное с одушевленным: «всегда зелено, всегда живо», «его лапы говорят о юге, о тепле, о жизни». Сначала идут юг, тепло, зелень и только потом жизнь. Стланик у Шаламова ассоциируется с надеждой: «стланик — дерево надежд», он предвестник весны.
Невозможно представить север без снега. Снег у Шаламова настолько плотный, что «поддается только железу», покрывает землю «трехметровым слоем». Первый снег — это не легкий, как пух, снег, который «кружится, летает и тает»; а похож на порошок, который сыплется с белого неба. Снег — предвестник зимы: «давно пора быть снегу, зиме». Снег — это всегда покров, он скрывает стланик: «...кедрач снова согнется и ляжет на старое место. И его занесет снегом». Вся летняя красота природы исчезает под снегом. А снежная бескрайняя белизна соотносится с понятием полной безнадежности.
И один лишь стланик непокорен снегу, хотя он, вначале, осенью покорно гнется, «как бы под безмерной, все растущей тяжестью», но он гнется, чтобы весной внезапно выпрямиться. «Он стряхивает снег, распрямляется во весь рост, поднимает к небу свою зеленую, обледенелую, чуть рыжеватую хвою». В рассказе снег и стланик выступают двумя противоположностями: снег как полная безнадежность и предвестник зимы, а стланик как дерево надежды и предвестник весны.
Костер в рассказе выступает как ложное тепло, он гаснет. Кедрач верит неуловимому зову весны, и также готов верить (он легковерный) теплу костра. Но он разочаровывается, «костер погаснет — и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет на старое место. И его занесет снегом».
Зима и весна предстают тоже двумя противоположностями, как стланик и снег.
Шаламов не любил зиму, «главное средство растления души — холод, в среднеазитских лагерях, наверное, люди держались дольше — там было теплее». Это можно узнать по мимолетным фразам, о том, что «в конце зимы, когда снег еще покрывает землю трехметровым слоем, когда в ущельях метели утрамбовали плотный снег… а люди тщетно ищут признаков весны».
Другие растительные образы в рассказе — карликовые березы, низкорослые кусты рябины, лиственницы, цветы и травы — все они «погибают», покрытые снегом: «палевая трава свертывается и сохнет, лес пустеет». Зимой их нет: только «снежная бескрайняя белизна и полная безнадежность».
Влияние северной действительности на поэтику Шаламова огромно. Она усиливает депрессивность, обреченность в рассказах. Север предстает у Шаламова как нечто отрицательное со своим жгучим холодом, бескрайней снежной белизной, метелями. «Природа на Севере не безразлична, не равнодушна — она в сговоре с теми, кто послал нас сюда», сказал писатель. Природа, бескрайние снежные просторы, долгая зима поставлены в один ряд со сталинским режимом. Образ снега в рассказе усиливает картины полной безнадежности, снег всегда является тем покровом, который подавляет все живое, все чувства. А живое на севере, деревья и травы, все ни увядают осенью, свертываются и сохнут. «У Шаламова Колыма в силу присущего ей рельефа местности предстает одним общим склепом с заживо погребенными людьми-полутрупами» (Л. Жаравина). Мотив погребения присутствует в образе снега и образе других растений и деревьев. Выживает только стланик, который скромен и незаметен, и в то же время мужествен и упрям.
Список литературы:
1. Шаламов В.Т. Избранное. - СПб.: Азбука-классика, 2003. 832 с.
2. Шаламов В.Т. Несколько моих жизней: воспоминания, записные книжки, переписка. - М.: Эксмо, 2009. 1072 с.
Апросимова Елизавета Гаврильевна
, филологический факультета ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск
E-mail: [email protected]
Опубликовано в сборнике "Материалы XII всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, 1-2 апреля 2011 г.", изд. Технический институт (филиал) СВФУ, 2011, Нюренгри.
В школе к творческому наследию Варлама Тихоновича Шаламова обращаются в выпускном классе. На уроках русской литературы рассказы писателя рассматриваются прежде всего как произведения так называемой лагерной прозы, в которых повествуется о тяжелой жизни узников и сверхчеловеческих испытаниях, выпавших на их долю.
Однако художественный мир В.Т. Шаламова шире, многограннее, он немыслим без образов, связанных с природой. Во многих произведениях писателя можно встретить пейзажные зарисовки, описание явлений природы; есть у Шаламова рассказы о животных, и, безусловно, одним из центральных образов в его произведениях является образ дерева. И не только потому, что вселенной этого писателя является тайга и другого мира для него уже не существует. Обращаясь к дереву, автор обращается к своей душе, жизнь дерева – это его собственная жизнь, жизнь человека, и этот человек не обязательно заключенный, вот что должны понять учащиеся при изучении творчества В.Т.Шаламова.
В XI классе, когда учащиеся знакомятся с новой прозой В.Т.Шаламова, в основе которой достоверность, документальность, страшная правда, рассматривать творчество писателя в данном аспекте весьма проблематично, прежде всего в силу психологических причин: каждый, кто впервые сталкивается с его произведениями, испытывает шок. Кроме того, В.Т. Шаламов – один из немногих писателей, к которому школьники обращаются единожды; почти все поэты и писатели, творчество которых изучается в XI классе, уже знакомы учащимся, так как произведения многих авторов, обычно небольшие, рассматривались в предыдущие годы. Поэтому предварительное знакомство с этим уникальным писателем, пропедевтическое изучение его прозы просто необходимо.
На уроках русской литературы в IX классе учащиеся обращаются к тем рассказам В.Т. Шаламова, в которых не говорится напрямую о том, что герой – заключенный, находится в лагере смерти. В некоторых рассказах писателя невозможно определить даже время и место действия (не в географическом, а административно-территориальном смысле); это тайга, Крайний Север – вот и все, о чем может узнать читатель. Такие рассказы можно найти в сборнике «Воскрешение лиственницы» (в XI классе изучаются «Колымские рассказы»).
Учащиеся читают и обсуждают рассказы о животных «Храбрые глаза», «Белка», «Медведи», где автор описывает «трудный и серьезный таежный звериный мир», в котором все гармонично, закономерно и, следовательно, красиво. Знакомясь с содержанием этих рассказов, учащиеся приходят к выводу, что грубое вмешательство человека может в одночасье погубить этот замечательный мир. Можно рассмотреть такие интересные произведения, как «Водопад», «Укрощая огонь», в которых повествуется о природных стихиях – тема редкая в русской литературе, девятиклассники с большим интересом читают эти рассказы, так как узнают много нового о неизведанном таежном крае. О природе Крайнего Севера, его уникальной флоре автор пишет в рассказе «Тропа».
Как уже было сказано выше, одним из ярких, ведущих, основополагающих образов в творчестве В.Т.Шаламова является образ дерева, поэтому для детального из учения девятиклассникам можно предложить рассказ «Стланик».
Обращение к этому рассказу на первый взгляд может показаться необоснованным, так как наиболее часто упоминаемое дерево в произведениях В.Т.Шаламова – это лиственница. Слово «лиственница» можно встретить почти в каждом произведении писателя; одним из самых известных является рассказ «Воскрешение лиственницы», завершающий одноименный цикл. В этом рассказе сконцентрировано все: и творческая программа писателя, и его мировоззрение: «Нет, лиственница – дерево, непригодное для романсов, об этой ветке не споешь, не сложишь романс. Здесь слово другой глубины, иной пласт человеческих чувств». Это произведение очень сложное для восприятия учащимися IX класса, так как в нем затрагиваются глубокие философские проблемы. Кроме того, рассматривать этот рассказ вне контекста жизни и творчества В.Т.Шаламова невозможно. Знакомясь с содержанием рассказа, девятиклассники неизбежно столкнутся с утверждением: «Лиственница – дерево Колымы, дерево концлагерей», которое требует специального, развернутого объяснения, глубокого осмысления. Поэтому на уроках русской литературы в IX классе обращение к образу лиственницы носит ознакомительный характер, рассматриваются фрагменты рассказов, в которых дается описание этого дерева, подробно же рассматривается рассказ «Стланик», который входит в сборник «Колымские рас сказы» – таким образом, девятиклассники имеют возможность познакомиться с одним из рассказов сборника, изучаемого в X классе.
«Мне стланик представлялся всегда наиболее поэтичным русским деревом...» – писал В.Т.Шаламов, поэтому тема урока носит название «Образ стланика – «наиболее поэтичного русского дерева» – в прозе В.Т.Шаламова».
В начале урока перед учащимися ставится цель – выяснить, почему автор обратился к образу стланика, почему он считает, что это самое поэтичное дерево.
Многие девятиклассники впервые встречают это название – стланик (в Большом Энциклопедическом словаре этого слова нет); поэтому необходимо опережающее задание: учащиеся должны узнать, что означает это слово. Обратившись к различным словарям, в том числе и специальным, учащиеся выясняют, что стланик – родственник ливанского кедра, теплолюбивого дерева, растущего на юге, в жарких странах, и отмечают, что В.Т.Шаламов действительно пишет о том, что стланик – дерево особенное, «дальний родственник кедра, кедрач». Учащиеся задаются вопросом, почему писатель называет стланик особенным деревом, и находят, что все, связанное с этим деревом (по сути, это кустарник), противоречиво и неестественно: автор пишет о том, что стланик неприхотлив, но тут же отмечает, что «чувствительность его необычайна»; подчеркивая уникальность этого дерева, исключительное для Крайнего Севера родство с южным деревом, утверждает, что он «мужествен и упрям, как все северные деревья». Неестественно само существование этого дерева, корни которого находятся не в земле, а в каменистой, неживой почве горного склона. Таким образом, учащиеся приходят к выводу, что автор рассказа, подчеркивая неестественность произрастания такого дерева в северных условиях, говорит об абсурдности той ситуации, в которой оказались люди, заброшенные судьбой в этот суровый край. Пребывание человека на Крайнем Севере, «на стыке тайги и тундры», противоестественно, абсурдно, особенно если этот человек родился в другом месте, где климат намного мягче, поэтому зима, снег, холод, вечная мерзлота воспринимаются как зло, беда, страшное испытание, через которое придется пройти герою – стланику, человеку.
Используя прием олицетворения, автор сравнивает судьбу стланика с судьбой человека. В рассказе дается жизнеописание стланика – от осени до осени; жизненный путь дерева – жизнь героя, а также его характеристика. Задача учащихся – проследить этот путь, найти то, что роднит человека с деревом. Класс можно разделить на 4 группы («Стланик осенью», «Стланик зимой», «Весной», «Летом»), каждая из которых будет рассматривать соответствующий фрагмент художественного текста. В каждое время года стланик ведет себя по-разному: поздней осенью он гнется и стелется, автор сравнивает его со спрутом, одетым в зеленые перья; зимой он, как медведь, погружается в спячку, весной, забыв о безнадежности, встает во весь рост, а летом он «скромен и незаметен». Учащиеся приходят к выводу, что во всех фрагментах, в которых представлены разные грани «характера» стланика, писатель выделяет главное – неповторимость, исключительность этого дерева. В доказательство своего утверждения о том, что стланик – особенное дерево, он противопоставляет его другим деревьям, растениям, всему живому и неживому в природе. Так, учащиеся первой группы, исследующие фрагмент, в котором рассказывается о жизни стланика осенью, находят, что, когда вся природа чувствует надвигающиеся холода и пахнет снегом, стланик единственный не ложится (и оказывается прав, потому что холода не приходят); вторая группа отмечает, что зимой стланик ведет себя не так, как другие деревья: кусты стланика ложатся зимовать в снег. «Весенняя» группа в своем фрагменте находит слова автора о том, что стланик «встает раньше всех на Севере». Описывая жизнь тундры и тайги в летнее время, и противопоставляя яркому, торопливо и пышно цветущему северному лету неприметный в это время стланик, писатель вновь подчеркивает его особенность – к такому выводу приходят учащиеся 4-й группы.
Учитель задает вопрос: «В чем заключается особенность этого дерева? Только ли в том, что у него необычное происхождение и оно ведет себя не так, как другие растения?» Обратившись к тексту, учащиеся отвечают, что В.Т.Шаламов называет стланик предсказателем погоды, деревом надежд. Можно порассуждать о том, почему именно это дерево стало растением-барометром (как растение, помещенное в необычную для него среду, вынуждено приспосабливаться и реагировать на малейшие изменения в погоде, так и чувства человека, оказавшегося в непривычных, опасных для жизни условиях, обостряются). Но стланик, как и человек, может обмануться: учитель обращает внимание учеников на эпизод, в котором рассказывается о том, как стланик поверил теплу костра и поднялся из снега. «Стланик слишком легковерен», – пишет В.Т.Ша ламов. Можно ли то же самое сказать о человеке, обманувшемся в своих надеждах?
«Костер погаснет – и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет на старое место. И его занесет снегом».
Детям предлагается поразмышлять над этими словами и ответить на вопрос: почему автор в данном случае заменил слово «стланик» словом «кедрач»? Исследуя содержание текста, учащиеся находят, что слово «кедрач» автор рассказа использует дважды: когда знакомит читателя с деревом («дальний родственник кедра, кедрач») и когда хочет напомнить, что дерево это, хвойные лапы которого «говорят о юге, о тепле, о жизни», по законам природы не должно было оказаться в ледяной стране. Так и человек, рожденный для счастья, не должен страдать, не должен бороться со смертью в далеком, непригодном для жизни краю, потому что это против всех законов человеческих.
Для того чтобы ответить на вопрос, поставленный в начале урока (почему В.Т. Шаламов пишет о стланике и называет его самым поэтичным русским деревом), учащиеся обращаются к финалу рассказа, в котором содержится глубокий символический смысл. Но сначала девятиклассники должны ответить на вопрос: «Всякого ли человека, который проходит через тяжелые испытания, можно сравнить с таким ранимым, но выносливым, стойким деревом, как стланик?» Учащиеся отвечают, что не каждый способен выдержать трудности, беды, лишения. Такие люди, подобно полевой траве, «свертываются и сохнут», осыпаются, как желтая мелкая хвоя. Выстоять сможет лишь тот, кто сохранил в себе все лучшее, что в нем было, сохранил свет в своей душе, «и тогда далеко видно, как среди бледно-желтой травы и серого мха горят среди леса огромные зеленые факелы стланика».
Факел – символ света, цивилизации, культуры. Люди-стланики, сгорая, несут человечеству свет, жизнь, дарят надежду. Учащимся предлагается проследить, какие цвета использует писатель в данном отрывке. Бледно-желтый – цвет увядания, смерти; серый – посредственности, а зеленый – цвет надежды, цвет жизни. Автор рассказа постоянно напоминает читателю, что стланик – дерево вечнозеленое. Вечнозеленое – в этом слове заключена идея бессмертия – бессмертия дерева, человека, поэта. В.Т. Шаламов писал, что он выжил благодаря поэзии: в самые горькие минуты, когда уже не было сил жить, он читал наизусть стихи. Поэзия помогла ему выжить, она освещала ему дорогу, как зеленый факел, дарящий надежду. Может быть, поэтому писатель В.Т. Шаламов называет стланик «наиболее поэтичным русским деревом»? Учащимся предлагается порассуждать на эту тему и написать небольшое сочинение, в котором они могут вы разить свое видение вопроса.
Творческое наследие Варлама Тихоновича Шаламова – поразительный документ, трагическая страница в истории нашей страны. Однако не следует забывать, что В.Т. Шаламов – прежде всего писатель, и на уроках литературы, посвященных творчеству этого замечательного прозаика, поэта, необходимо знакомить детей с художественным миром его бессмертных произведений, в которых нашли отражение не только время, события, но и душа писателя, человека.
Русская словесность. 2006. № 4. – С. 33-36.
Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@сайт. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.