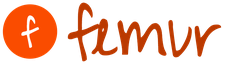Распутин.солженицын - Самое интересное в блогах. Критика о творчестве А
Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии А. И. Солженицына Резник Семен Ефимович
Эпоха Распутина 1911–1916
Эпоха Распутина
Анна Александровна Вырубова (в интимном кругу - Аннушка), ближайшая подруга императрицы и главная посредница между ней и «старцем» Распутиным, после Февральского переворота была арестована, помещена в Петропавловскую крепость и многократно допрашивалась Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства по расследованию преступлений царского режима. Аннушка отрицала какую-либо причастность - свою и старца - к политическим решениям. Она утверждала, что с царем и царицей Распутин виделся редко и говорил с ними о Боге, молитвах, врачевании; с ней самой он вел только душеспасительные беседы. В воспоминаниях, написанных потом в эмиграции, она держалась той же линии. Через несколько лет после их публикации в советском альманахе «Минувшие дни» появился «Дневник» Вырубовой, который свидетельствовал как раз об обратном. Но Аннушка заявила в печати, что ничего общего с этим дневником не имеет. Вскоре его подложность подтвердила научная экспертиза. Оказалось, что то была «шалость» писателя А. Н. Толстого и литературоведа и историка П. Е. Щеголева.
А. А. Вырубова. 1910-е годы
К чести мистификаторов надо сказать, что, при всей сомнительности их «литературного» приема, в поддельном «Дневнике» Вырубовой оказалось куда больше исторической правды, чем в ее подлинных мемуарах. Ничего мистического в осведомленности мистификаторов не было. В 1917 году Щеголев был секретарем Чрезвычайной следственной комиссии, которая допрашивала Аннушку, а также десятки других весьма осведомленных лиц. Большевистский переворот пресек работу Комиссии, но она успела накопить обширный материал. Позднее Щеголев обработал и издал стенограммы допросов в семи объемистых томах - бесценный источник для всех, кто интересуется закатными годами императорской России. Авторам «Дневника» было, на что опереться.
Что же касается подлинных материалов о Распутине, то они больше похожи на мистификацию, чем подделка Толстого-Щеголева. Многие очевидцы, подчеркивавшие свою близость к Распутину и оставившие сотни страниц «личных воспоминаний», на поверку едва были с ним знакомы. Те же, кто хорошо знал «старца», либо намеренно замалчивали свои связи с ним, либо многократно их преувеличивали. Так, известный нам генерал П. Г. Курлов был возвращен в высший эшелон власти Распутиным. Но он категорически отрицает, что пользовался протекцией старца.
Товарищ обер-прокурора Святейшего синода князь Н. Д. Жевахов уверяет, что репутацию распутинца заработал незаслуженно, так как всеми силами боролся против «старца». Впрочем, по его мнению, старец вообще никакого значения не имел, так думают о нем «честные люди», «как Бог велит, а не так, как приказывают думать жиды».
Но и материалы, исходящие от тех, кто не скрывал своей близости к Распутину, столь же сомнительны. В глазах некоторых из них Распутин был святым, пророком, прорицателем, воплощенным божеством; для них он объект беспредельной любви и поклонения. Для других он был жуликом, извращенцем, сексуальным маньяком - средоточием низости и порока. Особое место занимают почитатели Распутина, которые затем стали его врагами, такие, как неистовый иеромонах-расстрига Илиодор (Сергей Труфанов), одержимый «одной, но пламенной страстью» - уничтожить, стереть в порошок ненавистного Гришку! Мало кто опубликовал о нем столько разоблачительных документов, но можно ли доверять сведениям, исходящим от такого пристрастного источника!
Словом, самые, казалось бы, достоверные материалы о Распутине - это царство кривых зеркал. Найти в них адекватное отражение старца - дело почти безнадежное. Возможна ли золотая середина между крайними суждениями? Пока ее никто не нашел.
Доктор филологических наук Татьяна Миронова опубликовала доклад, в котором заявлено, что существовало два Распутина: подлинный и фальшивый. Подлинный Распутин был праведником, патриотом, сгустком русской народной мудрости; он беспрестанно молился за Россию, ее самодержца, его семью, спасал от смерти больного наследника, радел об укреплении трона и благе России. А дебоширил по ресторанам, устраивал хлыстовские оргии, изгонял оптом и в розницу «блудного беса» из своих почитательниц, - это все делал двойник Распутина. Двойник манипулировал министрами, губернаторами, церковными владыками. Двойник писал нарочито безграмотные записочки-приказы, обделывая все те грязные дела, которые приписывали Распутину.
«Ни один чиновник, получивший от просителя-мошенника такую записку, не знал ни действительного почерка Распутина, ни его самого… И какая же буря негодования должна была взметнуться в душе высокопоставленного лица, получившего невозможную по наглости просьбу мошенника, с подобным сопроводительным письмом „от Гришки“. И эта буря негодования немедленно распространялась на Государя, чего и добивались еврейские аферисты». Вместе с праведным Игорием жертвами клеветы становились царь, царица, подрывался престиж государства. «Для этого и была изобретена иудейская афера с появлением фальшивой личности - двойника Григория Распутина», - итожит ученая филологиня.

Г. Распутин
Разобравшись с жизнью старца Игория, она вступает в единоборство с его смертью. До сих пор было известно, что Гришка Распутин был убит во дворце князя Юсупова, причем наиболее активную роль играли сам Феликс Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович и член Государственной Думы В. М. Пуришкевич. Опубликованы дневник Пуришкевича и воспоминания Юсупова. Оба в подробностях описали убийство, нисколько не пытаясь умалить своего участия в этом подвиге. Однако Т. Миронова считает, что изданный посмертно дневник Пуришкевича был сочинен кем-то другим, а князь Юсупов писал воспоминания под диктовку тех же таинственных лиц. «Не только жизнь Григория Ефимовича исказили, оклеветали, сфальсифицировали, но и смерть его мученическую оболгали».
Что же было на самом деле? Уж не убили ли в юсуповском дворце двойника Распутина, тогда как праведник был спасен промыслом Божиим? Нет, говорит Т. Миронова, убит был подлинный Распутин, но в другом месте, другими лицами и другим способом. «Умышленно запутали историю страшной смерти, и все это делалось и продолжает делаться только для одного - сокрыть ритуальный характер убийства».
Новаторская идея!
Ведь в традиционной антисемитской мифологии еврейский заговор и ритуальные убийства существовали параллельно, не пересекаясь; а тут убийство Распутина стало точкой пересечения параллельных - вклад в науку, достойный Лобачевского!
Не менее плодотворно и открытие распутинского двойника. Я вообще люблю двойников: с ними жить лучше и веселее. Не зря же они так густо населяют вороньи слободки шуток и анекдотов. Каких только двойников тут не встретишь - и Ленина, и Сталина, и Берии; недавно появился забавный фильм о двойнике Наполеона. А вот анекдот из реальной российской жизни рассматриваемой нами эпохи. Когда был вынесен приговор Дмитрию Богрову, киевские черносотенцы захотели присутствовать при казни - чтобы убедиться в том, что Богрова не подменят его двойником. Просьба была уважена.
Отчего же не уважить доктора филологии?.. Я на ее месте пошел бы дальше: призвал к участию в «иудейских аферах» подставного царя, подставной царицы, подставной Аннушки Вырубовой… Чем больше двойников, тем объяснимей все исторические загадки, парадоксы и несуразности! А уж для полного объяснения всего и вся надобен двойник (двойница) автора открытия. Не могла же доктор филологии выступить с такой распутинщиной! Не иначе, как ее подменили евреи - с коварной целью подорвать престиж патриотической филологии!
У Солженицына евреи делают ставку не на двойника Распутина, а на него самого - единого и неделимого. «Если раньше ходатайством за евреев занимался открыто барон Гинцбург, то вокруг Распутина этим стали прикрыто заниматься облепившие его проходимцы», читаем в книге. (стр. 496) Подтверждение этому Александр Исаевич находит в еврейских источниках, точнее, в мемуарах Арона Симановича, хотя его книжку «Распутин и евреи» считает «хвастливой» и содержащей «разный бытовой вздор и небылые эпизоды» (стр. 496).
Из тьмы небылиц, на которые щедр Симанович, Солженицын выбирает одну: приписанные великому князю Николаю Николаевичу «сотни тысяч казненных и убитых евреев» (стр. 496). Конечно, Симанович перегнул. Сотни тысяч убитых - это было позднее, в период деникинских и петлюровских погромов. А когда Николай Николаевич был главнокомандующим российской армией, сотни тысяч евреев по его приказу всего лишь высылались из районов боевых действий. Их обвиняли в шпионаже и депортировали вглубь страны - как позднее, при Сталине, депортировали крымских татар, калмыков, чеченцев… Только организовано дело при Николае Николаевиче было похуже, и там, где поголовная депортация не удавалась, из евреев брали заложников. Некоторых заложников расстреливали. Но счет убитых мог идти на десятки, сотни - не на сотни же тысяч!
Оспорив напраслину, возведенную на великого князя, Солженицын с доверием относится к другим «небылям» Симановича. Маленькому человечку захотелось зацепиться, оставить следок в истории - таков, видимо, единственный мотив его творчества. Именуя себя личным секретарем Распутина, он рисует свои отношения со старцем так, словно это Распутин был у него в секретарях и даже в лакеях. Он упивается якобы неограниченным влиянием на Распутина и, мешая сильно препарируемую быль с полными небылицами, повествует о том, как денно и нощно через старца выхлопатывал для евреев всякие льготы, поблажки и привилегии. Элементарное чувство меры не останавливало полета его фантазии.
«Протопопов, решив выдвинуть себя на пост министра, вошел сперва в сношения со мной, - без тени смущения сообщает личный секретарь. - Мы скоро с ним подружились и стали на ты [!]. Я его свел с Распутиным, который начал ему доверять… Мы выдвинули ему наши условия: заключение сепаратного мира с Германией и проведение мер к улучшению положения евреев. Он согласился. Я его потом познакомил с выдающимися представителями еврейства, и он им подтвердил свое согласие относительно евреев».
Беда в том, что никакими другими источниками близость Симановича к Протопопову не подтверждается. Автор озвучивает слухи о тайных переговорах с Германией о сепаратном мире, распускавшиеся в то время, но не подтвержденные расследованием Временного правительства. Об обещаниях Протопопова по еврейскому вопросу личный секретарь Распутина просто выдумывает.
О том, что таких личных вокруг старца толклась целая толпа, Симанович - и следующий за ним Солженицын - не упоминают. А ведь были среди них не менее заметные личности, к примеру, некий Добровольский, которого сам Симанович и «съел». «Добровольский заведовал корреспонденцией Распутина, был посвящен в тайны влияния Распутина на высочайших особ… Поставляя Распутину деловую клиентуру, Добровольский заставил… приглашать себя к участию в прибылях при проведении через Распутина денежных дел», - свидетельствует С. П. Белецкий, к которому стекались агентурные сведения. Непомерными аппетитами Добровольский создал себе врагов; этим и воспользовался Симанович, чтобы вытеснить конкурента из распутинского круга.
Назвав Симановича «весьма оборотистым и умелым… торговцем бриллиантами, богатым ювелиром», Солженицын недоумевает: «и что б ему „секретарствовать“ у нищего Распутина?..» (стр. 496). Но Распутин не был нищим (после его смерти осталось не меньше 300 тысяч рублей - крупное состояние по тем временам), а Симанович был куда более оборотистым вралем, нежели умелым ювелиром. Он оказывал Распутину услуги по части устройства его финансовых дел, не забывая и своей выгоды.
Опираясь на такую «документальную» основу, Солженицын составляет ближайшее окружение Распутина также из банкира Д. Л. Рубинштейна, промышленника И. П. Мануса и «выдающегося авантюриста» И. Ф. Манасевича-Мануйлова (стр. 496–499). Старец оказался настолько плотно «облепленным» этими четырьмя евреями, что для сотен проходимцев куда более крупного калибра места не остается. Да и того же Манасевича-Мануйлова Александр Исаевич обрисовывает селективно: «Он побывал и чиновником м.в.д., и агентом тайной российской полиции в Париже; и он же продавал заграницу секретные документы Департамента полиции; и вел тайные переговоры с Гапоном; потом при премьер-министре Штюрмере исполнял особые „секретные обязанности“» (стр. 497). Опущен такой подвиг Мануйлова, как участие (вместе с М. Головинским и под руководством П. Рачковского) в фабрикации «Протоколов сионских мудрецов». О журналистской работе Мануйлова в «Новом времени», где он травил евреев бок о бок с М. О. Меньшиковым, А. А. Столыпиным, В. В. Розановым, не упомянуто. Так в «еврейское» окружение Распутина вводится тот, кто свои еврейские корни обрубил в ранней молодости и из кожи вон лез, чтобы сеять ненависть к породившему его племени.
Селективный метод позволяет непомерно усиливать роль одних лиц (в данном случае, евреев) и вовсе отключать других. Так, за пределами солженицынского повествования остается такой «секретарь» Распутина, как полковник Комиссаров - тот самый, который в 1905 году печатал погромные листовки в тайной типографии Департамента полиции (тогда он был еще ротмистром). Когда его конспиративная типография была раскрыта и ликвидирована, ротмистра услали в провинцию, где он дослужился до полковничьего чина, после чего его вернули в столицу. Полковника Комиссарова прочили в начальники Охранного отделения, но так как сковырнуть с этого поста полковника Глобачева не удалось, то ему доверили присмотр за Распутиным. За старцем был установлен двойной надсмотр, но тогда как филеры Глобачева мерзли в подъезде, комиссаровцы располагались в самой квартире старца, а сам он близко сошелся со своим подопечным.
Впрочем, серьезные дела решались не на секретарском уровне.
Куда более влиятельные силы использовали Распутина, чтобы подняться в высшие этажи власти, и затем там удерживаться. Они-то и облепляли старца, действуя заодно с ним и через него. О том, как именно это делалось, подробно изложил товарищ министра внутренних дел С. П. Белецкий, рассказавший в частности, о том, как он и его шеф А. Н. Хохлов съезжались с Распутиным у Вырубовой. На этих полуконспиративных совещаниях и определялось, с чем старцу пожаловать к «маме» и «папе», какие советы давать по части назначений, перемещений, помилований, награждений, многомиллионных подрядов и концессий. В числе особых заслуг Белецкого, прежде занимавшего пост начальника департамента полиции, - использование секретных фондов для подкупа экспертов обвинения на процессе Бейлиса. Так что, как ни раскладывай этот пасьянс, а получается, что черносотенцы и погромщики «облепляли» старца куда гуще, чем евреи.
Эпоха Распутина началась не с появления старца при дворе, а значительно позже, когда он стал, так сказать, политической силой, которую, впрочем, не следует преувеличивать. Начало этого периода примерно приходится на последний год премьерства Столыпина, а завершается февральским переворотом 1917 года, хотя самого Распутина тогда уже несколько месяцев не было в живых. Так что причина кризиса заключена не в Распутине, а в одряхлении всего государственного организма. Воля к самосохранению, остатки которой спасли царизм в 1905 году, теперь была на исходе. Если в этом организме еще проявлялись признаки жизнедеятельности, то не в виде нормального обмена веществ, а в виде судорожных конвульсий. Распутин не был причиной болезни, а лишь наиболее зримым ее проявлением. Поэтому и устранение Распутина ничего не изменило. С другой стороны, даже в пору наивысшего влияния старца оно не было абсолютным. Прежде чем провернуть очередное дельце, Вырубова и Распутин тщательно расследовали обстановку, готовили почву, но если чувствовали, что с каким-то вопросом лучше не возникать, то и не возникали. Так, с Распутиным сблизился С. Ю. Витте, надеявшийся через старца снова занять ведущий пост в государстве. Распутину очень льстила эта дружба, но, зная отрицательное отношение к Витте «мамы» и «папы», он так и не решился предложить им его кандидатуру.
Распутин был противником войны с Германией. Оправляясь после ранения в далекой сибирской больнице, он слал «папе» и «маме» телеграммы, умоляя не затевать гибельной бойни. Его не послушались не только потому, что в тот момент его не было в Петербурге. Это еще одна иллюстрация к тому, что Распутин, распутинщина были следствием, а не причиной гангрены, поразившей государственный организм. Трупные пятна проступали и в таких событиях, к которым старец вообще не имел отношения. Наиболее значительное из них по своим последствиям - дело Бейлиса.
Я отмечал в своем месте, что о деле Бейлиса Солженицын пишет недостаточно и неточно. Но его непреклонное убеждение состоит в том, что если бы не два роковых выстрела Богрова, то «это опозорение юстиции» при Столыпине «никогда бы не состоялось» (Стр. 444). Это чистая мифология, так как дело Бейлиса заварилось именно при Столыпине, и, конечно, при его ощутимом личном участии.
Напомню, что когда в Киеве был найден исколотый под евреев труп Андрюши Ющинского (март 1911) и молодежный «Двуглавый орел» повел ритуальную агитацию, то, после несмелых попыток урезонить черносотенцев, министр юстиции Щегловитов, в душе их единомышленник, пошел у них на поводу. Но с постановкой ритуального процесса заклинило. Работники киевской прокуратуры не обнаруживали «еврейского следа» в убийстве Ющинского, а фабриковать улики им не позволяло слишком серьезное отношение к такой ерунде, как законность и профессиональная совесть. Тогда расследование уголовного преступления было передано политической полиции: у нее никаких проблем с совестью не возникало. Но министр юстиции не мог привлечь к делу Охранное отделение, входившее в министерство внутренних дел. Санкцию мог дать только Столыпин.
По характеристике Витте, «Щегловитов держался все время министром юстиции при Столыпине только потому, что был у него лакеем, и министр юстиции, глава русского правосудия, обратился в полицейского агента председателя Совета министров». Правда, в данном случае нелегко разобрать, кто у кого оказался лакеем.
Арестовывать Бейлиса явился отряд жандармов во главе с полковником Кулябко. Так дело об убийстве Ющинского было превращено в дело Бейлиса. Произошло это за несколько дней до роковых киевских торжеств, так как к приезду государя надо было отрапортовать об успехе в расследовании ритуального убийства.
Выслушав благую весть, царь размашисто перекрестился, чем вдохновил чины всех ведомств и рангов на дальнейшие подвиги. Было ли убийство ритуальным, или все-таки нет, - так вопрос больше не ставился. На «ритуал» теперь работала вся государственная машина империи, а не только охранка, юстиция и полиция. Почему же такая грандиозная провокация провалилась?
Прежде всего, потому, что против средневекового мракобесия восстала общественность. В деле Бейлиса она увидела попытку ослепить народ племенной ненавистью и под разгул «патриотических» страстей похоронить остатки гражданских свобод, дарованных в 1905 году, но с тех пор постоянно урезаемых. На защиту Бейлиса встала вся русская интеллигенция. Из писем и дневников видных деятелей той эпохи (Александра Блока, Александра Куприна, Зинаиды Гиппиус) известно, насколько сильным у некоторых из них было личное нерасположение к евреям. Не ради инородцев они выступили против судилища над Бейлисом, а ради самой России.
А государственная машина была уже настолько разболтана, люди, толпящиеся у трона, настолько погрязли в распутинщине, что довести до успешного конца крупномасштабную провокацию были не в силах. Оправдание Бейлиса судом присяжных в октябре 1913 года показало полную немощность власти.
Теоретически еще не поздно было переменить курс, но практически это некому было делать. У власти уже не оставалось людей, способных на смелые решения, и само появление их становилось невозможным.

В. Н. Коковцов
В. Н. Коковцов, не допустив еврейских погромов «в ответ» на выстрелы Богрова, восстановил против себя не только черную сотню, но и сочувствующую ей часть правительства и двора. Он понял, что продолжать эту линию опасно. Хотя дело Бейлиса сопровождало почти все его премьерство, в его двухтомных воспоминаниях оно не упомянуто. Это молчание выразительно. Если бы Коковцов предпринял хоть самую слабую попытку противостоять позорищу, если бы высказал хоть одно скептическое замечание по этому поводу в Совете министров, или при докладе царю, или в разговоре с тем же Щегловитовым, или с кем-то еще, он бы об этом не промолчал!
Но Коковцов и без того с трудом удерживался на плаву. На роль главы императорского правительства он ни по силе характера, ни по уровню государственного мышления не вытягивал. К тому же, он возглавлял правительство, которое не он формировал. Министры не чувствовали себя ему обязанными, как раньше Столыпину. Не облегчало положение премьера и то, что за ним остался пост министра финансов. Блюдя финансовую дисциплину, «честный бухгалтер» чаще должен был отказывать в просьбах, чем их удовлетворять, множа своих врагов. Для борьбы с ними у него не было той власти, какую Столыпину давало совмещение постов премьера и министра внутренних дел, когда в его руках находилась тайная полиция, а, значит, и компромат на министров. Позднее генерал Курлов говорил рвавшемуся к посту премьера А. Д. Протопопову: «Председатель Совета министров должен одновременно быть и министром внутренних дел или иметь на этом месте своего друга, иначе положение председателя Совета министров будет непрочно». Курлов знал в этом толк!
Одним из наиболее ловких противников Коковцова был министр земледелия Кривошеин, который считал, что министр финансов поглощен бухгалтерской цифирью и не видит за ней леса большой политики. Он сумел внушить еще Столыпину, что прижимистость Коковцова сдерживает проведение аграрной реформы. Кривошеин хотел подгрести под себя Крестьянский банк, а Коковцов категорически против этого возражал. Он доказывал, что кредитная политика должна быть единой, иначе будет подорвана вся финансовая система государства. Столыпин вел двойную игру: на словах соглашался с Коковцовым, а за его спиной готовил его падение. Интрига не удалась, потому что государь, не желая быть пешкой в руках «заслонявшего» его Столыпина, взял сторону Коковцова. Но Кривошеин остался в правительстве и продолжал интриговать.
Еще более опасным противником был военный министр В. Сухомлинов. Шумливый и бестолковый краснобай, Хлестаков в чине генерала и в ранге министра, он не пользовался авторитетом ни в армии, ни в обществе. Об уровне военного и политического мышления Сухомлинова (и самого царя) говорит эпизод, случившийся 10 ноября 1912 года. Накануне вечером Сухомлинов позвонил Коковцову, министру иностранных дел Сазонову и министру транспорта Рухлову и сообщил, что они вызваны к государю, но о предмете предстоявшего обсуждения отозвался незнанием. А наутро выяснилось, что решено объявить мобилизацию в двух военных округах (Киевском и Варшавском) - ввиду малочисленности пехоты, сосредоточенной вблизи границы с Австрией, причем, по словам государя, «военный министр предполагал распорядиться еще вчера, но я предложил ему обождать один день».
Опешивший Коковцов стал объяснять, что объявление мобилизации равносильно началу войны, причем, не только с Австрией, но и с Германией, так как две страны связаны военным договором. Россия к войне не готова. Рассчитывать на союзную Францию нельзя, так как договор обязывает предупреждать союзника о таких акциях или он освобождается от своих обязательств.
Доводы премьера были столь элементарными, что все с ним согласились, включая Сухомлинова. Закрывая совещание, государь любезно сказал премьеру: «Вы можете быть совсем довольны таким решением, а я им больше вашего». И Сухомлинову: «И вы должны быть очень благодарны Владимиру Николаевичу, так как можете спокойно ехать заграницу».
Дальше Коковцов продолжает: «Эти последние слова озадачили нас всех. Мы пошли завтракать наверх… и я спросил Сухомлинова, о каком его отъезде упомянул государь? Каково же было наше удивление, когда Сухомлинов самым спокойным тоном ответил нам: „Моя жена заграницей, на Ривьере, и я еду на несколько дней навестить ее“. На мое недоумение, каким же образом, предполагая мобилизацию, мог он решиться на отъезд, этот легкомысленнейший в мире господин, без всякого смущения и совершенно убежденно, ответил: „Что за беда, мобилизацию производит не лично военный министр, и пока все распоряжения приводятся в исполнение, я всегда успел бы вернуться вовремя. Я не предполагал отсутствовать более 2–3 недель“».
Армия теряла боеспособность, а тактика военного министра сводилась к нападкам на скаредного министра финансов. Претензии Сухомлинов прямо Коковцову не предъявлял, а приберегал их к личным докладам государю, так что премьер не мог их парировать. Когда же с опозданием ему становилось о них известно, он, почти со слезами на глазах и с цифрами в руках, объяснял, что никогда в кредитах военному министерству не отказывал, но тех работ и заказов, под которые отпускались деньги в прошлые годы, не проводится. Сотни миллионов рублей остаются неосвоенными - при общем годовом бюджете в два с небольшим миллиарда это были астрономические суммы! Государь все это выслушивал и - продолжал конспирировать с Сухомлиновым против премьера. А армия оставалась дезорганизованной, недовооруженной и недоукомплектованной. Зато за Сухомлинова стоял «наш друг» - старец Распутин.
Дело Бейлиса принесло министру юстиции Щегловитову скандальную известность. В глазах всего общества его имя было покрыто позором, зато из «высших сфер» на Щегловитова и всех других чинов, причастных к позорищу, пролился благодатный дождь наград, чинов, высоких назначений. Я не нашел прямых указаний на то, что такую линию поддерживал старец, но и против нее он не возражал. Чувствуя себя прочно, Щегловитов возглавил группу противников Коковцова в Совете министров, намереваясь занять его место.
Вместе с более умеренными министрами Коковцов рассчитывал на поддержку Государственной Думы, но не тут-то было. После столыпинского переворота 1907 года Дума стала послушной. Наибольшее число мест в ней принадлежало созданной «под Столыпина» и возглавлявшейся А. И. Гучковым партии «Союз 17 октября» (правильнее ее было бы называть «Союзом профанации 17 октября»). В 1912 году срок полномочий Третьей Думы истек, и состоялись выборы в Четвертую. Благодаря столыпинской избирательной системе и секретным денежным вливаниям в избирательную кампанию, состав Думы изменился мало. Казалось бы, правительство и дальше могло рассчитывать на ее поддержку. Но камнем преткновения стал Распутин. Против «темных сил», окружающих престол и губящих государство, выступил с думской трибуны лидер октябристов Гучков!
Став русской царицей, Александра Федоровна мечтала как можно скорее подарить мужу и своей новой стране наследника престола. В этом она видела свой религиозный и патриотический долг. Но у нее рождались дочери. Страстное желание родить мальчика привело даже к мнимой беременности. Организм Александры Федоровны перестроился так, что сначала ей самой, а потом и всем окружающим стало ясно: императрица в интересном положении! Когда все сроки прошли, а родовых схваток не наступало, стеснительная государыня согласилась допустить к себе врача. Он и установил, что ее набухшее чрево наполнено… пустотой! То было самовнушение огромной силы, полная победа духа над материей! Увы, не совсем полная… Но, тем не менее, на такое способны только очень страстные, одержимые натуры. Одержимые тяжелой душевной болезнью - истерией.
Через десять лет после замужества императрица добилась того, к чему стремилась: родила сына! Радость августейших супругов была безмерной. Но затем на них обрушился удар невероятной силы. Наследственная болезнь царевича, гемофилия, была почти равносильна смертному приговору. (Дефектный ген, передаваясь в роду предков Александры Федоровны по женской линии, проявлялся у мужчин).
Глубоко религиозная женщина, Александра Федоровна должна была бы увидеть в своем несчастье знак Божий. Возмездие за гордыню, за отказ покориться судьбе. «Ты хотела сына - вот тебе сын, обреченный на муки и раннюю смерть».

Императрица с наследником
Но не такой была ее вера в Бога, ее религиозность! Покориться? Нет, только не это. Ведь Господь Бог может все. ВСЕ! Надо достучаться, докричаться, домолиться до него. Надо найти к нему путь. К мольбам простых смертных Господь глух: грехи обесценивают их молитвы. Но есть праведники, Божьи люди, на них нисходит благодать. Их молитвы достигают до престола Всевышнего; на их просьбы Он откликается. Молитвами праведника наследник будет спасен. Да и всю царскую семью, и Россию, он будет беречь от невзгод и несчастий, как талисман. Надо только найти такого праведника, найти свой талисман!
И случилось так, что когда наследник, при очередном обострении болезни, лежал, обессиленный от потери крови, и растерявшиеся врачи предсказывали самое худшее, «отец» Григорий возложил на него свои заскорузлые руки с грязными ногтями и уверенно сказал, что мальчик будет жить.
И мальчик выжил!..
Квадратура круга была найдена: царица обрела свой талисман.
В литературе о Распутине есть немало уверений, что он действительно обладал даром ясновидения, гипнотического внушения, пророчества. В эту мутную область я не вторгаюсь. Бесспорно одно - умение старца распознавать людей и находить правильный тон, особенно с теми, кто склонен был поддаваться его чарам. Императрицу он раскусил безошибочно. Понял, как она одинока, как тяжело себя чувствует в свете, с его условностями, лицемерием, искательством, лестью, злословием. Хитрый и умный мужик надел на себя маску еще большего простака и грубияна, чем был на самом деле. Это был правильный ход. Императрицу не шокировали его мужицкие манеры, нечесаные патлы, наглый взгляд, вульгарное «тыканье». Все, что было в нем отталкивающего, ее привлекало, так как свидетельствовало о его бесхитростной натуре, искренней преданности и - прямой связи с небесными силами. Она внушила себе (а внушить себе она могла все !), что его устами с ней говорят Бог и народ. Тот Бог, от которого исходила власть ее мужа и зависело исцеление ее сына; и тот народ, который безмерно обожал своего государя и свою государыню - в противоположность «образованному классу», всегда недовольному и чего-то требующему.
В родном селе Покровском (Тюменского уезда, Тобольской губернии) Гришку Распутина знали как бездельника, хулигана и конокрада. От его дебошей стонало все село, сладу с ним не было и в семье: спьяну Гришка буянил, избивал родного отца. Попытки местного священника усовестить Гришку сделали их врагами. Но загулы сменялись периодами набожности. Уже имея собственное хозяйство, семью, детей, он «бросил все» и пошел странствовать по монастырям и обителям. Он ходил в рубище, изнурял себя постами, носил вериги, в истовости религиозного бдения ему не было равных. Не умея читать, но обладая цепкой памятью, он, в беседах с монахами и священниками, усвоил немало отрывков из Священного писания. Понимал он их на свой манер. При народной образности речи и туманности суждений его сентенции порой казались неожиданными, как бы внушенными свыше. Бесхитростные монахи и батюшки представляли его более высоким церковным иерархам; Гришка и им умел внушать доверие к себе и своему благочестию. Молва о Божьем страннике, «старце», ширилась и поднималась все выше.
Странствия по глухим местам привели Гришку в сектантский «корабль» «Божьих людей» (хлыстов). По их учению, Иисус не вознесся на небо, а обитает среди живущих, вселяясь в праведников-«христов». Гришке это понравилось, как и хлыстовские «радения». Они сопровождались хлестаньем собственного тела, трясением и плясками до полного изнеможения, а кульминацией становился «свальный грех», который у хлыстов считался не грехом, а Божьим очищением.
В Петербурге Распутин появился примерно в 1904 году, но молва опередила его, что помогло ему без труда войти в круг известных и почитаемых священнослужителей. Его отличили популярный религиозный деятель Иоанн Кронштадтский, епископ Гермоген, инспектор Петербургской Духовной академии и личный духовник императрицы архимандрит Феофан.
От своего духовника императрица и услышала впервые о благочестивом «старце». Привели же его к ней «черногорки» - дочери черногорского князя Негоша Анастасия и Милица Николаевны, жены великих князей Николая Николаевича и Петра Николаевича. Они были лучшими подругами императрицы; обе, как и она, увлекались мистикой, искали и находили блаженных и охотно поставляли их Александре Федоровне.

Распутин у себя дома на Гороховой в Петрограде
После того, как Распутин «доказал» свое благотворное влияние на здоровье наследника, ему уже нетрудно было убедить Александру Федоровну, что от него зависит благополучие всей царской семьи и короны. Общение с Распутиным стало для императрицы постоянной потребностью, но она не могла слишком часто принимать его во дворце, где каждое посещение фиксировалось и становилось известным. Странная дружба мужика и царицы и без того вызывала толки и пересуды, доходившие до насмешек и даже скабрезных намеков. Потребовалось подыскать нечто вроде дома свиданий, где царица могла бы встречаться со старцем без огласки. Выбор пал на дом Аннушки Вырубовой, благо, она жила в Царском селе, поблизости от императорского дворца.
Аннушка была дочерью управляющего императорской канцелярией А. С. Танеева и, можно сказать, выросла во дворце. В больших, широко распахнутых глазах пухленькой миловидной девушки Александра Федоровна читала столько преданности и восхищения, что не могла не проникнуться к ней взаимной симпатией. Как только она подросла, императрица сделала ее своей фрейлиной. Отношения между ними были самыми сердечными - до тех пор, пока государыня не стала замечать, как Аннушка вспыхивает при появлении государя. Надо было срочно удалить потенциальную соперницу, но сделать это так, чтобы не обнаружить своей ревности и не нанести ей обиды. Для этого был один простой способ - выдать ее поскорее замуж, так как служба фрейлины этим автоматически прекращалась. Энергично взявшись за дело, императрица подыскала жениха - лейтенанта флота Вырубова.
Незадолго до свадьбы великая княгиня Милица Николаевна пригласила невесту к себе - «на старца Распутина». Сильного впечатления он на нее не произвел, но, улучшив момент, она все-таки спросила, что ждет ее в замужестве. Тот ответил:
«Замуж ты выйдешь, но счастья не найдешь».
Старец как в воду глядел!
Лейтенант флота Вырубов оказался половым извращенцем, садистом и импотентом. Какие фокусы проделывал он на брачном ложе с молодой супругой, можно только догадываться. Единственное, на что он был неспособен, это лишить ее девственности. Аннушка много месяцев скрывала следы истязаний, но, в конце концов, поведала о своем несчастье матери. Когда тайное стало явным, супруги разъехались, позднее и развелись. Григорий Распутин приобрел еще одну - до гроба верную - поклонницу. А Александра Федоровна прониклась чувством вины к своей бывшей фрейлине: ведь это она устроила скоропалительный брак!
Между двумя женщинами произошло объяснение. Они плакали, целовались, просили друг у друга прощения, клялись в вечной дружбе и преданности. Аннушка чистосердечно призналась в любви к государю, но дала слово, что никогда не позволит себе никакой нескромности, могущей осложнить отношения августейших супругов. Александра Федоровна ей поверила. Особенно же их сблизило общее преклонение перед старцем. А так как Аннушка умела держать язык за зубами, то в ее маленьком домике государыня могла бывать хоть каждый день, не возбуждая любопытства к тому, кто еще там бывает…
Однако слухи о близости простого мужика ко двору, его целительном воздействии на наследника, а со временем и на некоторые назначения - сперва по духовному, потом и по другим ведомствам - ширились. Вокруг Распутина сложился кружок почитателей и особенно почитательниц. Наиболее преданными старцу были неуравновешенные, легко внушаемые девицы и женщины, пережившие какое-то личное горе и, видимо, страдавшие половой психопатией. Бывали и нормальные женщины; они приходили похлопотать за мужа, сына, брата, жениха, любовника. На шумных сборищах у Распутина не различали чинов и званий. Графини и генеральши были равны служанкам и уличным проституткам. Распутин шумно и бесцеремонно «любил» всех своих поклонниц: смачно их обцеловывал, грубовато обласкивал, хватал за «мягкие места». Он проповедовал «очищение через унижение». Его туманные проповеди вызывали восторг, но если какая-то из поклонниц восхищалась слишком бурно, Распутин ее грубо осаживал, осыпал оскорблениями, на что она, довольная, отвечала еще большим восхищением. Самый распространенный способ «унижения» состоял в совместных хождениях в баню: дамы мылись вместе со старцем и мыли его. Лечь с Гришкой в постель для изгнания «блудного беса» считалось особым отличием. Связей этих большинство не скрывало. Иные шли на них с согласия и даже по настоянию своих мужей: такова была плата за гришкины услуги. Если какая-то из новеньких посетительниц с непривычки отклоняла домогательства, старец искренне обижался, но домогательств не прекращал. Сулил непременно исполнить просьбу, но не раньше, чем получит требуемый аванс .
Подачки и подношения - дорогими винами, яствами, бобровыми шубами, пачками ассигнаций были не в счет. Денег он не жалел, охотно раздавал небольшие суммы бедным просителям, остальные просаживал в дорогих ресторанах. Кутежи его были многолюдными, шумными, с музыкой, плясками, цыганским хором, битьем зеркал. Впрочем, когда приходило время платить по счету, Григория Ефимовича обычно просили не беспокоиться: все уже было уплачено.

Старец Макарий, архимандрит Феофан и Григорий Распутин. 1911 г.
Отнюдь не праведная жизнь «старца», столь приближенного к коронованным особам, становилась предметом пересудов в гостиных и клубах, разных слоях общества. Только во дворце ничего «не знали». По указанию Столыпина, а затем и его преемников, за Гришкой велось полицейское наблюдение, все его похождения фиксировались филерами и докладывались начальству. Но для государыни, а, под ее давлением, и для государя все это была клевета на праведника, месть знати и интеллигенции за то, что царь напрямую общается с «человеком из народа».
Архимандрит Феофан, поняв, как сильно ошибся в «Божьем человеке», попытался открыть на него глаза царице. Но едва он заговорил о Гришке, как услышал, что должен немедленно удалиться, иначе будет приказано его вывести. Затем его вообще удалили из Петербурга.
Черногорки тоже поняли, кого привели в свое время во дворец. Но стоило им заикнуться об этом с Александрой Федоровной, как дружба кончилась навсегда. Родная сестра императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна (вдова убитого великого князя Сергея Александровича), после гибели мужа прославилась своей праведной жизнью и благотворительной деятельностью. Она тоже пыталась объяснить сестрице, какое впечатление на общество производит пригретый ею старец. Отношения между сестрами прекратились. Воспитательница великих княжон доложила, что Распутин заходит в спальни девушек в неурочный час, когда они уже лежат в постелях, и она, воспитательница, не может этого допустить. Она лишилась места.
Разочаровался в Гришке епископ Гермоген и - был удален из Священного синода. Его верный ученик иеромонах Илиодор - настоятель монастыря в Царицыне, где за короткий срок развил бурную деятельность и стал очень популярен, - поначалу особенно близко сошелся с праведным старцем. Распутин не раз приезжал в Царицын, а Илиодор вместе с ним ездил в его родное село Покровское. Но чем ближе молодой монах наблюдал старца, тем сильнее его точил червь сомнения. Особенное смятение в его душу вносили «изгнания блудного беса». Илиодор был молод, горяч, окружен богомолками, среди которых попадались писаные красавицы. Дабы не впадать в греховные искушения, он старался на них не заглядываться; и то, что «святой старец» вытворял с женщинами на глазах у всех, его глубоко изумляло. На осторожные вопросы Григорий отвечал, что святостью своей добился полной свободы от «блуда»; и баб он тоже освобождает от блуда, потому они и льнут к нему. С особым смаком он рассказывал, как после совместного мытья в бане они ложатся вокруг него, одна прижимается к правому боку, другая к левому, третья обвивает правую ногу, четвертая - левую, а он изгоняет «бесов». Две знатные дамы даже подрались, потому что ни одна не хотела уступать место у его правого бока!
От таких разговоров у иеромонаха туманилось в голове, возникали греховные видения. Стали закрадываться подозрения: уж не дурачит ли Гришка его и весь Божий свет? Илиодор гнал от себя эти мысли как недостойные и греховные, но они возвращались. Праведник он или дьявол? Коль скоро вопрос возник, доискаться ответа было нетрудно: некоторые поклонницы старца исповедовались у Илиодора. Несколько наводящих вопросов, и ему стало ясно, какими прикосновениями старец изгонял из них «блудного беса».
Однако с разоблачениями Илиодор не спешил. Предстояла тяжелая борьба. Илиодор знал, как велика власть Гришки над самыми влиятельными особами. Вот как он описал сцену, при которой присутствовал:
«Распутин в это время прямо-таки танцевал около Вырубовой; левой рукою он дергал свою бороду, а правой хватал за плечи, бил ладонью по бедрам, как бы желая успокоить игривую лошадь. Вырубова покорно стояла. Он ее целовал… Я грешно думал: „Фу, гадость! И как ее нежное, прекрасное лицо терпит эти противные жесткие щетки…“ А Вырубова терпела, и казалось, что находила даже некоторое удовольствие в этих старческих поцелуях. Наконец Вырубова сказала: „Ну, меня ждут во дворце; надо ехать, прощай, отец святой…“ Здесь совершилось нечто сказочное, и если бы другие говорили, то я бы не поверил, а то сам видел. Вырубова упала на землю, как простая кающаяся мужичка, дотронулась лбом обоих ступней Распутина, потом поднялась, трижды поцеловала „старца“ в губы и несколько раз его грязные руки».
Когда Вырубова ушла, Гришка, заметив ошеломление монаха, не без горделивой усмешки намекнул, что нечто подобное происходит и с «царями». И это походило на правду.
Илиодор принялся разоблачать Гришку не раньше, чем набрал достаточно, как ему казалось, компромата. И тогда уже накинулся на него со всей неистовостью своего темперамента. Не щадил он и церковных покровителей Гришки.
Его пытались урезонить, потом последовал указ о высылке его из Царицына. В ответ Илиодор забаррикадировался в своем монастыре вместе с тысячами преданных ему богомольцев и продолжал произносить громовые речи, а газеты разносили их по всей стране. Столыпин уже готов был брать штурмом взбунтовавшийся монастырь. Но кончилось тем, что указ о высылке монаха был отменен. Его пригласили в Петербург, царь удостоил его аудиенцией.
«Николай, считающий, по словам самого же Распутина, „старца“ Христом, на приеме страшно нервничал, моргая своими безжизненными, усталыми, туманными, слезящимися глазами, мотая отрывисто правой рукою и подергивая мускулами левой щеки, едва успел поцеловать мою руку, как заговорил буквально следующее:
Ты… вы ты не… трогай моих министров. Вам что Григорий Ефимович говорил… говорил. Да. Его нужно слушать. Он наш… отец и спаситель. Мы должны держаться за него… Да… Господь его послал… Он… тебе, вам, ведь говорил, что… жидов, жидов больше и революционеров [надо ругать], а министров моих не трогай… На них и так нападают враги… жиды. Мы слушаемся отца Григория, а вы что же…»
Когда разговоры о скандальных похождениях Гришки перекочевали в газеты, Николай потребовал от Столыпина прекратить вмешательство в «частную жизнь его семьи». Увы, карать газеты можно было за революционную пропаганду или за «оскорбление величества»; похождения Григория Распутина под эти категории не подпадали. На газеты оказывали неофициальное давление, но заставить их замолчать можно было только одним путем - удалением Гришки от трона. Столыпин вызвал к себе Распутина и, пригрозив полицейскими мерами, велел ему немедленно уехать в Покровское. По свидетельству М. В. Родзянко, которому об этом говорил сам Столыпин, он действовал при «кажущемся безмолвном согласии государя». Видя, что дело приняло нешуточный оборот, Гришка подчинился. Но государыня пришла в ярость. Закатив сцену августейшему супругу, она отправила Вырубову за старцем, и та с торжеством вернула его.
Когда Распутин опять появился в Петербурге, Илиодор и епископ Гермоген, у которого тот остановился, зазвали Гришку к себе. Тот пришел - насупленный, готовый к тяжелому разговору, со слабой надеждой на примирение. Они попытались вразумить и усовестить его; требовали, чтобы он перестал злоупотреблять доверием царя и царицы; объясняли, что своим присутствием при дворе, чем он к тому же не перестает хвастаться, он наносит царю и всей России страшный вред. Завязался спор, посыпались оскорбления, и - два дюжих священнослужителя набросились на Гришку с ножом.

Распутин, Гермоген и Илиодор
Из книги 100 великих загадок русской истории автора Непомнящий Николай НиколаевичТак кто же убил Распутина? Широко распространена версия, что Распутина устранили русские аристократы, озабоченные дурным влиянием старца на царскую семью. Однако французский историк Ален Деко придерживается версии, что убийство Распутина было инспирировано
Из книги Реконструкция подлинной истории автора Из книги Европа в эпоху империализма 1871-1919 гг. автора Тарле Евгений Викторович3. Настроение в Германии в 1916 г. Мирное предложение 12 декабря 1916 г Еще не написана полная, документальная и систематическая история всех попыток германского правительства выйти из войны, которая с момента крушения плана Шлиффена, т. е. с средины сентября 1914 г. (по
Из книги Призраки Северной столицы. Легенды и мифы питерского Зазеркалья. [с иллюстрациями] автора Синдаловский Наум АлександровичПризрак Распутина Наиболее одиозной фигурой отечественной истории XX столетия, чей смутный призрак до сих пор регулярно появляется в доме № 64 по Гороховой улице, был Распутин. Он жил здесь в начале прошлого века. Тут, после его гибели, в небольшой квартире в дворовом
Из книги Реконструкция подлинной истории автора Носовский Глеб Владимирович31. Эпоха Судей Израильских, описанная в Библии, это – эпоха инквизиции XV–XVI веков Одной из главных книг Ветхого Завета является Книга Судей Израилевых. Несколько основных ее сюжетов мы, следуя сдвигам на глобальной хронологической карте А.Т. Фоменко, отождествили с
Из книги Распутин. Жизнь. Смерть. Тайна автора Коцюбинский Александр ПетровичДневник Распутина
Из книги Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии А. И. Солженицына автора Резник Семен ЕфимовичЭпоха Столыпина 1906–1911 Поработать с Государственной Думой, которую он породил, Витте не дали, а И. Л. Горемыкин не имел ни малейшего понятия о том, с какой стороны подступиться к такому чудищу. Как предупредил государя В. Н. Коковцов, «личность Ивана Логгиновича, его
Из книги Последний император автора Из книги Романовы. Семейные тайны русских императоров автора Балязин Вольдемар НиколаевичФеномен Распутина Мы расстались со старцем Григорием, когда летом 1912 года после паломничества в Святую Землю он под влиянием лавины слухов о его оргиях и бесчинствах уехал к себе в Покровское. Потом он то наезжал в Петербург и Москву, то снова жил у себя дома в Тобольской
Из книги Советская водка. Краткий курс в этикетках [илл. Ирина Теребилова] автора Печенкин ВладимирОт Распутина до Путина Горбачев и Ельцин - суки! И еще сказать хочу… Ой, да не крутите руки Я ж про Путина молчу! С какой только точки зрения не рассматривалась история России XX века! Мы посмотрим на нее под углом в 40 градусов.В аскетичное советское время водочная этикетка
Из книги Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918 автора Бьюкенен ДжорджГлава 21 1916 Антибританская кампания, проводимая немцами. – Назначение Трепова председателем Совета министров, а Покровского – министром иностранных дел. – Политика императрицы и ее мотивы. – Убийство Распутина. – Перемена правительства в Англии Следующий отрывок из
Из книги Судьба императора Николая II после отречения автора Мельгунов Сергей Петрович2. «Зять Распутина» Что представлял собой Соловьев, обрисованный в материалах следствия в самых непривлекательных чертах? Основной тон для характеристики Соловьева был дан в показаниях двух офицеров, выступавших в роли не то добровольцев по сыску, не то официальных
Из книги Хронология российской истории. Россия и мир автора Анисимов Евгений Викторович1916 Убийство Григория Распутина В народе всю вину за поражения возлагали на императрицу-немку, якобы окружившую себя германскими шпионами и подавившую волю царя. И хотя шпиономания была безосновательна, влияние императрицы на Николая II приносило вред. Особое влияние на
Из книги Все сражения русской армии 1804?1814. Россия против Наполеона автора Безотосный Виктор МихайловичЭпоха Наполеоновских войн или эпоха 1812 года? Ход мировой истории в первой четверти ХIХ в. во многом определяли события, происходившие на европейском континенте. Этот важный отрезок времени начала столетия, наполненный калейдоскопическим изобилием событий, принято
Из книги Петр Столыпин. Великий человек Великой России! автора Лобанов Дмитрий Викторович Из книги Великокняжеская оппозиция в России 1915-1917 гг. автора Битюков Константин ОлеговичГлава 5. Великие князья и убийство Г.Е. Распутина: период активной самозащиты (4–31 декабря 1916 г.) В ночь на 17 декабря 1916 г. в Петрограде был убит Г.Е. Распутин. Согласно общепринятой версии, непосредственными участниками заговора были князь Ф.Ф. Юсупов-Сумароков-Эльстон,
(публицистика А. И. Солженицына начала 1970-х годов, до высылки на Запад)
Публицистика, как известно, не живет долго. Она есть горячее дыхание своего времени, отклик на события преходящие. Относящееся к вечности можно уподобить в публицистике сосуду, содержание которого постепенно выдыхается. И тридцать лет, миновавшие от начала 70-ых, должны бы трижды перекрывать долголетие этого жанра. Тем более что за эти тридцать лет сдвинута была сама платформа прежней жизни, та общественная система, которая своими громоздкими пороками и несоответствием естественному ходу национальной жизни и составляла у Солженицына главный предмет разговора. Имеются в виду статьи "На возврате дыхания и сознания", "Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни", "Образованщина" и "Жить не по лжи". Эти работы, да если прибавить к ним еще более поздние "Наши плюралисты" и "Как нам обустроить Россию", и составляют краеугольные камни, на которых и держится вычерченная автором духовная, нравственная и политическая архитектура России.
Да, много что изменилось за тридцать лет, притом в масштабе перемен исторических, как всегда, сокрушительных для нашей страны. Но таков и был вердикт суда, на котором Солженицын выступал одновременно и судией, и защитником. Он предвидел и повторение Февраля, и отпадение окраин по южным и западным границам, и что гоголевскую "птицу-тройку" оседлают бесы и не станут делать тайны из того, куда они правят. Солженицын только не ожидал, да и никто не ожидал, что это может произойти так скоро. Но и из сегодняшнего дня смотреть - статьи эти нисколько не устарели и не ослабли: таково перо Александра Исаевича, настолько проницателен его ум и настолько крепко временное впаяно у него в вечное. Но уплотнение и ускорение событий не только в России, но и во всем мире, их хроническая незавершенность, уклонение общества от своих обязанностей, может статься, и неспособность выполнять их, привели к тому, что ни одно внутреннее дело, будь то внутренняя свобода, раскаяние и самоограничение, гражданское и совестное выправление, или будь то еще более потайные духовные движения, до конца доведено не было и привело в результате к еще более тяжелым последствиям.
Было оно - должно быть, неширокого охвата и недолгого времени, но было, что как кодекс чести восприняли мы тогда, в 70-ых, солженицынское "жить не по лжи"; как диагноз скудного и лукавого интеллигентского величия прозвучала "образованщина"; статья не о том, но как твердая убежденность в скором выздоровлении понимались сами слова: "на возврате дыхания и сознания". Эти понятия настолько точно отражали суть явлений и запросов и настолько прочно вошли в нашу жизнь, что по прицельному попаданию сравнить их не с чем. Были до того пришедшие из литературы "маниловщина", "обломовщина", "рахметовщина" и т. д., но приложились они, как характеристики, к явлениям незначительным, камерным - "образованщина" же вобрала в себя всю Россию и на удивление долго оставалась неузнанной. После солженицынской статьи словно глаза открылись у миллионов, и названное сразу поднялось во весь свой огромный и рыхлый рост.
Что приходило прежде в широкую жизнь из литературы? В основном, вопросы. Более ста лет задавались мы литературными вопросами: что делать? кто виноват? Позднее к ним прибавился шукшинский: что с нами происходит? Наша вопрошающая неудовлетворенность, конечно, не могла успокоить ими совесть, но создавала видимость нетерпеливых поисков. Солженицын дал нам ответы: вот что с нами происходит, вот кто виноват, вот что надо делать. Впечатление было сильным, в правильности диагноза сомневаться не приходилось. Общество, которому отказала воля, но которое "на возврате дыхания и сознания" не представляло себе ни дыхания, ни сознания без самиздата и тамиздата, помнится, даже опешило от сказанного о нем и от предложенных рецептов выздоровления.
Диагноз верный, верней некуда, но болезнь зашла слишком далеко; это и объясняет, почему общество не бросилось тотчас исполнять рекомендации. Согласиться пришлось, даже центровая образованщина, наиболее откоренившаяся от духовного древа России, наиболее страдающая косоглазием, не могла не узнать себя в предъявленном ей образе. Но одно дело, согласиться, узнать, отдать дань справедливости, дань почти и виртуальную, потому что никаких жертв это не потребовало, и совсем другое - изменить свою жизнь, отказаться от благополучия и карьеры. Ни мужества, ни характера, ни сил, чтобы лишиться уютного своего существования и выйти в космическую почти выстуженность поступка, у нее не оказалось. А вскоре события, которые, в отличие от интеллигенции, не топтались на одном месте, подкинули ей счастливый случай: без всякого жертвенного усилия, без никакого акта мужества оказаться в той самой позиции, которая от нее и требовалась призывом жить не по лжи. Так легко стало говорить правду - сколько угодно, в каких угодно выражениях, с какой угодно яростью - уличную правду. И принять на себя, как вымученные страдания, заслугу ее спасения и окончательного водружения, подобно возвращенным гербу и флагу государства российского, на законное место. Общественная система пала, а вместе с нею отвалилось все, что ее держало, все запреты снялись - и как было не выказать бурную храбрость и не вскочить верхом на застрявший в подземном переезде безоружный танк. Отвались завтра, как предсказывал Солженицын, партийная бюрократия, и тотчас будет выхвачена фига из кармана и наставлена грозно на руины. Так и произошло.
Российская интеллигенция за свою историю прошла несколько этапов. Поскольку образованщиной судьба ее не закончилась, есть смысл хотя бы пунктирно повторить их. Первый этап - во весь XIX век ощущение интеллигенцией себя как ордена, к которому принадлежат люди духа, непримиримого с Россией. Г. Федотов в статье "Трагедия интеллигенции": "Это не люди умственного труда", "русская интеллигенция есть группа, движение, традиция, объединенные идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей". А. Солженицын в "Образованщине": "кружковая искусственная выделенность из общенациональной жизни", "принципиальная, напряженная противопоставленность государству", "фанатизм, глухой к голосу жизни". Она, эта горячечная интеллигенция, сделала свое дело, приведя Россию к революции. А затем неминуемо должна была или уйти, или переродиться. Частью ушла в зарубежье, частью попала под жернова нового порядка, большей же частью, подкорректировав сознание, которому пришлось проявить гибкость, "загипнотизированно", как замечает Александр Исаевич, принялась обслуживать новую идеологию. "Огненнокрылыми, - это опять Солженицын, уже свидетель того настроения, - показались ей истины торжествующего марксизма, и целых два десятилетия, до второй мировой войны, несли нас те крылья". Да и само слово "интеллигенция" сделалось после революции подозрительным и бранным; восстановленная в своих правах после войны интеллигенция уже не отвечала ни сути своего имени, ни сути своего происхождения и более чем справедливо названа была Солженицыным образованщиной.
Но и образованщина, утопив в своей трясине интеллигенцию, неминуемо должна была исчезнуть вместе с исчезновением вылепившей ее в столь неприглядном облике системы. История, как никогда, торопится переворачивать свои страницы, и социальные,и духовные, и политические. Не с достижением результатов, а с исчерпыванием надежд появляются новые вывески. Канули в вечность понятия "прогресс", затем "цивилизация", сменившись недоношенным "устойчивым развитием". Исчезли "пролетариат", "рабочий класс", "крестьянство", сменившись худосочным "наемными рабочими". Много что исчезло. Так могла ли задержаться образованщина, в которой с самого начала заметны были признаки вырождения? Солженицын предвидел: "Интеллигенция-образованщина как огромный социальный слой закончила свое развитие в теплом болоте и уже не сможет стать воздухоплавательной". Но он предполагал, что на место интеллигенции придет элита. Жертвенная элита, никакой другой тогда представить было нельзя. "Тут слово "элита" не вызовет зависти ничьей, уж очень беззавистливый в нее отбор", - разъяснял он.
Но нет ни одного чистого слова, ни понятия, ни явления, на которые не постарались бы посягнуть грязными руками и не обречь их на мученическое истязание. Употребив в "Образованщине" слово "массовизация", Солженицын замечает: "Мерзкое слово, но и процесс не лучше". Слово, более всего подходящее.под ярмарку, шабаш и бесстыдство, в подобие которых превратили сейчас элиту, не менее мерзкое... Но и процесс опять-таки не лучше... По созвучию с образованщиной просится сюда слово "элитарщина".
Всегда элита почиталась возвышенной, качественно безупречной частью общества, находящейся на духовной и культурной высоте. А ее стянули вниз и устроили из нее торжище пороков и безвкусицы. Солженицын видел в элите фильтр, через который возможно протискиваться лучшим и собираться с обратной стороны фильтра в достойный народ. А в образовавшуюся в конце 80-ых - начале 90-ых годов прошедшего века элиту, как на помост для шоу, принялись вспрыгивать все, кому не лень, и объявлять себя (и не понять сразу, то ли потешаясь, то ли заблуждаясь), цветом нации.
Примерно за пятнадцать лет это новое образование в виде элитарщины безвозвратно и вероломно извратило все, что было словом, делом и мечтой интеллигенции. Элитарщина окончательно освободилась от служения, освободилась даже от всяких обязанностей перед обществом и государством и добровольно заглушила в себе остатки совести. Образованщина еще могла мучиться в минуты просветления сознанием своего падения - у элитарщины таких мук не существует вовсе. Она истово и демонстративно празднует победу над вызвавшим ее к жизни прошлым.
Образованщина играла роль общественной прислуги - элитарщина никому, кроме себя, не служит, и высокие понятия, которые хоть и глухо, и фальшиво, но изредка звучали еще в образованщине, она публично презрела и высмеяла.
Образованщина справедливо могла считать себя придавленной, стесненной даже в тех немногих дарах, которые выказывала, - элитарщина купается в свободах, как в вышедшем из берегов грязном половодье, и пользуется ими только для своего удовольствия.
Образованщина жила с двойным сознанием: для себя и для общества, и с тройной моралью: для себя, для общества и для государства - элитарщина свое сознание сосредоточила только на себе, и ни одной морали, кроме определенных правил поведения в своем избранном кругу, у нее не осталось. Она откровенно стяжательна, заносчива, надменна и открыто проповедует безнравственность и цинизм.
Во времена образованщины, пронизанные ложью, она, ложь, была еще различима. Можно было сказать: это ложь, жить по ней нельзя. А правда, как бы ни сталкивалась она на обочину, знала себя и с достоинством несла свой образ. Теперь (и элитарщина приняла в этом резвое участие) ложь и правда перемешаны и переплетены так, что разъединить и получить их в чистом виде, кажется, уже и невозможно. Требуется какое-то особого рода выпаривание при больших температурах, чтобы одно опустилось в осадок, а другое всплыло на поверхность. Но ни в том, ни в другом, ни в правде, ни во лжи в отдельности не стало уже и надобности, потому что существующие сегодня дымовые технологии обработки сознания действуют как одуряющие газы, после которых безразлично, где правда и где ложь, было бы дыхание.
Столетиями Россия считалась западным мнением задворками цивилизации. А когда разгородили эти задворки - потянуло изнутри дурным духом не от России самой, а от разложившейся кучи, в которую превратилась интеллигенция, вечным недовольством "этой страной" сгноившая себя в общественный отход. Ни идеи уже в ней, ни интеллекта, ни достоинства -все за последний век постепенно сошло на нет.
Надо согласиться с Солженицыным: "Без замены интеллигенции Россия, конечно, не обойдется, но не от "понимать, знать", а от чего-то духовного будет образовано это слово. Первое малое меньшинство, которое пойдет продавливаться через сжимающий фильтр, само и найдет себе новое определение - уже в фильтре или по другую сторону его узнавая себя и друг друга".
Так оно сейчас и происходит. Через фильтр, который, слава Богу, не надо ни маскировать, ни искать для него обтекаемые формы, ибо расположился он в храме - там, где ему и следует быть. И отверстия в нем, через которые приходится протискиваться в духовное образование и духовное направление, совсем не узки. В том, что не узки, есть и опасности: что доступно, то и нечисто. И как бы не потянули в торговые ряды (а от них теперь нигде нет спасения) вместе с плотью и дух. Но это уже следующий период нашего стояния и борения среди нескончаемой их череды. И необходимость жертвенности едва ли снимется, да войдёт в нее, похоже, тяжелым нравственным страданием упущенная победа: близко, совсем близко было желанное просветление умов и душ, рукой подать, но затолкали друг друга в перебранке, кто достойней и чище, - и опять отдалилось.
Теперь о раскаянии и самоограничении.
Мысль о национальном раскаянии с самого начала, мне кажется, была у Солженицына утопичной. Слишком чудесное потребовалось бы потепление нравственного климата, чтобы народы с тысячелетними обидами обнялись и простили друг другу старые и новые прегрешения. О том же, помнится, мечтал и Достоевский, но из разряда русского прекраснодушия эта мечта так и не вышла. Да и как бы могло свершиться такое братание? Ведь надо навсегда, иначе и приниматься не стоит, а как может быть навсегда, если все межгосударственные договоры о дружбе и сотрудничестве недолговечны и носят политический характер. Чтобы произошло обоюдное межнациональное расширение сердец и душ в любви и доверии друг к другу, акта низового, народного раскаяния мало - если бы даже удалось устроить этот акт на самых искренних и дружелюбных началах. Если бы даже и нашлось чем закрепить его в условиях разгулявшегося, как стихия, зла, когда политические обязательства не выполняются, нравственные заветы стираются, корысть диктует любое соглашение и почти все "дружеские" контакты. Когда на поверженную страну, как на Ирак, хищнически набрасываются десятки государств, чтобы успеть урвать лакомый кусок. Когда единокровные братья (сербы и хорваты, разделенные только религией) веками не могут расположить друг к другу сердца и в одних государственных границах, и в разных. Сможет ли Югославия простить США 1999 год? Да и весь мир, ненавидящий США за культурную и духовную интервенцию, сможет ли освободиться от этого распаленного чувства неприятия?
Что могло казаться возможным тридцать лет назад, сегодня отодвинулось еще дальше.
Тем более, мне кажется, не следует ворошить нагоревшие от взаимных обид старые пепелища, если лежат они по-могильному тихо, запрятав тлеющие угли. Живущие в мире сознательно их не трогают; мир сам по себе есть осознание вины и ее преодоление. Половина французского народа не согласится, будто революция 1793 года оказалась для Европы несчастьем, так же как половина русского народа не согласится, будто революция 1917 года явилась для мира злом. Но попытки приведения всего народа там и там к общему мнению, могут привести к новым вспышкам ожесточения. И так много где. Пример Германии при канцлере Брандте - единственный и особый случай национального раскаяния. Но только за Гитлера, не глубже. Фюреровская эпоха с ее неисчислимыми преступлениями все еще оставалась на поверхности истории, пепел Клааса стучал еще в сердца сотен миллионов, и нравственно-политическое благородство Брандта было и своевременным, и целительным. Но и вынужденным. Его, надо подозревать, не случилось бы - не вмешайся всемогущий требовательный холокост, который раскаянием не удовлетворился, сделав Германию еще и данником Израиля.
Согрешающих видим, а о кающихся Бог весть.
А о своем, о русском народе и каяться некому. Жестоковыйная его судьба только за последнее столетие - в революцию, коллективизацию, реформацию, не говоря уж о мировых и гражданских войнах, так и будет по обыкновению молчаливо похоронена вместе с ним. Сталин не каялся за Ленина, Хрущев не каялся за Сталина (только обличал), Путин не кается за Ельцина. Стал нераскаянный народ по миллиону больше естественной нормы убыли соступать в темную замогильную справедливость. Только плачут в поминные дни колокола на возродившихся храмах и шелестят по иконам шепотки, просящие за души несчастных.
Но личное, тихое покаяние, может быть, и нужней сейчас публичного, которое непременно, по духу времени, будет прихвачено какой-нибудь общественной корыстью. Капля камень точит. А молитвенные капли, соединившись в благодатное течение, когда бы объяло оно земли и земли, способно растопить самые множественные обиды и отчуждения.
Солженицын справедливо связывает воедино раскаяние и самоограничение: не будет одного, не будет и другого. С какой-то последней надеждой, с последним требованием нужно обращаться сейчас к самоограничению - и никто не обращается. Алчность обуяла все материки, нельзя указать ни на одно государство, кроме совсем уж бедных и немощных, которые в своей хозяйственной деятельности обходились бы нормой, достатком, а не выгребали бы с жадностью все, на что хватает аппетита. Да и какие могут быть нормы при грабеже? До чего дотянулись хваткие руки, тому и пропаловка. США с четырехпроцентным населением от населения земного шара заглатывают больше половины всех планетарных изъятий из природы. Могущество восточных "драконов" - Китая, Японии, Индонезии и Малайзии, сделавших прыжок в разряд самых индустриально развитых стран, достигнуто той же практикой опустошения земли. Каждый небоскреб, где бы он не возводился, - это тысяче- и миллионократного увеличения яма под ногами и пустыня вокруг. Этического зова знать меру по-прежнему нигде не слыхать. Предостережения Римского клуба тогда, сорок и тридцать лет назад напугавшие человечество, спрятаны и забыты. Киотское соглашение, ограничивающее вредные выбросы в атмосферу, не подписано ни США, ни Россией и, стало быть, обречено на провал. "Устойчивое развитие", сменившее цивилизацию, как бы намекающее на надежность, крепость взятого курса - название подложное, за ним даже и прятаться не считает нужным беспрерывный и беспощадный рост товарного производства.
И что же остается: выгрызем все, тогда и придем поневоле к самоограничению, затянем пояса, заведем нормы и карточки? Дело знакомое, от чего уходили, к тому и придем? А сможем? Сможем после долгого пира и буйного транжирства, после материального обжорства и обжорства свободами, после безволья и беспутья - сможем после всего этого перейти к практике скромного и бережливого существования, сумеем обходиться малым, найдем в себе силы вспомнить стыд и совесть и принять свободу как самостеснение? Не бросимся отбирать у бедных, которые бедны сегодня по нашей милости, последний кусок хлеба, не пойдем войной против народов, живших здравомысленно и умевших экономить? Презревшие законы жизни сегодня - где возьмут их завтра? Если нравственность сейчас - только слово, звук, превращенный в, ругательство, - откуда, из какого источника, рассчитываем добыть благоразумие?
Забытье прежде относилось к прошлому, сейчас оно перегнулось в сторону будущего. Не хотим знать, что там может быть - значит и не надеемся там быть.
Всемогущий рынок принес в Россию в отместку за ее былую консервативность много чего небывалого-неживалого. Недолго он оставался товарным и полез в душу, обуял дикими страстями и в конце концов вторгся в святая святых - в отношения между живыми и мертвыми.
Это не выходит за рамки разговора о раскаянии и самоограничении, так широка эта тема, что не промахнешься, куда ни обороти глаза.
Чуть не каждый день случаются у нас теперь трагические события. Они давно уже не скрываются, напротив, с воодушевлением, с подробностями, повествуются из всех рупоров. Наводнения, землетрясения, авиакатастрофы, атаки террористов - всего этого хватает с избытком. Почти каждый день безвинно и неожиданно гибнут и калечатся люди. За гибель и увечья власть выплачивает деньги, признавая тем самым ответственность за происходящий в стране беспорядок. За увечья одна цена, за гибель другая, побольше. Какая за что - повторяется на дню по нескольку раз. Как ни дико это звучит - привыкаем. Ко многому привыкаем, к этому тоже.
Всегда на Руси было заведено, что община, мир, коллектив, профсоюз не оставляли родственников погибших в беде, делились, чем могли. Государство назначало за кормильца пособие, окружение брало на себя тяготы проводов. По неписаному нравственному закону, давая деньги, как правило, небольшие, умалчивали, сколько дают. Над могилой, как и над любой бедой, купюрами не шелестят. Ответственность делилась поровну: люди не уберегли, Бог взял. Вся жизнь пронизана скорбью, от несчастья застраховаться невозможно. Сострадание надежней материального вспомоществования помогало перенести горе. Так было. Так по матушке России и остается в глубинах ее и весях.
Теперь объявляют: власть выплачивает за погибшего то сто тысяч рублей, то двести тысяч, а то и триста, в зависимости от причин и масштаба катастрофы. Родственники или принимают беспрекословно, или торгуются. До недавнего времени такого не случалось, чтобы торговались - как за товар. После трагедии в театре "Норд-ост" десятки убитых горем родственников (не приходится сомневаться в искренности горя, но приходится поражаться некоторым его свойствам) потребовали за гибель сына, брата, матери, сестры по миллиону долларов. Ошеломленная такими запросами власть, что называется, стушевалась, адвокат потерпевших настаивал: по миллиону и никаких. Чем закончился торг, не берусь сказать. Для нравственной стороны этой истории не столь уж и важно, чем закончился... Но сам факт! Сам способ разбогатеть, извлечь из несчастья выгоду, поставить дело последнего прощания на коммерческий лад! Найти утешение в "зелененьких", отводить взгляд от могилы, представляя тугие пачки валюты... Что-то предельно жуткое, донельзя уродливое, бесчеловечное выходит к нам из глубин, которые до сих пор оставались безвестными. Как орошать могилу матери или сына слезами, как хранить память, рассматривать старые фотографии, соединять себя с ушедшими вечной связью - если все это выгодно продано, если миллион долларов?! И как жить, если на совести, как камень пудовый, миллион долларов?!
Похоже, мир человеческий, перегретый пустопорожней и вредной деятельностью, источенный лукавой моралью, дошел до такого состояния, что извержения из преисподней, подобные этому самому миллиону долларов, станут случаться все чаще. Человек так скоро меняется под влиянием внешних перемен (а все внешнее от внутреннего), что даже мы, живущие, не успеваем осознать происходящее. Худшее в мире замечается, разумеется, больше, явственней, на то оно и худшее, чтобы бесцеремонно являть себя как властителя жизни; лучшее всегда в отдалении, его жизнь есть внутреннее и непоказное существование. И обнаруживает оно себя тихо и скромно, теплым прикосновением, напоминающим, что оно живо и по-прежнему с нами.
И еще настоятельней, чем тридцать лет назад, от нас требуется:
а) жить не по лжи;
б) содержать себя в нравственной чистоте и правде;
в) не поддаваться унынию и робости перед сгущающимся злом;
г) на виду у транжирства, бесстыдства и окаянства обходиться малым в материальных и физических потребностях, а духовные обращать к спасительному лону матери нашей России.
И так хорошо, так свободно на душе оттого, что ничего другого нам и не остается, что время не оставляет нам больше выбора, и суждено нам следовать заветам, не имеющим срока давности.
Доклад на конференции, посвященной творчеству А. И. Солженицына ко дню его 85-летия.
ПРИ ВРУЧЕНИИ ПРЕМИИ СОЛЖЕНИЦЫНА
ВАЛЕНТИНУ РАСПУТИНУ
На рубеже 70-х и в 70-е годы в советской литературе произошёл не сразу замеченный, беззвучный переворот без мятежа, без тени диссидентского вызова. Ничего не свергая и не взрывая декларативно, большая группа писателей стала писать так, как если б никакого “соцреализма” не было объявлено и диктовано, - нейтрализуя его немо, стала писать в простоте, без какого-либо угождения, каждения советскому режиму, как позабыв о нём. В большой доле материал этих писателей был - деревенская жизнь, и сами они выходцы из деревни, от этого (а отчасти и от снисходительного самодовольства культурного круга, и не без зависти к удавшейся вдруг чистоте нового движения) эту группу стали звать деревенщиками. А правильно было бы назвать их нравственниками - ибо суть их литературного переворота была возрождение традиционной нравственности, а сокрушённая вымирающая деревня была лишь естественной, наглядной предметностью.
Едва ли не половину этой писательской группы мы теперь уже схоронили безвременно: Василия Шукшина, Александра Яшина, Бориса Можаева, Владимира Солоухина, Фёдора Абрамова, Георгия Семёнова. Но часть их ещё жива и ждёт нашей благодарной признательности. Первый средь них - Валентин Распутин.
Валентин Распутин появился в литературе в конце 60-х, но заметно выделился в 1974 внезапностью темы - дезертирством, - до того запрещённой и замолчанной, и внезапностью трактовки её.
В общем-то, в Советском Союзе в войну дезертиров были тысячи, даже десятки тысяч, и пересидевших в укрытии от первого дня войны до последнего, о чём наша история сумела смолчать, знал лишь уголовный кодекс да амнистия 7 июля 1945 года. Но в отблещенной советской литературе немыслимо было вымолвить даже полслова понимающего, а тем более сочувственного к дезертиру. Распутин - переступил этот запрет. Правда, и представил нам случай гораздо сложнее: заслуженный воин всю войну, три ранения, последнее особенно тяжёлое, и госпиталь в Сибири неподалеку от родных ангарских мест; других в таком виде демобилизуют или хотя бы в краткий отпуск, нашего героя - нет. А война - явно при конце, тут особенно обидна ему смерть - и он дрогнул. Тайком вернулся в окрестности своей деревни, даже родителям не открылся, только жене Настасье.
Она помогает ему таиться, через Ангару скрывно перебирается то в зимнюю мятель, то, потом, по открытой воде. Ошеломлена его побегом, но всё делает для его жизни. Изворачивается в сокрытии перед родными и окружающими. До войны прожили 4 года - не было ребёнка, и вдруг теперь она зачала. Для него - это высшая радость: “теперь... хоть завтра в землю!”, “да разве есть во всём белом свете такая вина, чтоб не покрылась им, нашим ребёнком?!” (Невозможнейшая фраза на советских страницах!) Для Настёны - догружается неизбежность раскрыва беременности и позора. Сюжет складывается не из издуманных поворотов, а из простых жизненных обстоятельств, как они естественно текут. Повествование не спешит, оно просочено сибирской натурой, - а события развиваются плотно. В центре всех напряжений - Настёна. Оттенки страхов, надежд, нарастающих мучений - совсем не литературными приёмами вылепляют нам яркий женский образ. Свекровь выгоняет Настёну из дому, в деревне кто любопытствует, кто насмехается, - Настёна теряет чёткость чувств и мыслей, у неё нарастает ощущение неотвратимости беды. “Казалось - это последний день, что ей ещё можно быть с людьми”. У властей возникают подозрения о дезертире, Настёна мечется предупредить мужа об угрозе, за ней и по ночной реке следят в лодках - и чтоб не выдать пребывания мужа и облегчением от невыносимого состояния - она утопляется в Ангаре, вместе с нерождённой, так желаемой, жизнью.
В повести малыми средствами выставлен нам ещё десяток характеров - и вся заброшенная сибирская деревня, где скудный вдовий праздник окончания войны - щемит, посильнее батальных сцен у других авторов. В густеющем мраке находится место и просветлённому лучу - извечной крестьянской трудовой радости сенокоса, без него была бы и Настасья неполна: она
любила ещё до солнца выйти по росе, встать у края деляны, опустив литовку к земле, и первым пробным взмахом пронести её сквозь траву, а затем махать и махать, всем телом ощущая сочную взвынь ссекаемой зелени. Любила стоялый, стонущий хруст послеобеденной косьбы, когда ещё не сошла жара и лениво, упористо расходятся после отдыха руки, но расходятся, набирают пылу, увлекаются и забывают, что делают они работу, а не творят забаву; весёлой, зудливой страстью загорается душа - и вот уже идёшь не помня себя, с игривым подстёгом смахивая траву, и кажется, будто вонзаешься, ввинчиваешься взмах за взмахом во что-то забытое, утаенно-родное. Любила даже гребь по мёртвой жаре, когда сухо и ломко шебуршит сонное разнотравье; любила спорое, с оглядкой на небо и вечер, пока не отошло сено, копненье.
Через два года после “Живи и помни” Распутин издаёт своё сильнейшее произведение - “Прощание с Матёрой”. Это прежде всего - смена масштаба: не частный человеческий эпизод, а крупное народное бедствие - не именно одного затопляемого, обжитого веками острова, но грандиозный символ уничтожения народной жизни. И даже ещё огромней: какой-то неведомый поворот, сотрясение - расставание и для нас всех. Распутин - из тех прозорливцев, которому приоткрываются слои бытия, не всем доступные и не называемые им прямыми словами.
От первой страницы повести мы застаём деревню уже обречённой к уничтожению - и сквозь повесть это настроение нарастает, звучит как реквием - и голосами народа, и голосами самой природы и человеческой памяти, как она сопротивляется своей кончине. Пронзительно нарастает прощание с островом, растянутое умирание, режущее сердце.
Вся ткань повести - широкий поток народного поэтического восприятия. (На её протяжении изумительно описаны, например, разные характеры дождей.) Сколько чувств - о родной земле, её вечности. Полнота природы - и живейший диалог, звук, речь, точные слова. И - настоятельный у автора мотив:
Раньче совесть сильно различали. Ежели кто норовил без её - сразу заметно. А теперь - холера разберёт, всё смешалось в одну кучу - что то, что другое. Мы теперя так и этак не своим ходом живём. Люди про своё место под Богом забыли.
Пришли пожогщики, “набежники из совхоза”, и жгут одно за другим, что пустеет. Гигантское царь-дерево Листвень, отметный знак всего острова, - только он оказался неповалимый и несжигаемый. Сжигают - “мельницу христовенькую, сколько хлебушка нам перемолола”. Вот - часть домов уже сожжена, а остальные “как вжались в землю от страха”. Последняя вспышка прежней жизни - дружная пора сенокоса, любимая деревенская пора. “Все мы - свой народ, из одной Ангары воду пили”. А теперь это сено - через Ангару, и скирдовать около многоэтажных неживых домов для бесприютных коров, обречённых под нож. Прощание с деревней, растянутое во времени, одни уже переехали и приезжают навещать остров, другие - держатся на месте до последнего. Прощаются с могилами родных, пожогщики дико налетают на кладбище, стаскивают в кучу кресты и жгут. Старуха Дарья, готовясь к неизбежному сожжению своей избы, - белит её насвежо, моет полы и набрасывает на пол травы, как под Троицу: “Сколько тут хожено, сколько топтано”. Для неё отдать избу - “как покойника в гроб кладут”. А заезжий внук Дарьи - отчуждён, беспечен к смыслу жизни, уже давно оторван от деревни. Дарья ему: “В ком душа, в том и Бог, парень”. “А что душу свою потратили - вам и дела нету”. - Теперь узнаётся: изба, если её не трогать, сама по себе горит два часа - но ещё многие дни тоскливо курится потом. А и после сожженья избы - Дарья не в силах уехать с острова, ещё с двумя-тремя старухами ютится в негодном бараке. И так - перепущен срок отъезда. Сына Дарьи на катере посылают ночью снять стариков - а тут налегает такой густой туман, какого в жизни они не видели, и найти на Ангаре знакомый остров уже не могут. Этим и оканчивается повесть - грозным символом как бы нереальности нашего бытия: существуем ли мы вообще?
Просветы метафизических сил ощущаются и в некоторых рассказах Распутина, - “Что передать вороне”:
Небо и земля - что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов.
Или в “Наташе” - загадочном рассказе об ангеле-хранителе.
Символична и повесть “Пожар”, девятью годами позже “Матёры”, - и как в прямое продолжение к ней: дальнейшая судьба людей, насильно оторванных затоплением от своего прежнего коренного бытия и на бессмысленную уничтожительную работу - валку и валку лесов, без заботы о подросте новых.
Однако сам пожар описан вовсе не символично, не с литературной красивостью, а с реальными подробностями развития пламени в разных местах здания и на разных этапах горения, - автор подробно видит и передаёт нам детали; это - взгляд и художника, но и знатока пожарного дела. Таких адекватных описаний хода пожара я в русской литературе не знаю. Надо побывать там, чтоб это узнать: “казалось, горел даже дым, которым приходилось дышать”. И эти сдвиги в сознании людей в захвате пожарной работы - до полной потери реальности, даже понимания, откуда куда бежит или что делает.
Сквозь этот ревущий огонь звучит трубный голос народного горя, - в продленье того необратимого расставания нашего с разумным бытием.
На этом пожаре, несомненном поджоге: одни жертвенно спасают гибнущее, другие - всё больше воруют спопутно, а третьи - неназванные и невидимые, получают главный доход от поджога. В перемежных с пожаром главах - видим общий рост бессовестности и воровства, скудеющий остаток добросовестных людей. “Сама земля уходит из-под ног”.
И - торжествующее, наступающее на общую жизнь новое племя - всё те же пожогщики, знающие лишь одно уничтожение, теперь - “архаровцы”, ненаказуемые уголовники на просторах страны. “Вечная тоска в глазах: куда? зачем?” - сами не знают. “Вредят всякому, кто твердит о совести”. Для них “что было нельзя - стало можно, считалось за смертный грех - почитается за ловкость”. - “И как получилось, что сдались мы на их милость?”
Повесть вышла в свет в 1985-м, проницательно показывая, какою полууголовной наша страна была к началу Перестройки, - какою вся эта шваль вот-вот развернётся господами нашей жизни.
Вослед “Пожару” цепочка рассказов Распутина протянулась и в новейшее время, отражая и новые виды лютости жизни. “Изба” - как живое существо, принявшее душу своей обиталицы-подвижницы. - “Нежданно-негаданно”. - “Новая профессия”.
Выделим гнетущий рассказ большой силы “В ту же землю” (1995). На окраине микрорайона города, в котором воздух, растительная и человеческая жизнь необратимо протравлены заводскими выпусками фтора, живёт одинокая Пашута. Последняя из сестёр, трое умерли, она взяла к себе из деревни уже беспомощную мать. У самой-то “не окоченевшее до конца тело выгибается в пояснице с сухим треском - будто косточки ломает”. А мать - “оттолкнулась последним вздохом”, вот умирает; и “такой покой был на её лице, будто ни одного, даже маленького дела она не оставила неоконченным”. И - как хоронить? В деревне бы - куда как просто. А здесь первое: все цены теперь вскружились в десятки и десятки раз, нечего и думать купить гроб. А ещё главней: мать не прописана здесь и никто не выпишет ей свидетельства о смерти; а без свидетельства - не похоронишь. Конечно, за деньги можно получить всё - но денег-то и нет. “Время настало такое провальное: все кругом, все никому не нужны”, всё, что питает добро, пошло на свалку, “жизнь открылась сплошной раной”.
Не только стало нельзя жить, но у нас отняли и сокровенное, священное право - мирно отдать прах матери-земле.
О гробе - Пашута просит работягу, в прошлом близкого ей человека. Но где и как хоронить без дозволения? “Если всё от начала до конца пошло не так, то по нетаку и это - так”. На окраине микрорайона - свалка, пустырь, он “захламлён, набит стеклом, завален банками и пакетами”; но и дальше пустыря - “зачернён кострищами, затоптан, загажен и ближний к городу лес”. Даже за тем ещё б отодвинуться дальше, но ведь так, “чтоб добираться же к могиле уже неходящими ногами”. Спутник Пашуты помогает ей найти сухую полянку дальше в лесу. Однако: запретные похороны надо и провести тайно - значит, ночью, и выкопать могилу, и беззвучно же вынести гроб - “телоприимную обитель” - по лестнице общего дома, и везти до места. Уже на рассвете закопали, под первым снежком, как бы “дарующим прощение за беззаконные действия”. На лице у пашутиного друга “странная и страшная улыбка - изломанно-скорбная, похожая на шрам, с отпечатлевшегося где-то глубоко в небе образа обманутого мира”.
Помимо художественных произведений у Распутина есть замечательные сибирские очерки - об Алтае, Лене и Русском Устьи - легендарном поселении на берегу Ледовитого океана, где колония новгородцев сохранила до нашего несчастного XX века - неповреждённые с XVI века язык и обычаи. Если вспомнить тут и Байкал, и Ангару - Распутин выступает нам как уникальный певец Сибири и средь самых стойких защитников её.
И - органичнейшие черты его творчества: во всём написанном Распутин существует как бы не сам по себе, а в безраздельном слитии:
С русской природой и
- с русским языком.
Природа у него - не цепь картин, не материал для метафор, - писатель натурально сжит с нею, пропитан ею как часть её. Он - не описывает природу, а говорит её голосом, передаёт её нутряно, тому множество примеров, здесь их не привести. Драгоценное качество, особенно для нас, всё более теряющих живительную связь с природой.
Подобно тому - и с языком. Распутин - не использователь языка, а сам - живая непроизвольная струя языка. Он - не ищет слов, не подбирает их, - он льётся с ними в одном потоке. Объёмность его русского языка - редкая средь нынешних писателей. В “Словарь языкового расширения” я от Распутина не мог включить и сороковой части его ярких, метких слов.
А если надо всем сказанным здесь мы не упустим и такие качества Валентина Распутина, как сосредоточенное углубление в суть вещей, чуткую совесть и ненавязчивое целомудрие, столь редкое в наши дни, то изо всего и составится образ писателя, которому наше жюри вручает сегодня премию - с самым радушным чувством.
Государь расплакался, обнял и поцеловал меня. Мы несколько минут простояли, молча, в слезах.
– Какой же результат выйдет от вашего с таким трагическим концом разговора? – спросил я Кауфмана.
– Никакого! Несчастный он, безвольный! – со слезами ответил Кауфман».
«…я решил сказать все это лично Государю. Я и сделал это. Я доложил Государю без всякой утайки, что я слышал и видел, и прямо высказал Ему, что уже создалась грязная сплетня про отношения Государыни Императрицы к Распутину, что дискредитирует саму идею власти; что необходимо немедленное удаление Распутина. Я высказал при этом мое глубокое убеждение, что, если этого не будет сделано, Распутин будет убит. Государь выслушал меня. Он не высказал мне никакого своего мнения. Он сказал лишь несколько слов, из которых стало ясно, что Государю уже известны обстоятельства, только что мною Ему доложенные», – показывал Кауфман на следствии.
А вот как описывается разговор митрополита Питирима и Кауфмана в мемуарах Жевахова. Кауфман, не возражая, слушает. Говорит Питирим:
«…Я должен сказать, что хотя авторитет Распутина в глазах Государя и Государыни и действительно был высок, но Распутин не пользовался своим авторитетом для преступных целей и самые ярые его враги не в состоянии будут указать ни одного преднамеренного преступного деяния с его стороны. Если бы его имя не сделалось мишенью для обстрела Монархии, то он сошел бы со сцены так же, как сошли со сцены и его предшественники. Нужно было замалчивать это имя так же, как в свое время замалчивалось имя графа Эйленбурга в Германии, а не раздувать его славу, все равно добрую или худую, ибо обе были одинаковы вредны и для государства опасны.
Все это хорошо сознавали все, но боялись прослыть "распутинцами" и тем громче кричали о преступлениях Распутина, чем больше желали отмежеваться от него и не запятнать своей репутации. А в чем выражались конкретные преступления Распутина, этого никто не мог сказать, и когда я об этом спрашивал, то никто не мог мне ответить, а отделывался лишь общими фразами. Не Распутин погубил Россию, а Ставка и Дума, но туда никто не заглядывал. Мне больше всех доставалось из-за Распутина, я страдал из-за этого имени больше, чем другие, ибо мной пользовались дурные люди, играя именем Распутина.
Говорили, что Распутин сменяет и назначает министров. Может быть, и была доля правды в том, что он рекомендовал Государю того или другого министра. И однако же этот ужасный человек, имя которого прогремело на весь свет как синоним зла, который якобы вызвал революцию, этот самый человек не рекомендовал Государю ни одного из тех лиц, которые сменили "распутинских ставленников" и образовали Временное правительство, погубившее Россию. И уж во всяком случае Распутин любил Царя и Россию больше, чем эти преступники. Да, это был болезненный нарост на государственном организме, и было бы лучше, если бы его не было, однако видеть в Распутине главное зло в жизни России за последние годы, значит не знать ни истории, ни психологии революции, на страницах которой имя Распутина даже не упоминалось».
Так говорил Питирим Кауфману, а Кауфман передавал князю Жевахову. Сколько при этой передаче было потеряно и переиначено и что на самом деле думал Кауфман, что Питирим, а что Жевахов – вопросы, которые остаются без ответа, но в том, что Распутин любил Царя и Россию больше, чем многие из его врагов, и в каких бы грехах Григория ни обвиняли, в одном и очень важном и очень, к несчастью, в предреволюционной России распространенном – в предательстве
– он лично повинен не был,
своя правда в этом есть.
«Он был типичным олицетворением русского мужика и, несмотря на свою природную хитрость и несомненный ум, чрезвычайно легко попадался в расставленные сети, – читаем дальше в мемуарах Жевахова. – Хитрость и простодушие, подозрительность и детская доверчивость, суровые подвиги аскетизма и бесшабашный разгул, и над всем этим фанатическая преданность Царю и презрение к своему собрату-мужику – все это уживалось в его натуре, и, право, нужен или умысел, или недомыслие, чтобы приписывать Распутину преступления там, где сказывалось лишь проявление его мужицкой натуры.
Именно потому, что он был мужик, именно по этой причине он и не учитывал, что близость ко Двору налагает уже обязательства, что каждый приближенный к Царю есть прежде всего страж имени Государева, что не только в Царском Дворце, но и за порогом его нужно вести себя так, чтобы своим поведением не бросать тени на Священные Имена. Не учитывал Распутин и того, что русский народ дорого ценит свою веру в тех, кого считает "святыми", требуя от них взамен преклонения перед ними, абсолютной нравственной чистоты и проявляя к ним, в этом отношении, очень строгие требования. Достаточно малейшего сомнения в чистоте их нравственного облика, чтобы им вменилось в преступление и то, что составляет обычную человеческую слабость, мимо чего при других условиях и в отношении к другим людям проходят без внимания; достаточно самого незначительного проступка, чтобы вчерашний "святой" был объявлен сегодня преступником.
Ничего этого Распутин не учитывал и, потому, когда его звали в гости, он ехал; давали вино и спаивали его – он пил и напивался; предлагали потанцевать – он охотно пускался в пляс, вприсядку, танцуя камаринскую под оглушительный гром рукоплесканий умиравшей со смеху публики… Но неужели можно серьезно говорить о том, что Распутин сознавал в этот момент преступность своего поведения?.. Он не сознавал даже того, что его высмеивают с самыми гнусными и преступными намерениями, что хитростью и обманом умышленно завлекают в расставленные сети для того, чтобы поглумиться над Священными Именами Царя и Царицы, считавших его подвижником. Распутин был до того далек от таких предположений, что отправлялся на званые вечера не иначе как в шелковой голубой рубахе и хвалился тем, что получил ее в подарок от Императрицы.
Нет, психология крестьянской натуры мне понятна, и я не нахожу данных для того, чтобы приписать этим действиям Распутина криминальный характер».
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Распутин и армия: яблоко раздора. Деникин и Брусилов. Шавельский и Питирим: пустые хлопоты. Предупреждение отца Васильева. Распутин и евреи. Арон Симанович как коллективное неизвестное. Солженицын о Распутине. Русский Рокамболь с двойной фамилией. Старший Бонч. Наш новый национальный герой. Григорий Распутин и ФСБ. «Ватерлоо» генерала Батюшина. Ахиллесов список опытного странника
Жевахов – нет, а большинство современников такие данные находили. Особенно это касалось военной среды – единственной, куда Распутину так и не удалось проникнуть, и никак на нее повлиять он не смог. Хотя великого князя Николая Николаевича на Западном фронте давно не было, грозное «приезжай – повешу» висело над царским другом как проклятие и новые генералы желали видеть Распутина в расположении своих частей столь же охотно, сколь и прежние. Правда, слухи о том, что в связи со сменой главнокомандующего Распутин на фронт приезжал, по Петрограду ходили:
«Опять Распутин! Все говорят, будто он Думу распустил. Государь уже решил было поручить Кривошеину организовать из общественных деятелей министерство, как вдруг переменил решение и назначил Горемыкина. Это будто бы Распутин отговорил. Опасаются, что он теперь в ставке и не подкуплен ли немцами, не сговорит ли царя к сепаратному миру. Вспомнишь только, что слышал за одну неделю здесь – и ужаснешься жизни петербургского человека: в неделю на месяц постареешь…»
Так писал в своем дневнике весьма далекий от дворца Михаил Пришвин, и поразительно, что его настроения совпадали с интонациями в письмах Императрицы Государю: «В милом Петрограде <…> говорят, что Гр. – в ставке. Право здесь все более и более становятся кретинами, и я так жалею тебя, что ты сюда вернешься…»
Царица пыталась переломить ситуацию, но ничего из ее устремлений не получалось.
«Вскоре после того, как государь принял Верховное командование, в Ставку приехала императрица Александра Федоровна, – писал в основанной на мемуарах генерала Деникина книге «Белые против красных» Д. В. Лехович. – Гуляя по саду с Алексеевым, она взяла его под руку и стала говорить о Распутине. "Несколько волнуясь, – описывал этот эпизод генерал Деникин, – она горячо убеждала Михаила Васильевича, что он не прав в своих отношениях к Распутину, что старец – чудный и святой человек, что на него клевещут, что он горячо привязан к их семье, а главное, что его посещение Ставки принесет счастье… Алексеев ответил, что для него это вопрос – давно решенный. И что, если Распутин появится в Ставке, он немедленно оставит пост начальника штаба.
– Это ваше окончательное решение?
– Да, несомненно.
Императрица резко оборвала разговор и ушла, не простившись с Алексеевым. Этот разговор, по словам Михаила Васильевича, повлиял на ухудшение отношения к нему государя. Вопреки установившемуся мнению, отношения эти, по внешним проявлениям не оставлявшие желать ничего лучшего, не носили характера ни интимной близости, ни дружбы, ни даже исключительного доверия.
Несколько раз, – писал далее Деникин, – когда Михаил Васильевич, удрученный нараставшим народным неудовольствием против режима и трона, пытался выйти из рамок военного доклада и представить царю истинное освещение событий, когда касался вопроса о Распутине и о военном министерстве, он встречал хорошо знакомый многим непроницаемый взгляд и сухой ответ:
– Я это знаю.
Больше ни слова.
Но в вопросах управления армией государь всецело доверял Алексееву"».
«Слишком поздно, чтобы идти в церковь. Посылаю тебе бумагу от нашего Друга, которую дай, пожалуйста, прочесть Алексееву», – писала Императрица мужу.
Неизвестно, что это была за бумага, неизвестно, передал ли ее Николай Алексееву, неизвестно, читал ли ее генерал, но известно, что никаких военных советов, исходящих от «нашего Друга», в Ставке не принимали, хотя Государыня их время от времени передавала.
«…наш Друг шлет благословение всему православному воинству. Он просит, чтобы мы не слишком сильно продвигались на севере, потому что, по Его словам, если наши успехи на юге будут продолжаться, то они сами станут на севере отступать, либо наступать, и тогда их потери будут очень велики, если же мы начнем там, то понесем большой урон. Он говорит это в предостережение».
Замечателен и ответ Николая:
«Несколько дней тому назад мы с Алексеевым решили не наступать на севере, но напрячь все усилия южнее. – Но, прошу тебя, никому об этом не говори, даже нашему Другу».
Понятно, что не потому, что послушались Распутина, скорее его правильные в каких-то случаях советы лишь раздражали генералов, как раздражали архиереев отдельные удачные советы в области церковной.
«Он находит, что во избежание больших потерь не следует так упорно наступать, – надо быть терпеливым, не форсируя событий, так как в конечном счете победа будет на нашей стороне, – можно бешено наступать и в 2 месяца закончить войну, но тогда придется пожертвовать тысячами жизней, – а при большей терпеливости будет та же победа, зато прольется значительно меньше крови» – вот еще одна распутинская рекомендация, изложенная Императрицей в письме к главнокомандующему русской армией, и в ней звучит настойчивый мотив: главное – не торопиться, главное – беречь русские жизни. Оценить его с военной точки зрения нелегко, но крестьянская мысль прослеживается здесь очень четко:
«Наш Друг надеется, что мы не станем подниматься на Карпаты и пытаться взять их, так как, повторяет Он, потери будут слишком велики»; «Милый, наш Друг совершенно вне себя от того, что Брусилов не послушался твоего приказа о приостановке наступления <…> Он говорит, что снова будут бесполезные потери <…> Зачем упорно лезть на стену, разбивать себе голову, зря жертвовать жизнью людей, словно это мухи?»; «Наши генералы не щадят "жизней" – они равнодушны к потерям, а это грех», – писала она день спустя, и в этих рассуждениях несомненно чувствуется влияние Распутина.
«Только что получил твою телеграмму, в которой ты сообщаешь, что наш Друг сильно расстроен тем, что мой план не исполняется, – отвечал Государь и далее, объяснив Императрице причины этого изменения, писал: – Эти подробности только для тебя одной – прошу тебя, дорогая! Передай Ему только: папа приказал принять разумные меры».
Боялся ли он измены, распутинской болтливости или просто был дисциплинирован и осторожен, но Александра Федоровна все равно привлекала Распутина к военным советам, окрашенным в религиозные тона:
«Солнышко мое, пожалуйста, не торопись с польскими делами – не позволяй наталкивать тебя на это, пока мы не перейдем границы, – я всецело верю в мудрость нашего Друга, ниспосланную Ему Богом, чтобы советовать то, что нужно тебе и нашей стране, – Он провидит далеко вперед, и поэтому можно положиться на Его суждение».
Или вот такое очень важное место:
«Если бы только Алексеев принял икону нашего Друга с подобающим настроением, то Бог, несомненно, благословит его труды с тобой. Не бойся упоминать о Гр. при нем – благодаря Ему ты сохранил решимость и взял на себя командование год тому назад, когда все были против тебя, скажи ему это, и он тогда постигнет всю мудрость и многие случаи чудесного избавления на войне тех, за кого Он молится и кому Он известен…»
А месяц спустя: «Досадно, что масса людей пишет гнусные письма против Него (Гр.) Алексееву».
Но гораздо досаднее было иное обстоятельство:
«По доходившим до меня сведениям пропаганда против императрицы, которой ставилось в вину ее знакомство с Распутиным, стала распространяться по всей армии, в особенности же в тыловых частях. Эти сведения я счел долгом доложить со всеми подробностями Его Величеству. Упоминание имени Распутина было Государю, видимо, болезненно неприятно», – вспоминал дворцовый комендант В. Н. Воейков.
Что же касается генерала Алексеева, то он так же, как и весь генералитет, был настроен резко против Распутина и от Императрицы этого не скрывал.
«Ваше величество, – ответил ей генерал, – глас народа – глас Божий. Я, верный слуга своего государя, готов сделать все для его облегчения, но не могу допустить присутствия здесь человека, о котором народ и армия единодушно самого отрицательного мнения» – так писал Мих. Лемке в своей книге «250 дней в царской Ставке».
«…и называет Распутина и прибавляет слово "каналья", Вырубову, ей не помню, какой дал эпитет, потом называет императрицу, Андроникова, Рубинштейна, Мануса и еще какие-то две-три "жидовские фамилии"…» – говорил в показаниях об Алексееве генерал Николай Иудович Иванов, который и сам разговаривал с Государем о Распутине, как говорили до этого Столыпин, Родзянко, Самарин, Шавельский, Фредерике, Тютчева…
«Иванов:
Когда заговорил с государем, он был удивлен. Он говорил: «Этого не ожидал слышать», но в мягкой форме.
Сенатор Иванов:
Недоволен был?
Иванов:
Нет, в мягкой форме.
Председатель:
Вы сказали, что Распутин вредный человек?
Иванов:
Я сказал, что вредный человек. Он мне сказал: «Я не ожидал этого от вас слышать». Он сказал в мягкой форме.
Председатель:
Генерал, сообщите факт.
Иванов:
Он мне сказал: «Благодарю за преданность». Этим закончилась наша беседа, и он попрощался со мной. И сказал это мягким тоном <…>.
Сенатор Иванов:
В бытность вашу в Ставке, когда Ставку должен был покинуть П. М. Кауфман, какие были на то причины?
Иванов:
Из Ставки он уехал в Государственный совет, но перед этим имел разговор с государем относительно Распутина. Государь тогда его обнял и поцеловал, а потом читаем в газетах, что он отчислен от должности главнокомандующего.
Сенатор Иванов:
А почему его отстранили?
Иванов:
Говорили тогда, что из-за доклада государю о Распутине».
Тут вот что важно отметить. Именно Распутин стал одной из ключевых причин того непонимания, охлаждения, обиды, которые возникли между Церковью и Государем, с одной стороны, и армией и ее главнокомандующим – с другой. Отдельные люди, называющие себя сегодня монархистами, часто говорят, что как раз именно две эти силы – армия и Церковь – предали Императора в феврале 1917 года, не выполнив свой долг и перейдя на сторону Временного правительства. Противники Государя, напротив, убеждены, что отречение совершил он, и это было и его ошибкой, и преступлением. Но какое бы из этих двух мнений ни было ближе к исторической истине, нет сомнения, что Григорий Распутин помимо своей воли был одним из центральных звеньев этого раздора, и то, что могло еще как-то сойти с рук в мирное время, в войну стало донельзя раздражающим фактором.
Трудно было найти человека, который оставался бы равнодушен к слухам о нем в воюющей армии. В особенности это касалось офицерства – солдаты реагировали проще и отчасти воспринимали Григория как своего, но офицерство и прежде всего высший командный состав были возмущены, и разница этого восприятия, к слову сказать, тоже была неслучайной и не сулящей ничего доброго.
Михаил Лемке писал в дневнике о некой карикатуре, «изображающей: слева Вильгельма, меряющего метром длину германского снаряда, а справа Николая, меряющего, стоя на коленях, аршином… Распутина… И все хохотали, никто не считает нужным стесняться… Развал полный».
Это реакция офицеров. А вот другое свидетельство:
«Офицеры говорят, что это злой гений царской семьи… все беды и напасти, постигшие нашу армию, все затруднения в тылу валят на голову Распутина, – писал в своих записках участник Первой мировой войны, выходец из крестьян, дослужившийся до младшего офицерского чина, Дмитрий Прокофьевич Оськин. – Солдаты отнеслись к убийству совершенно равнодушно. Я попросил Ларкина специально послушать разговоры на эту тему в команде и в ротах. Но ему так ничего и не удалось услышать.
– Но все же как к нему относятся? – настойчиво спрашивал я Ларкина.
– Да как относятся? Говорят, что способный был мужик до баб, а царица, вестимо, тоже баба, чай, и ей надо, муж-то на фронте. Ведь и наши бабы в деревне, смотри, как балуются с австрийцами».
«Меня особенно заботили не войска и их мощь, в которой я в то время не сомневался, а внутренние дела, которые не могли не влиять на состояние духа армии, – вспоминал генерал Брусилов. – Постоянная смена министров, зачастую чрезвычайно странный выбор самих министров и премьер-министров, хаотическое управление Россией с так называемыми безответственными лицами в виде всесильных советников, бесконечные рассказы о Распутине, императрице Александре Федоровне, Штюрмере и т. п. всех волновали, и можно сказать, что, за исключением солдатской массы, которая в своем большинстве была инертна, офицерский корпус и вся та интеллигенция, которая находилась в составе армии, были настроены по отношению к правительству в высшей степени враждебно. Везде, не стесняясь, говорили, что пора положить предел безобразиям, творящимся в Петербурге, и что совершенно необходимо установить ответственное министерство».
О том же самом говорил и один из создателей Красной армии генерал Лукирский: «Накануне революции февральской 1917 года в среде офицеров Генерального штаба старой армии определенно сложилось недовольство монархическим строем: крайняя неудачливость войны; экономический развал страны; внутренние волнения; призыв на высшие посты в государственном аппарате лиц, явно несостоятельных, не заслуживающих общественного доверия; наконец, крайне возмутительное подпадание царя под влияние проходимца (Григ. Распутина) и разрастание интриг при дворе и в высших государственных сферах. Поэтому февральская революция была встречена сочувственно в основной массе всего офицерства вообще».
Протопресвитер Шавельский приводит в мемуарах свой разговор с генералом Алексеевым: «Знаете, отец Георгий, я хочу уйти со службы. Нет смысла служить: ничего нельзя сделать, ничем нельзя помочь делу. Ну, что можно сделать с этим ребенком! Пляшет над пропастью и… спокоен. Государством же правит безумная женщина, а около нее клубок грязных червей: Распутин, Вырубова, Штюрмер, Раев, Питирим…»
Шавельскому же принадлежит и еще одно воспоминание: «Не заезжая в Ставку, я проехал с фронта в Петроград и 13 мая присутствовал на заседании Св. Синода. По окончании заседания ко мне подошел митрополит Питирим.
– О<тец> протопресвитер! Ее величество поручила мне переговорить с вами по весьма серьезному делу, – обратился он ко мне. – Когда бы нам сделать это?
– Странно! – ответил я. – Перед отъездом из Ставки я каждый день виделся с Императрицей, беседовал с ней, но она ни словом не обмолвилась о предстоящей мне беседе с вами.
– Да. Но ее величество поручила мне… Так где же и когда мы переговорим с вами?
– Где угодно, – ответил я, – у вас ли, у меня ли. Я уезжаю в Ставку во вторник 17 мая.
– Может быть, мы сейчас же, здесь побеседуем? – предложил митрополит Питирим.
Я, конечно, согласился. Мы отошли к окну, что против синодального стола и, стоя, начали беседу. В синодальном зале никого уже не было. Только у входных в синодальный зал дверей стояли Тверской архиеп. Серафим, протоир. А. А. Дернов и и. д. товарища обер-прокурора В. И. Яцкевич.
– Так вот, – начал митрополит, – ее величество очень обеспокоена, что в армии много разговоров о Григории Ефимовиче. Какое кому дело, что хороший человек стоит около царской семьи? А вот мешает же он кому-то! В армии говорят и то, и то…
И митрополит передал мне почти дословно то, что я 17 марта говорил Государю. Ясно было, что мой разговор с Государем сообщен Императрице, а последнею или Вырубовою передан митрополиту Питириму с поручением "повлиять" на меня.
– Я не знаю, хороший ли человек Распутин, – как будто о нем говорят другое, но армия действительно волнуется из-за него, считая его виновником многих гадостей. Как велика ненависть к нему в армии, можете усмотреть из следующего… И я, не называя ни места, ни имен, рассказал эпизод 1 мая, бывший на завтраке после освящения знамен в 65 пех. дивизии.
– Если командир корпуса, заслуженный, старый боевой генерал позволяет себе такую выходку в отношении лица, столь близкого к царской семье, значит, как далеко зашло дело!
– Вот Императрица и просит вас повлиять на армию, чтобы в ней не было таких разговоров. Вас армия знает, вас она любит, – вы можете сделать это, – перебил меня митрополит.
– Владыка! – обратился я к митрополиту. – Отчетливо ли вы представляете себе то, о чем меня просите? Вы знаете, что такое теперь наша армия? В ней сейчас 10 миллионов. Она на двухтысячеверстном фронте и в беспредельном тылу, ибо тыл – вся Россия. Каким путем убеждать ее? Живым словом? Вы же понимаете, что это невозможно. Чтобы мне переговорить со всеми частями, потребовалось бы несколько лет. Обратиться к армии с воззванием? Тогда заговорят о Распутине и те, которые доселе молчали. Да и с каким словом, с какими наставлениями я обратился бы к армии? Я не умею врать. А если бы и стал врать, разве тут враньем можно помочь делу?
– Как тяжело, как тяжело! – почти застонал митрополит.
– Владыка! Позвольте мне быть с вами откровенным, – прервал я его. – Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что вы совершенно не представляете, какой это страшный вопрос – вопрос о Распутине. Это самый страшный из всех вопросов нашего времени. Его необходимо разрешить, надо разрешить как можно скорее и разрешению его должна помочь Церковь. Хотя вы, владыка, не первенствующий член Св. Синода, но вы – Петроградский митрополит; на вас поэтому обращены все взоры. Поверьте мне, что настанет пора, когда спросят, что сделала Церковь для разрешения этого вопроса, и прежде всего спросят вас. Тогда вам предъявят большой счет.
– Как тяжело, как тяжело! – начал опять вздыхать митрополит. – Знаете что? – обратился вдруг он ко мне. – С какой бы радостью я ушел в отставку. Вот только дали бы мне пенсию…
– Ну, думать о пенсии нам с вами теперь совсем не время, – возразил я. – Уйдем мы в отставку тогда, когда скажут нам: уходите! А пока мы должны делать и делать.
– Что же, что делать? – нервно спросил митрополит.
– Близость Распутина к царской семье грозит страшными последствиями. Надо избавить эту семью от опасной распутинской опеки. Надо их убедить, чтобы они освободились от Распутина. Если нельзя этого сделать, убедите Распутина уехать от них, чтобы, если они дороги для него, спасти их. Другого способа успокоить армию и народ и охранить падающий престиж Государя я не вижу, – закончил я.
На этом мы расстались.
Я совершенно объективно и, насколько мог, точно передал свою беседу с митрополитом. Предоставляю самому читателю сделать дальнейшие выводы. А о себе одно скажу: я отошел от митрополита и возвращался домой с каким-то гадливым чувством, которое у меня все нарастало по мере того, как я вдумывался в слова, вспоминал выражение лица, ахи и вздохи своего собеседника…
Какие же были последствия этой беседы? – спросит читатель. Существенных – никаких. Митрополит остался тем же, чем он и раньше был. Менять позицию в отношении Распутина ему было пока невыгодно, ибо он держался Распутиным; печального же будущего и для России, и для себя от этой истории он не прозревал. <…>