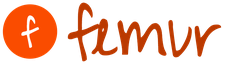Общечеловеческие проблемы в рассказах петрушевской. Петрушевская людмила устроить жизнь
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Нарын Эрзинского кожууна РТ
Доклад
Людмила Петрушевская.
Сюрреализм
Разработала: учитель русского языка и
литературы Комбу Чаяна Алексеевна
2016г.
Людмила Петрушевская.
Сюрреализм (натурализм с ненормативной лексикой, «чернуху»),как очередной эволюционный шаг в сторону расширения творческих возможностей за счет приемов модернизма и постмодернизма.
Атака на реализм, якобы «уставший» метод, который упрямо держится за яркий человеческий характер, событий, а не иллюзорно-неопределенный «сюжет», за свою любовь к человеку, принимали в 90-е годы разный характер. В 1990 году появилась статья Виктора Ерофеева «Поминки по советской литературе», в котором самым… почетным покойником реализма стал, конечно, М. Горький. В другой своей работе этот же критик определил пафос разрушительства и гуманизма более спокойно, без позы: «Новая русская литература засомневалась во всем без исключения: в любви, детям, вере, церкви, культуре, красоте, благородстве, материнстве, народной мудрости… Развивается эстетика эпатажа и шока, усиливается интерес к грязному слову, мату как детонатору текста… Мое поколение стало рупором зла, приняло его в себя, представило ему огромные возможности самовыражения.»
Как оценить избыток жестокости, порой крайне грубых подробностей, ситуаций в новейшей прозе? Можно ли говорить о них, как о непросеянном мусоре, неотфильтрованной мути? Или через этот гиперреализм, «правду до ознобы», заземленность, реалистическая проза должна была пройти? Права была Л. Петрушевская, которая заявила, что «любое несчастье, отрепетированное в искусстве, вызывает тем сильнее катарсис, возвращая к жизни, чем совершеннее, гармоничнее прошла репетиция страдания и страха»(из лекции Петрушевской в Гарвардском университете «Язык толпы и язык литературы», 1991)?
При оценке судеб реалистической традиции в 80-90 годы нельзя сбрасывать со счета именно феномен «чернухи» выросшей вначале из преодоления запретов точное воспроизведение быта казармы (дедовщиной), тюрем и лагерей (с нравом воров в законе), ужасов жизни лимитчиков бомжей. Можно согласиться с распространенным мнением, что «чернуха» - это предельный испуг перед жизнью народных низов, вынужденных спасаться утратой своего достоинства, чести, жалости, усвоение грязи. Это искусство жить и по-волчьи выть… обходит океан «чернухи» (в самой жизни) нельзя: «По сравнению с ее масштабами, область «нормальной жизни» съежилась до острова в океане насилия, жестокости, унижения и беспредела. Эта проза выразила ощущения тотального неблагополучия современной России.
Уже в творчестве Петрушевской реализм оказался в известной опасности от избытка именно натурализма: «стенографизма уродств», от концентрации грязных подробностей, явной ущербности судеб героев. ?? «Чернуха» как бы нужна Петрушевской: она исходит из принципа, что литература – репетиция сострадания. И чем ущербнее, несчастнее, в известном смысле «футлярнее» (то есть замкнутей, поглощенней своей бедой) сознание, тем необходимее ему найти путь к спасению, к опоре на сострадание. Тяжело читать о бедах – еще тяжелее жить среди бедолаг и не обозлиться.
Даже высоконравственное, трагическое решение героини рассказа Петрушевской «Свой круг», может быть, самого типичного для нее – обеспечить ребенка заботой отца и мачехи после смерти ее, родной матери. Мать ударила сына при всех этим самым показав, что она плохая мать, лишь для того чтобы ее ребенка после смерти все жалели и обращались с ним хорошо, не думая какую память оставить о себе. Выглядит крайне жестоко, во всяком случае, парадоксальным.
Что за «свой круг» окружает в рассказе героиню? Можно ли его назвать дружеским?
Конечно, болезненная «эстетика» разрушителей реализма дает о себе знать во всем творчестве Петрушевской и в данном рассказе. Одна из героинь рассказа бесплодна и «не имеет четырех передних зубов», у другой – «глаз выскакивает из орбиты и вываливаются на сцену, как яйцо всмятку», у сына главной героини – гнилые зубы и недержание мочи… без этих антиэстетических подробностей можно получить обвинение … в «соцреализме», в лакировке действительности.
В рассказе есть и подлость, и малодушие, свои неудачи и испорченные, дошедшие до цинизма женщины без детей. Здесь мужья как-то без осуждения «переходят» от одной подруги к другой. Что сохранять в этом кругу? И все же он дорог героине: другой дружбы она не видит уже. Крайне глубок смысл финальной сцены. Героиня, знающая о близкой смерти, нарочно ударила сына Алешку по лицу, вызвала всеобщее осуждение, услышала крики о лишении ее материнства. Героиня буквально выпросила у бывшего мужа Коли (он здесь же, с новой женой и подругой героини Маришей) забрать мальчика к себе! Теперь-то он будет – хотя бы из тщеславия – заботиться о сыне после ее смерти?!
Не кажется ли крайним, весьма экспрессивным заострением чувства материнской тревоги, боли за ребенка последний монолог героини, так оценивающей свою же финальную жестокую игру со «своим кругом»?
Все произведения Петрушевской можно отнести к реализму с элементами натурализма. Потому что она изображает жизнь в соответствии с объективной реальностью, правдивое воспроизведение «типических характеров в типических обстоятельствах» (Ф. Энгельс). В центре внимания реализма находятся не просто факты, события, люди и вещи, а те закономерности, которые действуют в жизни, взаимоотношение человека и среды, героя и времени, в котором он живет. При этом писатель не отрывается от реальности, с наибольшей точностью присущие жизни черты и тем самым обогащает читателя знанием жизни. Человеческий характер раскрывается, прежде всего, в связи с социальными обстоятельствами. Предметом глубокого анализа становится и внутренний мир человека. И связи с этим у нее много натуралистических сценок. Основное требование натурализма – привлечение опыта естествознания к созданию художественных произведений. В натурализм Петрушевской избыток деталей, подробное описание автором физиологических сторон человеческой жизни; не оправданная с эстетической точкой зрения откровенность изображения, в частности, сцен насилия и тд..
Петрушевская совершенно бесстрашна и совершенно беспощадна. В этом она за пределами нормы. Если «нормальная» писательница, может быть, только раз в жизни решится, соберется с духом показать на своих страницах детскую смерть или сиротство больного ребенка, то Петрушевская делает это постоянно, едва ли не в каждом тексте. В этом она даже как-то механична. Чувствуется, что Петрушевская умеет обходится без тех психологических затрат, какие, независимо от таланта, требуются от писательницы, чтобы творчески пережить такое, что дай бог никому пережить в наяву. Петрушевская всегда «говорит прозой», демонстративно называет вещи своими именами. Ее произведения – каталоги всяческих болезней, бедствий, вопиющих несправедливостей. Жестокость Петрушевской сильнее, чем у других писательниц, потому что лишена этого «я» и «со мной» - несмотря на то, что многие ее произведения имитируют личное свидетельство, личное знакомство с персонажами. Петрушевская держит дистанцию между собой и тем, о чем повествует, и качество этой дистанции такова, что читатель ощущает себя подвергнутому научному опыту. . Петрушевская для читателя – запредельна. Ее позицию можно выразить словами Иосифа Бродского: «Причина на свете нет, есть только следствие. И люди жертвы следствия». Человек вне причинно-следственных цепочек одинок еще и потому, что не имеет, в сущности, причины родится и жить на свете. Ведь причинно-следственные связи – это и связи родственные, отношения родителей с детьми. В произведениях Людмилы Петрушевской дети и внуки – подкидыши хаоса, случайно взявшиеся ниоткуда: ни любви между мужчиной и женщиной, ни даже сознательное намерение продолжить род не были основанием для появления на свете нового поколения человеческих существ. Поэтому молодые для старших – всегда вымогатели и захватчики, всегда чужаки. Постоянная тема Петрушевской – антогонизм поколений, но не в классическом тургеневском смысле, а в смысле почти биологическом. Стремление к жестокой правде порождает то, что многие охотно вызвали бы ложь весь позитив человеческих чувств – любви, доверия, жалости, стремление помочь - . Петрушевская рассматривает как иллюзию. В лучшем случае это иллюзия бескорыстна, в худшем – служит средством давления на ближнего, орудием психологического шантажа. Большинство героев. Петрушевской – духовные калеки, требование любви для них невыполнимы из-за отсутствия материальных к тому возможностей, а сентиме6нтальность, многими принимаемая за любовь, порождает одни страдания. Разнообразие текстов. Петрушевской во многом обусловлено кунсткамерным разнообразием протезов, заменяющих любовь.
Естественная, нормальная любовь в произведениях. Петрушевской попросту невозможна. И более всего она невозможна там, где, казалось бы, ее предусмотрела сама природа. Родственные чувства, по нормальному разумению, обязательно возникающие между близкими людьми, из-за обязательности и близости (страшной близости в пределах перегруженных квадратных метров и мизерных денежных средств) превращаются в свою противоположность.
В цикл реквиемы входит 15 рассказов, все рассказы заканчиваются трагически и в них всегда присутствует смерть. Это нам становится понятно с названия цикла «реквием » - заупокойное богослужение. Например, в рассказе «Грипп» человек выпрыгнул с седьмого этажа. А все из-за «случайного совпадения обстоятельств – грипп, голод, супружеская ссора, страшный мороз, отсутствие телефона, особая, обостренная чувствительность от всего этого…». Вот те причины побудившие человека пойти на самоубийство. Или например в рассказе «Медея» даже с названия мы можем предположить о чем здесь пойдет речь, об детоубийстве. Здесь мать убивает своего ребенка, дочь, в порыве помешательства и попадает в сумасшедший дом. И отец девочки во всем обвиняет себя из-за того что не смог предупредить все это, хотя, по его мнению, если бы он повез жену лечится ничего такого не было бы. Даже в рассказе с таким оптимистическим названием «О, счастье» повествует о жизни трех друзей. У Маруси умирает мама от рака, Боб тоже умирает от болезни «белокровие», а «та» которая любила их двоих, только она счастлива в супружестве. В отличии от Маруси красота которой не дало ей счастья «никому не нужная, мужу тем более, опасная, чувственная красота, приманка для автобусных знакомств, для служебных дней рождений и приключений в командировках и домах отдыха ». даже такое качество женщины как красота передается в негативном свете, как вред ее счастью.
Натуралистические подробности остро показаны в рассказах «Нюра прекрасная» и «гигиене». В первом рассказе «Люди смущенно толпились вокруг гроба, было, чем смутится – лежала совершенная спящая красавица, да еще печальная, юная, безнадежно больная, да что там, мертвая: во что не верилось.
Брови вразлет, нежный припухший (как от слез, ведь она умирала семь дней) рот…
… семь дней пыток после операции, полная неподвижность, слезы, боль, все это Нюра вынесла и умерла, исхудав, как ребенок.
Муж с красным, она (мать)с известковым, серым, а Нюра в гробу нежно-загорелая…все хорошо знали, какой темно обугленной пришла Нюра к своему концу, вроде загорела после отпуска, однако же именно как головешка, тревожные, горящие сухие глаза, сухой, спекшийся рот, тоска снедала эту молодую красавицу, тоска и печаль, ибо муж давно жил на стороне с подружкой, и уже был ребенок….
Стало быть, Нюра ушла красавицей, которая она возможно, никогда не видела себя, - спокойные брови вразлет, так называемые «ласточкины крылья », и горящие обидой черные глаза, навеки спрятанные под темными тяжелыми веками».
Смерть украсила героиню этого рассказа (или как здесь говорится это «работа оператора с мертвыми»), но все эти подробности налегают тяжелый отпечаток на читателя. Тем, что судьба героини печально и ее страдания на операционном столе все это угнетает, но мне кажется ей незачем, было жить и не для кого и поэтому это самый хороший для нее конец. Натуралистические особенности даны, чтобы усилить восприятие на читателя, чтобы противопоставить, сделать акцент на судьбе главной героини, несчастье в семейной жизни и тем, что после смерти она обрела покой, ведь и смерть прекрасна.
А в другом рассказе говорится о том что «началась эпидемия вирусного заболевания, от которого смерть наступает за три дня, причем человека вздувает… Симптомом является появление отдельных волдырей, или просто бугров…». И эта болезнь приходит в маленькую семью, все начинается с кошки, которая поймала зараженную мышь. И из-за этого девочку запирают в комнате. «Николай прорубил что-то вроде оконца и велел девочке на первый случай бутылку на веревке, где был суп с хлебными крошками, все вместе. В эту бутылку девочке велено было мочиться, и выливать в окно. Но окно было заперто… да и с бутылкой было придумано плохо. Вопрос с экспериментами должен был решатся просто – выдирался лист или два из книги, на него испаряжались и выбрасывали в окно. ». но все эти не помогло семье пройти мимо несчастья, кошка вышла и заразила дедушку и бабушку ребенка и их запер в комнате зять, а жену в ванной за попытку помочь им. «А Николай лег на кровать и начал вздуваться, вздуваться, вздуваться. Прошлой ночью он убил женщину с рюкзаком, она, видимо, была уже больна… Николай все тужился, пока наконец кровь не пошла из глаз, и он умер, ни о чем не думая, только все тужась и желая освободиться… Елена немного скреблась, исходя кровью из глаз, ничего не видя, да и что было видеть в абсолютно темной ванной, лежа на полу… Черная знакомая гора в ванной, черная гора в проходной комнате, две черные горы за дверью, запертой на стул, оттуда и выскользнула кошка… На кровати лежала девочка с лысым черепом ярко-красного цвета…».
Вот так печально закончилась история одной семьи. Когда читаешь этот рассказ первая мысль, даже не мысль, а чувство отвращения, слишком неприглядно описано все, хотя там нет таких ужасных описаний. Но все же отношение, поведение отца семейства вызывает негатив. Здесь мы видим, что он просто хотел спасти себя, не думая о семье. Здесь нет детального описания характера, а есть ситуации, из которого мы делаем такой вывод, разложение семьи, нет сплоченности, взаимопомощи, всех тех ценностей, которая ценится в семьях. И в этом вся Петрушевская как высшее было сказана, она показывает, только разрушительную, негативную сторону жизни.
Все ее героини несчастные люди, не нашедшие своего счастья в жизни, и для них есть только один путь – смерть. Например, в рассказах «Я люблю тебя», «Дама с собачкой», «Кто ответит?», если честно, то во всех рассказах присутствует – это. Также события, описываемые в ее рассказах, можно сказать, реальны. Потому что в мире много горя, несчастья, голода, смерти, несчастных людей, не нашедших свой путь, несчастных семей. И читая ее произведения, невольно задумываешься, от чего все это происходит? На этот вопрос никто не может дать ответ, потому что у всех нет единого источника, который делает людей несчастными, проблемы кроются в разных жизненных обстоятельствах, и ты не можешь все это предвидеть.
Она пишет, прежде всего, о проблемах, волнующих людей, о наиболее важных вопросах, интересующих человека.
В рассказе
"Новые робинзоны
" писательница рисует картину бегства, бегства главных героев от действительности, от мира, в котором живут и мучаются миллионы людей.
Жизнь невозможна в такой бесчеловечной цивилизации. Жестокость, голод, бессмысленность существования - все это становится причиной бегства от такой жизни. Человек не хочет отвечать за все то, что творится в мире, не хочет нести ответственность за смерти людей, за кровь и грязь.
Вот так и попала обычная городская семья в заброшенную и глухую деревеньку. Они сбежали, не смогли больше терпеть того режима, той системы, в которой находились: "Мои: мама с папой решили быть самыми хитрыми и в начале всех дел удалились со мной и грузом набранных продуктов в деревню, глухую и заброшенную, куда-то за речку Мору".
Приехав в это забытое богом место, они тотчас же взялись за работу: "Отец
копал огород... посадили картофеля..." Началась новая жизнь. Здесь все нужно было начинать заново, строить новую, другую, не похожую на ту
жестокую, лучшую жизнь.
"Во всей деревне было три старухи..." И только у одной из них была семья, которая иногда приезжала за солеными огурцами, капустой и картошкой. Одиночество стало уже привычным образом жизни. Другой старости у них и нет. Они уже привыкли жить в голоде, холоде и нищете, они смирились с такой жизнью.
Марфутка
,
одна из старух, даже не выходила на огород, она "пережила еще одну зиму" и, видимо, "собиралась умирать от голода".
Ситуация, в которой оказались все жители деревни, безысходная. Кто-то пытается выжить, а кто-то устал от постоянной борьбы за бессмысленное существование.
Семейство, только что приехавшее сюда, нашло как бы свой "островок счастья". Они сами выбирали себе такой путь, не смогли больше быть жертвами. И я считаю: правильно сделали. Зачем терпеть жизнь, в которой плохо, если можно самим сделать ее лучше.
Главный герой рассказа -
отец, глава семейства
. Это он решил, что настоящая жизнь - жизнь в изоляции. Он надеется на себя, на свои силы, на то, что он сможет обеспечить существование своей жене и дочери.
В рассказе также важен
образ маленькой девочки Лены
, мать которой, пастушиха Верка, повесилась в лесу от нехватки денег на таблетки, "без которых она не могла". Лена - символ будущего. Маленькая девочка, у которой еще вся жизнь впереди. Ей только предстоит узнать и, может, даже пережить эту жизнь. Вместе с ней представителем будущего поколения является
мальчик, малыш
, подброшенный беженцами. Его нашли на крыльце и прозвали
Найден.
Эти дети только в будущем поймут, как же надо бороться за существование, за лучшее, за светлое.
Какая судьба их ждет? Неужели и они смирятся, станут жертвами?
У героев рассказа, молодой семьи, есть все: дети, хлеб, вода, любовь, в конце концов. Жизнь еще не закончена, она все еще продолжается, только надо за нее бороться, сопротивляться всему, что мешает. Надо надеяться на лучшее и никогда не думать, о плохом. В такой трудной и жестокой жизни нельзя быть слабыми, нельзя быть пессимистами, иначе можно сильно за это поплатиться. Жизнь учит всему, многих она бьет так сильно, что ее уроки навсегда остаются в памяти. Надо иметь огромную силу воли, для того чтобы противостоять ей. Нельзя останавливаться ни на минуту.
Главный герой убежал, он сдался. Не смог справиться с трудностями. С одной стороны, конечно, он правильно сделал. Другого выхода не было. Только изоляция. А с другой стороны, он просто слабый человек. Он не способен на борьбу.
Он остался один на один с собой, со своей бедой, но, похоже, он этим доволен. Вспомним, например, эпизод с приемником:
"Однажды отец включил приемник и долго шарил в эфире. Эфир молчал. То ли сели батареи, то ли мы действительно остались одни на свете. У отца блестели глаза: ему опять удалось сбежать!"
Похоже, он доволен тем, что остался один на "краю света". Теперь он не зависит ни от кого, кроме себя. Он никогда больше не увидит того, что творится за пределами деревни. Он благодарен судьбе за свое спасение. Они вырвались из железной клетки, улетели в никуда, оторвались от того, что губит и человека, и все доброе в человеке. У них есть все, и в то же время у них нет ничего. У них нет самого главного - будущего. В этом и есть трагичность рассказа. Приостановлено развитие общества, они изолированы от окружающего мира, от других людей. Так тоже жить нельзя. Из этого не выйдет ничего хорошего. Будущее зависит только от нас самих, каким мы его сделаем, таким оно и будет. Мир, изображенный в рассказе, бесчеловечен. И я думаю, что Петрушевская пытается показать то, что именно мы сделали его таким. Мы виноваты. И мы должны переделать его. Для этого автор рассказывает нам о семье, хоть и не способной на борьбу, но все-таки отказавшейся от такой никчемной жизни. По моему мнению, Петрушевская высказала свою мечту о строительстве новой, отличной от другой, жизни. Она имела в виду то, что мы не должны бежать, мы не должны сдаваться. Нам не нужна жизнь без смысла, нам не нужно лишь существование. Мы все должны добиваться лучшего, все вместе, только тогда что-нибудь изменится.
Соседи старались не обращать внимания на жалкий вид тонконогой и толстой Риты, которая всегда сутулилась, стараясь визуально убрать излишний вес. Соседи отводили глаза и говорили с ней как с человеком, ибо она живо всем интересовалась, что у кого на дачах происходит, то есть вела себя наравне с остальной стройной и подтянутой дачной молодежью, к тому же и прилично одетой, хоть не в городское, но все же. Рита не видела в себе недостатков - ни в фигуре, ни в лице, ни в профессии дешевого переводчика статей для рефератов, три копейки в базарный день. И откуда-то были деньги, вот в чем вопрос. Даже строители у нее трудолюбиво кропали, не отвлекаясь, деловитые и серьезные плотники, какие-то баснословно дорогие непьющие работяги, шабашники периода капитализма в России, ни у кого таких не было, кругом стоял стон из-за пьянства и воровства рабочих за любые деньги, а у Риты все было о"кей. Они строили, она ходила по соседям в трусах с голым пузом и в лифчике шестого размера и развлекала публику, к примеру, просто скроенными рассказами о своей невестке, жене брата, которого Рита воспитывала одна после смерти матери в свои отроческие годы, а ему было двенадцать. Так эти две сироты и жили, пока наконец брат не женился на красавице из города Хабаровска, юной, стройной, как хлыст, но к тому же неосознанной лесбиянке, ибо девушка тут же рассказала мужу, выйдя замуж, что в общежитии ее очень любила другая студентка, и так далее, что по описанию подымало волосы на голове и вызывало смех мужа, а также - затем - и смех Риты и ее мужа в промежутках между его протягиваниями руки помощи вверх, когда ему было, не до смеха. Ничто не удерживалось в этой бедной семье, в среде сестры, брата и их юных мужа и жены, все вываливалось и запросто обсуждалось, даже мелкие неприятности в виде повышенной сексуальности маленькой Лизы. Обсуждалось все и обесценивалось, лишенное тайны. Семья жила открыто, но откуда-то брались деньги, и зимой Рита таскала маленькую Лизу по урокам, терпеливо, в часы пик так в часы пик, как удобно педагогам, в темноте, по снегу, по гололеду, а Лиза плакала и кричала на всех прохожих, девочка с наследственностью, бедная, возбудимая крошка, глубоко, видимо, несчастная, как будто все беды ее родителей и родни валились ей на голову, и они жили, а она мучилась и вопила. В дальнейшем, все годы спустя, она толковала на дачных улочках в компании соседских детей, что ждет маму, мама приедет, а все соседские дети знали, что мать Лизы не придет, никогда не придет к ней, и возражали, несмотря на запреты взрослых, но Лиза по всем улицам звонила насчет приезда матери упорно, кричала и плакала, когда ее дразнили, "нет, моя мама приедет!"
А Рита тем временем давно лежала в могиле, сплющенная снегоуборочной машиной, которая во тьме прижала ее к стене дома, а Рита-то как раз посторонилась. Рита мчалась за девочкой к учительнице рисования. Машина проехала, а Рита все упорно стремилась к дочери, взобралась на этаж, позвонила и упала, но зато успела все сказать, успела за дочерью, потому что, видимо, ее вела мысль, что как же ребенок останется один. С этим она и прожила последние пять минут в сознании, увидела ребенка, попрощалась с полу в последний раз.
Теперь все они живут с бабушкой со стороны статуи Свободы, и мало этой бабушке мучений видеть больного сыночка и сироту-внучку, мало ей этого, она ведь и мужа потеряла три года назад, горькая вдова, и ее сыночек и тронулся с тех пор, с похорон отца, вернулся домой к Рите с протянутой вверх рукой, не выдержал горя.
В этом мире, однако, надо выдерживать все и жить, говорят соседи по даче, как это делала Рита до последней минуты, свято веря в свою долю счастья и в свою пластичность по Алексеевой. Тем не менее Риту действительно все помнят, все окружающие, и буквально не в силах забыть. Ходят слухи, что мать Риты была очень хорошим человеком, это она оставила ей деньги, и какая-то ее тень лежит поперек всей Ритиной горькой судьбы, какая-то защитная тень, тень великой любви. Чуть ли это не она ли, мать, позвала Риту чуть ли не отдохнуть, но это все, конечно, мистика.
Смысл жизни
Один врач начал лечить себя сам и долечился до того, что вместо одного мизинца на ноге у него потеряла чувствительность вся ступня, а дальше все поехало само собой, и спустя десять лет он очутился на возвышении в отдельной палате с двумя аппаратами, из которых один всегда ритмично постукивал, давая лежащему искусственное дыхание. Все продвигалось теперь без участия лежащего, потому что у него была полная неподвижность, даже говорить он не мог, ибо его легкие снабжались кислородом через шланги, минуя рот. Представьте себе это положение и полное сознание этого врача-бедняка, которому оставалось одному лежать целые годы и ничего не чувствовать. Целое бессмертие в его цветущем возрасте мужчины тридцати восьми лет, который внешне выглядел краснорожим ефрейтором с белыми выпученными глазами, да ему никто и не подносил зеркало, даже когда его брили. Впрочем, мимика у него не сохранилась, его как бы ошпаренное лицо застыло в удушье, раз и навсегда он остановился, в ужасе раскрыв глаза, и бритье оказывалось целым делом для сестричек, дежурящих изолированно около него по суткам. Они на него и не глядели, шел большой эксперимент сохранения жизни при помощи искусственных железных стукающих каждую секунду легких - а уши у больного работали на полную мощность, он слышал все и думал Бог весть что. По крайней мере, можно даже было включить ему его собственный голос при помощи особого затыкания трубочки, но когда ему затыкали эту трубочку, он ужасно ругался матом, а заткнуть трубочку обычно можно было быстрее всего пальцем, и палец сам собой отскакивал при том потоке площадной ругани, который лился из неживого рта, сопровождаемый стуком и свистом дыхания. Иногда, раз в год, его приезжала навестить жена с дочерью из Ленинграда, и она чаще всего слушала его мертвую ругань и плакала. Жена привозила гостинчик, он его ел, жена брила мужа, рассказывала о родне и тех событиях, которые произошли за год, и, возможно, он требовал его добить, мало ли. Жена плакала и по обычному ритуалу спрашивала врачей при муже, когда он поправится, а врачей была целая команда: например, кореянка Хван, у которой уже была предзащита кандидатской диссертации на материале соседней палаты, где лежало четверо ее больных энцефалитом, четыре женщины с плохим будущим, затем в команде был старичок профессор, который впал в отроческие годы и обязательно, осматривая каждую лежащую женщину, клал руку ей на лобок, а осматривал он также другую палату, где находилась другая четверка, теперь уже юных девушек, сраженных полиомиелитом. Он их таким образом как бы ободрял, но они ведь ничего не чувствовали, бедняги, они только иногда плакали, одна за другой. Вдруг заплачет навзрыд, и нянечка уже тяжело подымается с табуретки и идет за судном, квачом и кувшином мыть, убирать и перестилать. Чистота была в этой больнице, опорном пункте института неврологии, чистота и порядок, а энцефалитные бродили как тени и заходили к живому трупу на порог, ужасаясь и отступая перед взглядом вытаращенных в одну точку глаз, эти же энцефалитные сиживали в палате неподвижных девушек, где рассказывались анекдоты нежными голосками и лежали на подушках головы, в ангельском чине находящиеся, с нимбом волос по наволочкам. А то энцефалитные ходили и к малышам, в самую веселую палату, где бегали, кружась, дети с потерянными движениями рук, а за ними припрыгивали дети-инвалидики, волоча ножку. Туда же от своего мечтателя о собственном убийстве переходила большая команда врачей, там летали шуточки, там царила надежда на лучшее будущее, а бывший врач оставался один на своем высоком медицинском посту, на ложе, и его даже со временем перестали спрашивать о самочувствии, избегали затыкать трубочку, чтобы не слышать свистящий мат. Может быть, кто-нибудь, подождав подольше, услышал бы и просьбы, и плач, а затем и мысли находящегося в чисто духовном мире существа, не ощущающего своего тела, боли, никаких тяжестей, а просто вселенскую тоску, томление бессмертной как бы души не свободного исчезнуть человека. Но никто на это не шел, да и мысли у него были одни и те же: дайте умереть, падлы, суки и так далее до свистящего крика, вырубите кто-нибудь аппарат, падлы и так далее. Разумеется, все это было до первой большой аварии в электросети, но врачи на этот случай имели и автономное электропитание, ведь сам факт существования такого пациента был победой медицины над гибелью человека, да и не один он находился на искусственном дыхании, рядом были и другие больные, в том числе и умирающие дети. Раздавались голоса нянечек, что Евстифеева разбаловали, полежал бы в общей свалке, где аппарат на вес золота, то бы боролся за жизнь, за глоточек воздуха, как все мы грешные. Вот вам и задача, о смысле жизни, как говорится.
Людмила Стефановна Петрушевская
Сирота
Некоторым видится его умершее лицо на улицах и в метро.
Вглядываются, не веря себе, обходят совершенно чужого человека со стороны и облегченно убираются, заметив все-таки разницу, ибо никто не видел Эрика в гробу, некоторым он звонил совершенно недавно, кого-то поздравлял, говорил, что что-то читал, и смеялся и плакал, вернее, не плакал, а так. А звонок-то уже был почти оттуда, если не оттуда уже, где он сейчас лежит, полностью ушедший в землю. Он что-то читал и плакал в последние дни, видимо, в больнице, а когда его при этом телефонном разговоре пригласили вполне конкретно приходить, он удивленно замолчал, как-то будто бы подавился, захлебнулся, но опустил приглашение, ничего не ответив, кроме задумчивого "спасибо". Ничего не ответил, промолчал и ушел умирать. Вообще-то он с самого начала был блокадное ленинградское дитя и не жаловался на свое здоровье, жил и жил и иногда покрывался потом на работе в коридоре, согнувшись в три погибели. Поэтому сослуживцы и побегали и устроили его в больницу, где ему поправили язву желудка. А так он ни на что не жаловался, носился с какими-то планами, хотел стать ни много ни мало писателем и записать свою богатую жизнь сироты из детского дома. Но не получилось, его богатая бедствиями жизнь сироты осталась в виде устных рассказов в дырявом сознании сослуживцев, в особенности его поездка на родину, на место рождения, указанное в паспорте. Было такое место у него, некая деревня, куда он отчалил как-то в безумном порыве, потратив на это отпуск и приславши из своей деревни родной жене странную телеграмму: "Нашел семью". Жена по-бабьи восприняла эти слова, то есть что у Эрика там другая семья, в скобках новая жена, и звонила с этим сообщением, нашла куда, Алле Георгиевне, начальнице Эрика по работе, как раз попала пальцем в небо, поскольку Эрик если и хотел какую новую семью, то только Аллу Георгиевну, красавицу в очках, в жабо и с вечно засученными рукавами. Эрик затем вернулся, выпучив свои синие глазки, и сообщил, что он - Эдуард, что у него жива мать, тетки и пятеро сестер и братьев, не считая всей деревни родни. И как он шел там по лесам и полям и встретил женщину, которая его узнала, двоюродную сестру, и она, не признавшись, послала его прямо в родной дом. И как он плакал. И что они его искали как Эдуарда, а потом вообще, после того как ему исполнилось восемнадцать, искали его в армии или по тюрьмам, трезво рассудив, что куда русский парень-сирота пойдет в восемнадцать лет. А он вон он - выучился, вот тебе и раз, оказывается, в институте и далеко пошел, стал редактором и так далее, но не ушел далеко. Оказывается, он младенцем был отдан на житье богатому дядьке-директору, тот его переименовал и умер под медные трубы, а неродная мать опять-таки растила, но умерла от голода в блокаду, и наш Эрик в полной уверенности, что он сирота, оказался в детдоме. Эрик рассказывал об этом, блестя синими глазами, такой беленький-беленький в белой рубашке, и завершал всегда так: но чур, это моя тема. Он, оказывается, был привозим в Ленинград после войны на поглядение, целый состав детдомовских привезли и поставили на запасный путь, трое суток объявляли по радио на весь город, что привезли детей, увезенных тогда-то и тогда-то, однако за детьми не явился никто. Все родные, видимо, умерли, и ночью, при погашенных огнях, состав тронулся и повез всех сирот обратно в Вологду под плач колес. Но это Эрикова тема. Там, во мраке, он продолжает нам рассказывать свою небывалую историю удачливого сироты, и если бы не голод в детстве, то мало ли что могло произрасти на этой почве. Но рок, судьба, неумолимое влияние целой государственной и мировой махины на слабое детское тело, распростертое теперь уже неизвестно в каком мраке, повернули все не так. Сирота, сирота.
Людмила Стефановна Петрушевская
Кто ответит
А кто ответит за невинные слезы Веры Петровны, за ее невинные, бессильные старческие слезы на больничной койке перед тем как Вера Петровна умерла?
Кто отомстит за кровь Веры Петровны - не буквально за кровь, кровь не была пролита и застыла в жилах,- но так говорится: кто отомстит за кровь и за то, что к концу жизни Вера Петровна от различных препаратов стала безумицей, стала мучиться совершенно безвинно от каких-то непонятных и странных мучений и говорила девушкам, своим сотрудницам: "Покажи трусики какие!" Девушки кружились в своих юбочках, ничего не охватывая умишками, не желая ничего охватывать, мало ли друг другу показывают женщины лифчики-трусики, кто где купил и почем. Но это упорное, тоскливое "покажи трусики" на закате жизни, когда все знали, что В.П. умирает и умрет в мучениях очень скоро,- оно осталось звучать в ушах и много после того, как В.П. умерла, лежа в гноище на сквозняках в коридоре в какой-то зачуханной больничке для хроников, для безнадежных, но к тому же еще и одиноких, за которых некому заступиться, чтобы их устроили в лучшую больницу, а не кинули так умирать на мокром, когда кругом сквозняки и всюду стон и смрад.
У девушек осталось в памяти и это тоже, поскольку они несколько раз ездили навещать В.П. далеко на окраину в эту больницу. Они робко клали В.П. на кровать продукты, а В.П. ругалась и плакала в полном сознании, ругалась на всю эту жизнь, на то, что не обращалась к врачам по поводу болезни и запустила. "Не запускайте, девочки",- говорила В.П., плача, как будто у девочек уже тоже что-то начиналось и им предстояло пройти весь тот путь, который прошла В.П. от немолодой, но бравой и крикливой женщины до этого бородатого, усатого существа, загнанного в коридор умирать черт знает на чем лежа.
Потом им же, этим девушкам, предстояло хоронить В.П., но на этом все и кончилось, и никакого памятника и посещения могилки в первый день Пасхи уже не было предусмотрено. Что же, вокруг В.П. образовались другие могилки, не так поросшие травой, и на них в какие-то дни все-таки приходят родные с выпивкой и закуской, все-таки там летают птицы и садятся на скромное пристанище В.П., все-таки растут деревья, а девушки, прежние девушки, уже выросли, созрели и тихо старятся, храня в душе то ощущение от слов В.П. "покажи трусики", когда они проглатывали свой страх и весело кружились, чтобы не дай Бог не показать вида и не обидеть старуху, у которой щеки уже знали бритву, но которая ни в чем не была виновата. Не виновата - как и все мы, добавим мы.
Людмила Стефановна Петрушевская
Грипп
Всему виной, очевидно, все-таки был грипп, хотя некоторые придерживаются иной точки зрения и говорят, что дело именно и обстояло так просто, как оно выглядело на первый взгляд после первого рассказа жены, и никаких глубин, подспудных причин, смешения разных обстоятельств в этом случае не следует доискиваться; тем более смешно выставлять причиной грипп эту странную болезнь, которая у всех протекает настолько по-разному, что здесь можно даже говорить не о конкретной болезни, а о каком-то всеобщем предрасположении к болезни, к разным болезням, о всеобщей ослабленности, возникающей в одно и то же время, во время холодов.
Но причины выдвигались и сопоставлялись, уже началось небольшое невольное следствие, и многие люди принимали в этом участие: это началось еще на кремации, когда вдруг неожиданно встретились разные знакомые, которые и не предполагали, что их объединяло еще и знакомство с покойным. Народу было много, и это не считая еще и тех женщин, которые не пошли, зная себя, боясь впасть в истерику от этого ужасного зрелища; но те, что пошли, держались прекрасно, за исключением жены, которая не переставала плакать.
Но в ее плаче тоже не следовало искать никаких сложных, подспудных причин - никакого актерства и позы. Она не притворялась, какой ей смысл было притворяться и играть роль страдающей женщины, когда оно так на самом деле и было, хотя и было несколько не так, как бывает во всех нормальных случаях, когда женщина остается вдовой. Действительно, в положении жены все было чудовищно запутано и даже страшно, как-то нечеловечески страшно, и поэтому можно было понять тот испуганный плач, которым она оглашала своды крематория. Ее все жалели, конечно, но жалели опять-таки не той приличной, пристойной, но не глубокой, не вдающейся в смысл вещей жалостью,- ее жалели по-настоящему. Каждый мысленно терялся перед ее положением, потому что хуже всех - и неизвестно, заслуженно или незаслуженно,- приходилось ей. И то, что случилось с ней,- от этого не был застрахован ни один человек, разве что только редко могло бы случиться именно такое совпадение случайных обстоятельств - грипп, голод, супружеская ссора, страшный мороз, отсутствие телефона, особая, обостренная чувствительность от всего этого и так далее,а в остальном ведь все же как-то довольно спокойно расстаются даже после долгой супружеской жизни, когда уже все потеряно, все чувства, когда каждая ссора превращается в обыкновенную ссору двух любых случайно взятых людей, между которыми вспыхнула злоба.
Так и в этом случае все могло обойтись совершенно спокойно, потому что все уже давно знали, что они, эти муж и жена, живут между собой плохо. Они не стеснялись присутствующих, не говоря об их дочери. К ним даже редко ходили гости, чтобы не стать случайными свидетелями каких-то тяжелых, невыносимых сцен, но от этого ни у него не прекращались дружеские взаимоотношения со многими людьми, ни у нее. Их семейные дела никого не касались, не считались чем-то заслуживающим внимания. Он был прекрасным, нежным, чувствительным, легким на слезы человеком, с чуткой совестью, с большим вкусом. Он знал три языка и был хорошим специалистом в своей области и так далее - все, что можно сказать о человеке хорошего, все было сказано над ним во время кремации, а жена его во время этих речей испуганно плакала, и в пору было тут же начать хорошо говорить о ней, а то получалось настоящее судилище, а ведь она тоже была хорошим человеком. Но все, что говорилось хорошего о нем, все это было невольным, косвенным обвинением ей, хотя никто ничего не подразумевал. И в конце концов, это она могла лежать в неузнаваемом виде в гробу, это все зависело от случайности, разве что только исключить то, что она была женщиной и ее очень трудно представить в таком беспомощном состоянии, в каком находился он в течение этих пяти дней. Уж наверняка она, цепкая, как все женщины-матери, как-нибудь нашла бы выход из положения, не стала бы есть высохший чай из чайника и крахмал из банки. Она бы наверняка что-нибудь бы придумала, нашла бы выход из положения, раскрыла бы дверь квартиры и легла бы на пороге, чтобы кто-нибудь увидел, если уж не было сил выходить. А у него ведь были какие-то силы даже после этих пяти дней, сумел же он в конце концов вскарабкаться на подоконник! Она бы нашла выход из положения, потому что у нее была дочь, а это много значит не только в том смысле, что дочь стала бы ухаживать за матерью, нет: дочь была еще слишком мала, нет, дочь наверняка бы заразилась, и именно матери с ее температурой, бредом и бессознательным состоянием пришлось бы и идти в магазин и в аптеку, и готовить, и влажной тряпкой подметать в квартире, чтобы ребенку было чем дышать. Так что трудней было бы представить себе именно жену в гробу по такому малому, несерьезному поводу, как ссора. Но все равно, мало ли что бывает в жизни, ведь с женщинами тоже случаются такие казусы, как самоубийство, и едва ли не чаще, чем с мужчинами, только не с женщинами-матерями. Может быть, все то, что произошло с мужем, могло произойти и с женой, не будь у нее дочери, не будь ей необходимо жить во всех, любых обстоятельствах.
Но все равно, и ребенок, которого так всегда, во всех случаях женщины выдвигают как главный аргумент своей жизни, в этом случае не мог приниматься во внимание. И ведь никто не думал обвинять жену, что она осталась жива, и не нужны были никакие смягчающие обстоятельства типа наличия ребенка. Обвиняли ее только за одну небольшую вещь - и, как всегда в таких случаях, именно эту вещь никто не мог понять и все качали головами. Вернее, две вещи, из которых особенно первую никто не мог понять. Жену не обвиняли в том, что она не приходила ухаживать за мужем в течение пяти дней, пока он лежал абсолютно один безо всяких продуктов и лекарств. В конце концов, люди поссорились, жена забрала ребенка и ушла в чем была, ничего с собой не взяв, и это в такие морозы - это о чем-то говорит, хотя бы о состоянии аффекта. И вполне понятно, что она не хотела приходить, хотя у нее не было ничего, кроме того, что на ней. Она, очевидно, хотела как можно дольше бы не приходить, потому что знала, что муж знает, что она должна когда-нибудь прийти за чемоданами и за вещами. Эта необходимость все-таки вернуться и то, что муж снисходительно знает, что жена никуда не денется и все-таки придет, несмотря на свою клятву больше не переступать этого порога,- все это могло задержать жену на больший срок, чем пять дней. Само сознание того, что к клятвенным обещаниям относятся с насмешкой, с убеждением в их актерстве, лживости,- это сознание может кого угодно именно подстрекнуть выполнить именно эти обещания, хотя насмешка может быть просто-напросто шантажом и подстрекательством именно выполнить эти клятвенные обещания.
Это все, правда, достаточно поверхностно, чтобы полностью объяснить те чувства, которые испытывала жена, все-таки придя за вещами. Жена, как видно, мучилась, что вынуждена все-таки прийти и что действительно ее клятва не приходить, произнесенная с яростью и слезами, оказалась обыкновенным актерством и пустой фразой.
Жена поэтому, не глядя в сторону мужа, который лежал на диване, стала быстро собирать необходимые вещи, особенно учебники дочери и ее всякие нужные в школе предметы. Жена, очевидно, старалась не обращать внимания на мужа, но все-таки она заметила и потом рассказывала, что он показался ей грязным, обросшим и очень худым, но она старалась не углубляться в это впечатление, занятая своим упорным трудом. Затем она увидела пустые коробочки и пакеты, валяющиеся на полу среди разлитой воды. Жена, вернувшись в комнату, сделала на эту тему замечание, и тут снова началась обычная ссора, совершенно обычная, и, когда он заплакал, жена пошла к шкафу и стала собирать свои вещи. Она обернулась, только почувствовав струю морозного воздуха. Муж стоял на подоконнике. И вот что, во-первых, вменяется ей в вину сейчас: вместо того чтобы подбежать и снять его с подоконника, она резко, демонстративно отвернулась и продолжала собирать вещи. Это должно было показать мужу, что она ему не верит, как он не верил ей, и считает этот его жест позой, пустым актерством, желанием спекулировать, капризом и так далее. Но, с другой стороны, то, что она отвернулась к шкафу, теперь уже можно считать прямым подстрекательством к самоубийству. Вот в чем ее обвиняют, во-первых.
Во-вторых, когда он бросился вниз головой с седьмого этажа, она не побежала вниз сразу, а спустилась, только когда уже даже карета "скорой помощи" давно увезла его. Она говорит, что в это время собирала вещи. Сколько же прошло времени? Почти час, наверное, пока вызвали карету "скорой помощи" и так далее. Вот это вторая причина, по которой ее осуждают.
Но, в общем, в учреждении, где он работал, теперь говорят, что у них в учреждении было четыре с половиной человека, да и из тех один бросился с седьмого этажа, и, как это ни анекдотически звучит, это факт.
Людмила Стефановна Петрушевская
Богема
Из оперы "Богема" следует, что кто-то кого-то любил, чем-то жил, потом бросил или его бросили, а в случае Клавы все было гораздо проще, хотя ее-то с полным основанием можно было назвать богемой, ибо она ни денег, ни пристанища не имела, училась восьмой год как-то заочно в библиотечном институте, ела три дня в неделю и только шаталась из дома в дом в компании таких же, как она, проходимцев, из которых ни с одним у нее не было никакого романа; однако именно она являлась единственной женщиной маленького крута богемы, самой высокой богемы в их городе, ибо они по-настоящему не имели ничего, ни крыши, ни чем прикрыться зимой, ходили кто в плаще, кто без шапки; летом пятки Клавдии повергали приличных людей в смущение, но таковы и были неприкрытые пятки много ходящей по улицам молодой женщины и таковы должны были быть и ноги, и лицо, и волосы, и такой, без претензий, молчаливой, должна была быть богема, которая нигде не остается, а всегда уходит и неведомо когда и где ест и ночует. Она писала то ли стихи, то ли романы, даже читала их, и в своем кругу она была не хуже любой поэтессы в любом кругу, какое время и какой круг ни взять; а летом они вдруг бурно срывались с места и находили себе пристанище где-нибудь на севере, по избам, и то ли собирали песни, то ли сами пели на свадьбах, во всяком случае, Клавдия как-то летом много ездила на попутных грузовиках Бог знает по каким дорогам, в том числе и по таким дорогам, на которых приходилось то подскакивать до крыши фургона, то ударяться теми же самыми пятками о дно кузова, и вот тут-то богему Клавдию и подстерегло совершенно непонятное дело: у нее страшно заболел живот. Однако надо было ехать, уж если снялись с места, такое было правило, и Клавдия с двумя сопутешественниками вынуждена была подвигаться все вперед и вперед, сидеть на каких-то гнилых обочинах в болотистых лесах, валяться на сеновалах, оправляться в кустах и на задворках, при этом еды Клавдии уже не нужно было никакой. Она хирела на глазах, если бы чьи-нибудь глаза за ней смотрели, но никто за ней не смотрел, ибо два ее попутчика решили уйти и ушли, а Клавдия себя не видела и не знала, что с ней. Но, во всяком случае, она добралась до пристани и села в четвертый класс парохода, в глубокую яму под водой, где пахло отработанным газом и где ее один раз даже побеспокоили контролеры, но отступились, чем-то увлекшись на стороне, какими-то громко кричавшими о билетах нерусскими людьми. Когда пароход пришел, Клавдия в полудреме вышла на свет Божий, добралась до электрички, а живот у нее все болел, и ехала, пока наконец не очутилась в родных местах на Н-ской платформе. Здесь ее нашла лежащей на участке у дома мать, здесь Клавдия перебралась на чистую постель после долгих странствий и здесь, выйдя за малой нуждой рано утром под куст шиповника, она внезапно выпустила из себя струю крови, и все сразу разъяснилось, ибо это был выкидыш, и довольно крупный. Мать, провожавшая под куст Клавдию, сказала, что был мальчик, и Клавдия потом многим рассказала, что у нее должен был родиться мальчик - через столько-то месяцев, потом столько-то месяцев назад, она считала свои сроки как настоящая мать, хотя и прибавляла при этом, что это все было делом случая и она раньше ни о чем не подозревала. Но все воспринимали ее расчеты и рассказы с каким-то странным чувством, и все дружно молчали в ответ, словно бы не зная, что с этим фактом поделать. Поэтому и Клавдия со временем умолкла, и только мать ее, затратив много денег, зачем-то перенесла уборную на новое место, а на старом, засыпанном, посадила рябинку и березу.
Людмила Стефановна Петрушевская
Медея
Страшно рассказывать эту историю, а началась она с того, что я поймала такси. То-се, пожаловалась, что сегодня утром заказанное такси не явилось, даже не позвонили. Из-за этого, пожаловалась я, бабушка семидесяти трех лет опоздала на поезд, итого мы все переволновались, бабушку не встретили, дети поехали в Москву, а бабушка опять-таки на такси к ним в деревню, все разминулись, ушел целый день и много денег.
- Ну жалуйтесь,-сказал таксист,- напишите.
- Даже не позвонили.
- Я,- сказал таксист,- однажды тоже завяз в новом районе, попал в яму, автоматов нет, бегал-бегал, уже пять минут, как я должен, а я никак. Остановил другого таксиста, попросил его позвонить. До сих пор не знаю.
- Самое жуткое - это что бабушка переволновалась.
- Не самое жуткое,- ответил таксист.
- Мало ли, какие бывают последствия.
- Я тоже один раз оказался в Тропареве, а у меня заказ в Измайлово. Вот я гнал. Успел.
Таксист был лет сорока, такого слабого типа, в ковбойке с потрепанными обшлагами. Слабый рабочий, по словам одного умершего голубого, гениального режиссера. Слабый рабочий или молодой слабый рабочий, пальчики оближешь: не сопротивляется. Глаза как бы с поволокой, прикрытые и небольшие. Портрет здесь важен для дальнейшего. Ввалившиеся щеки, но в такси потом не пахнет. Слабые рабочие обычно редко моются, по субботам, и по субботам же совокупляются, после бани. Стало быть, этот не таков. Но дело не в том.
Дальше разговор потек в том смысле, что таксист как будто всем подтекстом уверял меня не жаловаться на того таксиста, все бывает.
- А вы завтра работаете?
- Работаю,- сказал он, насторожившись.
- Со скольки?
- С часу.
- А то у меня завтра такси заказано в аэропорт на шесть утра, боюсь, что не придет. Вот будет дело! Утром ничего не достанешь.
Он обошел этот вопрос стороной и сказал: то, что я ему рассказала о своей беде, ровно ничего по сравнению с тем, что бывает.
- Ничего-то ничего,- сказала я кисло, поскольку у каждого свое,- но, конечно, это не самое страшное.
- Не самое страшное,- эхом повторил он.- Бывает такое!
- Ой, не говорите. Знакомая рассказала про свою однокурсницу, она поехала с двумя детьми к свекрови в Сибирь. Зима, морозы, младший мальчик годовалый заболел пневмонией, больницы нет, она его повезла на станцию, сели в поезд, там он по дороге умер. Привезла мертвого мальчика и живую девочку пяти лет. Муж встречал на вокзале, увидел такое дело, избил жену, сломал челюсть, попал в тюрьму на четыре года. Она осталась одна с девочкой, сама не работала. Стала подрабатывать в газете, писала всякие мелочи. Рублей сорок - пятьдесят штука. Поехала с дочерью за деньгами в редакцию, а дело шло к закрытию. Дочка упиралась. Она ее волокла и уже в вестибюле редакции дала девочке пощечину и попала по носу. У девочки пошла кровь. Вахтерша вызвала милицию. Девочку отобрали и лишили мать родительских прав. Все. На суде объявили ее психически ненормальной и недееспособной. Все.
Он как-то странно посмотрел на меня, как-то выразительно. Так однажды смотрел в мою сторону эксгибиционист в пустом вагоне ночной электрички. Я вошла, сослепу села неподалеку, обернулась, а он сидит и смотрит на меня, как бы гордясь, утомленно и выразительно, а в руках держит свое богатство. Ужас охватил меня.
Тем не менее мы уже приближались к моему дому. Схватила я такси на Каланчевке, там обычно столпотворение у трех вокзалов, стоит дикая очередь на стоянке такси, нервотрепка, узлы и чемоданы, орущие родители с детьми. А на другой стороне площади таксисты едут осторожно и выбирают седоков. Услышав, что мне недалеко, он и согласился. Тихий немолодой слабый рабочий. Жаловаться он меня не отговаривал (я жаловаться собиралась только ему), но заступался за шоферскую братию подспудно, не в лоб. Заступался так, что сердце переполнялось ужасом, и до сих пор он стоит перед глазами - сидящий, слабый, тихий и отрешенный. Грубые руки с сильными ногтями слабо лежали на руле.
- Спать хочется,- говорю я,- ночь собирала детей, эту ночь опять собираться.
- Это ничего. Это ничего,- сказал он в ответ.- Я не сплю уже месяц.
- Самое лучшее лекарство - валерьянка,- сказала я ему, как идиотка, ничего не зная.- Моя одна знакомая перепробовала все, остановилась на валерьянке.
- Не помогает,- откликнулся он, продолжая свою глухую защиту чести шоферов.- Не сплю.
- Главное,- продолжала я нападать на честь шоферов,- очень страшно за бабушку. Все-таки семьдесят три года!
- Ничего, ничего.
- Мало ли.
Он сказал:
- А я вот мучаюсь виной. Я виноват.
Я как-то глухо промолчала, переваривая это сообщение.
Он сказал следующее:
- У меня умерла дочь четырнадцати лет.
Так.
- Недавно, пятого июня.
Вот почему он не спит, бедный шофер.
Он посмотрел на меня своими бедными глазами.
Я почему-то сказала:
- Самое страшное - это первый год. Первый год самое страшное.
Он ответил:
- Прошел месяц. И я виноват.
Я потеряла вообще соображение, где, что и когда. Мы ехали.
- Может быть, вам кажется, что вы виноваты?
- Нет. Я много себе позволял. Я подготовил это. Я... Что говорить.
Я ответила:
- У меня есть знакомый, у него сын повесился, двенадцати лет. Позвонил ребятам: приходите, я вешаюсь,- а они не пришли. Он и повис. Мать пришла потом. Она не могла плакать. И отец не мог.
- Я уже выплакал все, глаза сухие. Сухие глаза. Он посмотрел на меня своими сухими полузакрытыми от слабости глазами.
- Я виноват.
Я не могла ничего спрашивать, что спрашивают обычно люди из любопытства, как и что. Я кинулась в бой.
- Знаете, они три года обождали и родили еще сына. Сейчас ему десять.
- Знаете, когда человеку сорок четыре года...
- А жене сколько?
- Жене сорок два.
- Моя знакомая родила в сорок четыре года. Сейчас девочке уже семь лет. Хорошая такая девочка.
- Знаете, жена там.
- В психушке?
- Там. Врачи говорят, что это все.
- Тяжелое состояние?
- Да. Совсем.
- Значит, это еще поправимо. Буйное как раз вылечивается.
Далеко мы зашли с защитой чести шоферов. Что же такое с ним произошло и с его дочерью? Четырнадцать лет, страшный возраст. Не углядел. Он виноват.
- Знаете,- говорю я,- у Андерсена есть такая сказка. Не входит в сборник для детей. У матери умер ребенок. Мать пошла к Богу и говорит: отдай мне моего ребенка. Бог отвечает: пойдем в сад. Пошли. Там на одной грядке растут тюльпаны. Бог говорит: это будущие жизни родившихся детей, один из них твой. Посмотри в них: захочется ли тебе такой жизни для твоего ребенка? Она посмотрела, ужаснулась и сказала: ты прав, Господи.
- Я не верю, что она на небе. Вы когда-нибудь теряли сознание?
- Теряла.
- Ведь ничего же не чувствуешь. Меня вернули после смерти. Я ничего не помню. Там ничего нет.
- Вы с ней встретитесь,- сказала я.
- У меня был знакомый буддист. Я не верю.
- К вам кто-нибудь придет. Вы не гоните. Это придет она. У меня так было. Я шла поздно вечером домой, увидела кота, он сидел, прижавшись к земле. Через час иду домой, он сидит на том же месте, а его уже занесло снегом. Днем там продавали пирожки с мясом, он наелся объедков, а кошкам вредно, людям ничего, а кошки гибнут. Я его взяла к себе. Вымыла. Высушила у газовой духовки.
- Я знаю, некоторые берут кошек, собак. Я не могу.
- Потом он исчез через полтора месяца. Больше я его не видела. А потом я поняла, кто это ко мне приходил.
- Я виноват,- сказал шофер.
- Все виноваты.
Что я говорила, что толковала, я не помню. Я убеждала его подождать год, потом убеждала его уйти в отпуск.
- Мне на работе легче. Тем более что отпуск я отгулял. Я на даче перекрывал сарай, делал там окно. На даче. Все было хорошо. Дочь с женой приехали, вместе ехали обратно, за пять дней до смерти. Потом они шили вместе, дочка брюки, жена платье. Советовались, все было хорошо. Я виноват,твердил он. Мы все ехали по этому пути.
- Я не могу смотреть на детей, плачу. Теперь уже не плачу, отвернусь, не могу.
- Год. Год еще,- твердила я.
- Тут я вез одних с собачкой. Это все, что у них осталось от дочери, собачке двенадцать лет. Она хрипит уже, они ее колют, лечат, трясутся над ней. Десять лет назад умерла дочь. Все помнят.
- Да, как один человек кричал: не хочу другого мальчика! У него сына убили восемнадцати лет.
- Да, я раньше смотрел на чужих детей и завидовал, а теперь они мне все чужие. Знаю, что они мне не нужны. Мне нужна она. Она была мне не просто дочерью, а другом. Бывало, идешь в магазин, она сидит делает уроки. Говорит: Папа! А ты куда?- В магазин.- А я?- говорит. И шла со мной, только если уроков много, тогда оставалась.
И опять он завел свою шарманку: виноват я, виноват, всем поведением своим подвел к результату.
Все, мы уже остановились. Я никак не могла выйти, потому что он все говорил. Мало того, я не хотела выходить, хотя дома меня ждали все, я опоздала страшно, надо было собираться. Как-то надо было что-нибудь ему сказать.
- Ведь вы знаете, мою дочку зверски убили.
Я ответила, что знаю. Поняла. Господи! Что это за вина, Господи, не сохранил, не уберег.
- За пять дней до смерти она приехала ко мне на дачу с матерью. Я увидел ее и так испугался! Почему? Так страшно испугался, увидев ее!
Он уже предчувствовал. Хотя обычно пугаются тех людей, которые преследуют. Если он действительно, что называется, "позволял себе" с другими женщинами, то страшнее всего страдают не жены, а дочери. Но это так. Пугаются тех, перед кем виноваты. Не любят тех, перед кем виноваты, и избегают их.
- У нее было такое лицо! А потом мы ехали вместе домой, я их отвозил.
- Вы никого сейчас не любите?
- Никого.
- Это единственное спасение. Любите кого-нибудь, пожалейте свою жену. Вы к ней ходите?
- К ней не пускают. Я думал, но я не хочу заводить семью. Я люблю брата. Но это так.
- Не бросайте ее.
Он опять странно посмотрел на меня.
- Они так сидели обе и шили мирно за пять дней до смерти. Я виноват, я не сделал того, что надо было сделать. Так как-то думал, ладно. Вы знаете...
Пауза.
- Вы знаете,- сказал он,- это моя жена убила дочь. Она сидит в тюрьме, в Бутырках. Там есть отделение для сумасшедших.
Пауза.
- Она пришла сама в милицию и принесла окровавленный нож и топор и говорит: погибла моя дочь.
- Ее сразу арестовали?
- Сразу. У нас в доме четыре года назад убили в квартире женщину ножом. Они теперь вешают на нее это дело.
- А адвокат?
- Адвокат пока не может по закону. Допустят, когда предъявят обвинение... Потом ее еще должны повезти на экспертизу.
- А вдруг это не она? Как же так? Она в шоке и без памяти. Надо какого-нибудь гипнотизера. Гипнотизер под гипнозом может у нее все узнать. Может, дочку убили, а она в шоке.
- Да она давно как-то... Я замечал.
- Например.
- Например. Вот сидит у телевизора и конспектирует программу "Время", все новости. И потом дает комментарий. Я прямо покачнулся.
- Да. Это да. Но это же совсем не то! Она была агрессивная?
- Один раз так пошла на меня, сжав кулаки.
- Один раз?
- Один.
- Да вы смеетесь, что ли? Вы знаете, что бывает в семейной жизни! Один раз! Вы что!
- Правду сказать, и я не сахар. Я от нее отдалился последний год. Совсем не любил, только дочку. Не было такого контакта.
- Вот это действительно, это тоже похоже.
- Дочка-то была ближе как раз ко мне. А жена давно не работает. Ее, короче, выгнали с работы. Поссорилась там с кем-то. Мы же с ней вместе институт заканчивали. Потом я пошел в таксисты. А она, ее выгнали из НИИ, устроиться не могла, сейчас НИИ сокращают. У нее была депрессия.
- Еще бы! Когда меня выгнали с работы, я помню!
- У нее была депрессия, и больше она никуда устроиться не могла.
- А тут еще вы.
- Я виноват. Я один раз вызвал платного врача-психиатра, она говорит: ну что, вызывайте психоперевозку, кладите в больницу... Но я как-то... Знаете... Не сделал этого.
- Жалко было?
- Да нет. Так как-то... Мы с дочкой... Не думали ни о чем... Я много себе позволял, вот что. Я виноват.
Сидит одна в безумии в тюрьме, ожидая казни.
Людмила Стефановна Петрушевская
Гость
Я пригласила все-таки к себе в гости этого Толю, этого очаровательного Толю, у которого щеки уже начинают обвисать, и сказала ему.
В 70-е годы появилась «новая волна» литературы. Эта литература была неоднородна и авторов зачастую объединяла лишь хронология появления их произведений да общее стремление к поиску новых художественных форм.
Среди произведений «новой волны» появились книги, которые стали называть «женская проза». К «женской прозе» относят и произведения Л.Петрушевской.
Людмила Петрушевская среди современных писателей стоит особняком. Ее пьесы и рассказы не могут не заставить человека думать о жизни, о смысле и цели существования. В основном она и пишет на социальную тематику, прежде всего, о проблемах, волнующих людей, о наиболее важных вопросах, интересующих человека.
Людмилу Петрушевскую долго не печатали, так как ее рассказы считали слишком мрачными для «счастливого советского общества».
В своих произведениях Петрушевская описывает современную жизнь, далекую от благополучных квартир и официальных приемов. Ее герои – незаметные, замученные жизнью люди, тихо или скандально страдающие в своих коммунальных квартирах или неприглядных дворах.
Темы для своих рассказов Петрушевская обычно берет из череды повседневных событий. Писательница показывает мир, далекий от благополучных квартир и официальных приемных.
В ее произведениях ежесекундно разыгрываются микротрагедии обстоятельств
Персонажи прозы Петрушевской, за редким исключением, не живут, а выживают. Естественно, что подобный взгляд на человеческое существование потребовал плотного бытописания, подчас натуралистического. Вещные, бытовые детали отобраны точно и наполнены психологическим содержанием.
Здесь все несчастны, и это понятно – материальный мир полон ловушек, он всегда поймает тебя, не в одну так в другую, а средства выбраться из нее, в пределах этого мира, нет. Вот и бьются они как рыба об лед изо дня в день, и борьба эта заранее обречена на провал.
Самое главное и самое неприятное, о чем она твердит неустанно, - это катастрофическое отсутствие любви. В мире, где обитают герои Петрушевской, любви нет – принципиально, всеобъемлюще.
Основная тема большей части рассказов, повестей и сказок Петрушевской – изображение женской любви – к мужчине, детям, внукам, родителям. Изображение жизни семьи диктует писателю обращение к жанру семейного рассказа или семейной повести.
в семье она чаще всего видит распад: неверность одного или обоих супругов, ад ссор и склок, обжигающие потоки ненависти, борьбу за жилплощадь. Вытеснение кого-то из членов семьи, с этой жилплощади, приводящее к нравственной деградации либо мешающее герою обрести место в социуме (повесть «Время ночь»).
Человек и, прежде всего, женщина оказывается в произведениях Л. Петрушевской одиноким перед необъяснимыми обстоятельствами.
Очень характерна в этом плане повесть Л. Петрушевской «Время ночь». Написанная от первого лица, повесть становится монологом героини, которая постепенно, шаг за шагом, теряет все ниточки, связывающие ее с жизнью.
постепенно в повести появляется тема полной, абсолютной, фатальной разобщенности, непонимания, невозможности общения не только на духовном, но даже на бытовом уровне.
Мир повести – замкнутый круг тяжелых жизненных обстоятельств: тесная квартира, в которой живут три поколения людей, неустроенный быт, социальная незащищенность
Человек в этой жизни всегда одинок, это не жестокость, не бездушие, это распад жизни на обломки, которые ничто соединить не может.
В повести «Время ночь» мы обнаруживаем практически все основные темы и мотивы, звучащие в творчестве Л.Петрушевской: одиночество, сумасшествие, болезнь, страдание, старость, смерть. При этом используется прием гиперболизации: изображается крайняя степень человеческих страданий, ужасы жизни предстают в концентрированном виде, возникает множество натуралистически-отталкивающих деталей. Тем самым создается впечатление полного погружения в неразрешимые бытовые проблемы героев повести.
«Время ночь» - это еще и постоянное ощущение всеми персонажами повести тоски, подавленности, душевной тяжести, предчувствие новых проблем и трагедий
«социальная проза» Петрушевской - стремление писателя говорить об «обыкновенном человеке», о том, что «так бывает» (одно из самых любимых присловий Людмилы Петрушевской), – и говорить так, как этого не делали в литературе социалистического реализма (да и потом).
17_Тема преемственности поколений роман Славниковой «Стрекоза…»
Героини заранее себя отгородили от мира. Но им некуда деваться друг от друга: действительность их отторгает, поскольку они ее тоже не принимают.
Софья Андреевна - учительница, человек, работающий с большим количеством людей, но живущий в прошедшем времени.
Но посмотрим на взаимоотношения самых близких людей: матери и дочери. Это история взаимонепонимания, нелюбви и одновременно неразрывной связи, подспудного взаимодействия и отражения, где внутренне состояние одного никогда не находит отклика в другом, а только множит бесконечный ряд взаимных обид и недоумений. (Вспомним историю подарком и поздравлений!)
Софья Андреевна
больная и немощная лежит в больнице. Ей "нравилось возвращать испуганной дочери ее неуклюжие котлеты с подошвами жира, мешки рваных слипшихся пельменей, полные корявых веток и черной воды банки забродившего винограда. Ей казалось что эти продукты хорошо выражают обиду, - и дочь теперь уже не оставалась равнодушной, вздыхала и горбилась у всех под ногами, запихивая кульки в разинутую сумку ".
Со Славниковой мы можем предполагать, что истоки такой вот материнской любви, вероятней всего, кроятся в неустроенности ее судьбы, в неустроенности всей женской судьбы этой семьи. "То была семья потомственных учителей, вернее, учительниц, потому что мужья и отцы очень скоро исчезали куда-то, а женщины рожали исключительно девочек, и только по одной. Семья жила в провинции и была провинциальна ".
Их город, где они существовали сами по себе, не развивался и не рос, напротив - становился все более захолустным. Каждый персонаж замкнут на самом себе, и поэтому у него нет не единого шанса установить контакт с окружающим миром
Личная жизнь дочери - повторение существования матери. И это не случайность. Об этом пишет и классическая литература и Петрушевская. Например: "Время ночь", и писательнице еще раз очень важно, чтобы люди прониклись к этим. Мы в ответе за тех, кого приручили. Нельзя, чтобы перетекали неудачи, разочарование, отчужденность, непонимание, боль из одного в другого. И даже неустроенность душевная и бытовая. Но в романе происходит совершенно обратное, все перетекает. История семьи крутится как будто на одном месте, вокруг одного и того же: одиночества и неустроенности.
Отсутствие действия писательница заменяет огромным объемом до мельчайших подробностей прописанных деталей - обстановка, одежда, пейзажи, психологические состояния, так что постепенно создается ощущение, что именно эти мастерские миниатюры и являются подлинными героями повествования (черта постмодернизма).
Терзаемая долгом быть счастливой здесь и сейчас, Софья Андреевна старалась пробудить в себе доброту к мужу Ивану.
Катерина Ивановна также нашла себе подобного, обделенного жизнью человека. Рябков,
отстававший по времени от других людей и имевший дело не с событиями, а большей частью с их последствиями, мог надеяться равномерностью семейной жизни, одинаковостью дней сделать незаметным этот опасный разрыв
Личностная неустроенность судьбы матери выливается раздражением на дочь. Ощущение собственной ненужности и отмщение за это всем, но рядом оказывается только дочь. Дочь помешала во всем: во-первых, стать женщиной, во-вторых, быть любимой, в-третьих, верить в себя, в-четвертых, отняла радость жизни.
Поэтому мать не заложила в ней внутреннее женское начало заботы о других. Если бы Софья Андреевна рассказала дочери об отце - но за всю совместную жизнь мать и дочь ни разу не поговорили ни о чем серьезном и вечно ссорились по пустякам, вкладывая в это столько интонаций и переживаний, что два их взволнованных голоса - одинаковых, один на номер меньше, - можно было слушать не понимая слов.
Зато перебранки по поводу плохо промытых вилок или слишком красной дочериной юбки придавали всему их бедному обиходу некую значительность, словно каждая мелочь стоила многочасового обсуждения.
Зато саднящий груз обид, все продолжавший копиться и возрастать, и был тем общим, что соединяло этих двух единственно родных людей.
Читая о Катерине Ивановне, очень хочется, по-человечески хочется, надеяться, что она выйдет из этого заколдованного круга невезучести, серости, потому что иногда эту возможность нам дает Славникова и дает ее не случайно. Потому что они не "вымороченные" героини, у них все есть для того, чтобы быть счастливыми женщинами, иметь семью. Изредка подмечает писательница женственность, "особую" привлекательность некоторых портретных деталей героини.
Нужно было напрячь душевные силы в отношении к Ивану, в отношении к ученикам, в отношении к собственной дочери, чтобы к концу жизни быть нужной и любимой. Но, к сожалению, приходит к ней это чувство слишком поздно. У нее уже нет никаких сил и времени. Как важно человеку, жизнь которого так мала, все успеть в свое время, а успев и уйдя из этой жизни, оставить продолжение любимое и нужное. К сожалению, и дочь, когда жизнь ей дарует встречи, которые перевернули бы все ее собственную жизнь, она поступает как мать, отторгает от себя всех и вся.
"Катерина Ивановна старая дева, машинистка в заштатном НИИ, безобидна и невинна, но ей приходится платить за зло, накопленное в земле и в семье.
героиня пытается зажить, как все. Но из попытки ничего не получается: старая дева в испуге сбегает от приглашенного жениха и попадает под грузовик. Но она гибнет не только потому, что в смятении чувств не смотрела по сторонам: ее желание осуществилось реально, и душа отделилась от тела насовсем".
Катерина Ивановна вдруг поняла, что со смертью матери их связь не исчезла, и теперь они должны сделаться как бы симметричны относительно общей прежней жизни; если мать ушла далеко, то и ей надлежит уйти, набирая нужное расстояние земными километрами".
Это трагичнее чем у Л.Петрушевской (И в этом новое решение темы). У той, по крайней мере, после смерти главной героини остаются дочь и внуки, то есть продолжение рода, а у О.Славниковой такого продолжения нет.
18 Местный колорит Славникова «2017»
Прежде всего, говорить нужно о двух главных «разделенных» пространствах: городе и «промысловой» долине.
В тексте Урал называется «Рифейские горы». Это античное название нужно, чтобы создать дымку отдаленности, загадочности
Потому что Урал насыщен подземными сокровищами, многие их ищут, то есть прямо с загородной электрички ступают в неизвестность. На Урале существуют так называемые хитники – люди, без лицензии добывающие самоцветы. Они не профессионалы, не геологи.
«Роман с камнем» – это азарт, удача, фарт. Это риск: хитник может в старой шахте попасть под завал, сломать ногу и не выйти из тайги.
Рифейский человек глубоко связан с миром горных духов. Этот мир описал в свое время Павел Бажов, но этот мир существует и вне бажовских сказов. Для рифейца он реален.
Большой уральский город (вполне узнаваемый, родной для Славниковой Свердловск-Екатеринбург, в котором есть все – он настойчиво предлагается нам не столько как модель мира, а скорее как образ современной России. Для Ольги Славниковой важно, что мы живем на территории, удостоенной стать местом действия блестящей полноценной мифологии. Бажовские герои проступают в наших современниках - мы их там видим, потому что Бажов соответствующим образом настроил наше зрение.
бажовская мифология для нее - один из способов бороться за сохранение статуса места. Она продолжает авторитетную традицию, демонстрирует ее актуальность. Отчасти в романе, конечно, отражается реальное пространство. Славникова обычно скрупулезно дотошна в описаниях. И город, хоть и назван по-другому, узнаваем во многих своих деталях, и вся здешняя каменная инфраструктура описана, точно.
горы, в которых полно ценных камней, и вокруг этих желанных сокровищ все крутится – вожделенны и притягательны они для каждого «рифейца». Есть Герой, без имени, зато с фамилией - Крылов, у героя есть работа: он талантливый огранщик камней, ювелир, резчик, практически Данила-мастер. А еще у него есть любовь – загадочная неземная страсть, и бывшая жена - вполне земная, богатая и успешная. Главное, что хочет Крылов, не участвовать в этой жизни, суть которой - бессмысленная суета, жестокость и фальшь. А для этого ему нужна любовь, что позволит оторваться от «земного», и деньги, чтобы «не зависеть».
Но, несмотря на всю нереальность, роман ультрасовременен: Славникова прошлась и по политически-гламурному бомонду, власти, СМИ, бизнесу, замешанному на крови, проблемам экологии – все черты и проблемы нашей жизни здесь есть. К тому же обильно приправленные «каменной» мистикой и всякой чертовщиной.
Не герои фальшивы – весь мир подделка. И живет он по своим, пусть жестоким, но искусственно театральным законом. Здесь нет никому дела до реального горя, зато с охотой подают ряженным попрошайкам, потому как только фальшивое смотрится в этом ненастоящем мире подлинным. 2017 год – юбилей Октябрьской революции, люди обряжаются в белых и красных и, подчиняясь все тем же законом дурного театра, начинают с упоением в друг друга стрелять, что в результате приводит к государственному перевороту
«Люди живут ненастоящей жизнью», - вот это твердит нам автор, это главная мысль всей сложносколоченной конструкции, претендующей на звание современного русского романа.
просто по версии Славниковой, наш мир так устроен, ничего настоящего, реального в нем нет и быть не может. И тогда же становится понятно, почему «2017», провисев во всевозможных списках литературных премий, в итоге почти «под занавес» отхватил главную – «Русского Букера». Это роман о будущем, продолжающем настоящее, точнее прошлое, утопающее в событиях 1917 г.: по улицам города маршируют спецназовцы, «стягиваются суконные армейские части».
Это роман о любви... разной, двойственной, где есть страсть, разрушающая гармоническое состояние покоя, и простота, родственность, теплота человеческих отношений. Герой мечется, оказывается на перепутье своего нравственного состояния, в мечтаниях утомленного разума.
И если это 2017-ый год, то так тому и быть. И, если уральский дождь в финале сменяется московским мокрым снегом, жизнь продолжается, время продолжает свой бег и ускоряется стихийным карнавалом истории.
Герои романа живут как будто во сне, их черты размываются ореолом времени: «Она» в «невесомости» своих одежд и надежд, «Он» живет ощущениями своей души, не различая в ней пределы мыслимого. Герои романа живут, как если бы это была не жизнь, а фантазия - картина будущего, которая изначально заложена в человеческом разуме.
При попытке к сопротивлению
(эпоха в духе Л.Петрушевской).
“Много добрых дел делаешь
при попытке к сопротивлению”.
Л.Петрушевская
Прочитанная от корки до корки книга Людмилы Петрушевской “По дороге бога Эроса” (Москва, Олимп, ППП, 1993) способна всерьез повлиять не только на настроение, но и мировосприятие думающего читателя. Она состоит из пяти циклов, включающих в себя сорок пять рассказов. Самые короткие из них - двустраничные, самые “длинные” - чуть меньше сотни страниц. Разделы-циклы названы так: “По дороге бога Эроса” (4 рассказа), “Бессмертная любовь” (12 рассказов), “Реквиемы” (11 рассказов), “В садах других возможностей” (10 рассказов), “Монологи” (8 рассказов). Произведения, включенные в книгу (вышедшую кстати в серии ”My best” - “Мое лучшее”) написаны в разное время: от середины 50-х до конца 80-х годов, но даты написания их писательницей не проставлены. И это не небрежность автора, скорее рациональный умысел.
Нетрудно заметить, что все рассказы того или иного цикла строго - почти классически, без иронии и лукавства - объединены темой.
В первом разделе, давшем название всему сборнику (“По дороге бога Эроса”), это тема “случайной встречи”, переходящей со временем в “бессмертную любовь” или ставшей всего-навсего курьезом (“Али-Баба”). Во втором цикле темой разговора становится сама “бессмертная любовь” (именно так назван цикл), оставляющая о себе память: трагическую или юмористическую, раздражающую или примиряющую человека со своей жизнью. В “Реквиемах” речь идет уже как бы о воплощенной, часто в каких-то иррациональных формах, любовной памяти. В этом цикле собраны истории о тех, кто покинул земной мир, но не забыт близкими или просто случайными людьми. Есть, впрочем, среди рассказов из “Реквиемов” и примеры полного забвения чужой человеческой жизни. Особенно сильное впечатление производит самый коротенький “Смысл жизни” - о “заживо” похороненном в одной из экспериментальных клиник неизлечимо заболевшем молодом враче.
За печальными “Реквиемами” следует фантастический, в чем-то пародийный и озорной, но в то же время и по-настоящему философский цикл “В садах других возможностей”. Он соединяет в себе бытовое и потустороннее, собранные в него рассказы то смешат, то откровенно пугают.
Завершают книгу блистательные “Монологи”. В них - сгусток всего уже сказанного Петрушевской в других, более лаконичных произведениях (коротенькие рассказы - осколочки, большинство монологов - прежде всего “Свой круг” и “Время ночь” - “мазаичные”, дающие полное и острое впечатление о мире полотна), но вместе с тем это и прорыв в те сферы души и быта современного человека, которые до Петрушевской с такой проницательностью и пронзительностью почти не исследовались.
Первое, часто поверхностное чтение книги ”По дороге бога Эроса” способно либо оттолкнуть неопытного читателя, либо вызвать эмоциональный шок даже у закаленных знатоков литературы. Писательница видит изображаемый ею мир предельно отчетливо, подробно - “без прикрас”. Ее описания лаконичны и абсолютно беспристрастны. Петрушевская смело балансирует на грани дозволенного приличием, рискуя показаться циничной. Писательница, не стесняясь, заглядывает в самые неприступные тупики и лабиринты человеческих отношений, не отводит взгляда ни от телесных язв, ни от бытовой “грязи”.
“Какой ужас!” - только и подумает ошарашенный всеми “непристойными” или мистическими подробностями книги Петрушевской читатель - и отложит том в сторону. Но не торопитесь вынести наспех прочитанному категорический и строгий приговор. Не лучше ли вдуматься, перечесть еще и еще...
Людмила Петрушевская, как и многие деятели искусства эпохи конца 50-х - начала 80-х годов, из когорты дарителей света среди мрачного отчаяния современности. Эпоху эту справедливо было бы назвать “доперестроечной”, если бы такие, на первый взгляд, исторические термины не менялись и не устаревали бы в нашем многострадальном отечестве с молниеносной быстротой. И тем не менее время, отображенное Петрушевской в книге “По дороге бога Эроса”, конкретно узнаваемо. Нет точных исторических дат происходящих событий, но есть неоспоримость бытовых и психологических подробностей. Проза Петрушевской - возьму на себя смелость утверждать: увековеченный в отечественной литературе период советского “застоя”. Все, кто пережил его в сознательном возрасте, прочитав Петрушевскую, обязательно вспомнят не только тягостные бытовые реалии, но как бы вновь ощутят атмосферу духовного катастрофического удушья. Его, к несчастью, в той или иной мере испытали на себе все думающие люди - свидетели “застойной” эпохи вынужденного исторического безвременья.
Именно так, как описывает Петрушевская, “работали” во всевозможных безмерно расплодившихся столичных НИИ, болтали о пустяках или о смысле жизни в хмельных пивбарах. Так морочили голову не переводящимся в донжуанской судьбе инфантильные “сорокалетние” мальчики, так безрадостно и нервно ждали в однокомнатных “хрущобах” на скромный ужин и “воровское” счастье одинокие “милые дамы” своих любовников-зануд... Так “грелись” в одиноких холодных трамваях, умирали на сырых вонючих простынях в психушках, справляли свадьбы в пошлых “столовках”, страдали инфекционными заболеваниями в запущенных отделениях родильных домов... Так волокли по темным заснеженным улицам в переполненные детские сады орущих невыспавшихся детей... Так били “младенчиков” под горячую руку, оскорбляли в отупляющей суете самых близких... Так уходили из мира, не успев ничего толком понять, ни к чему по-настоящему не привязаться душою...
И все-таки... Все-таки главная тема Петрушевской - не безжалостное обвинение пошлого и жестокого мира, а поиск любви.
Не скроем, что это тема и всей русской классической литературы как прошлого, так и нынешнего, уже истекающего столетия. Она гениально открыта “Повестями Белкина” А.С.Пушкина и ждет своих интерпретаторов по сей день. Дань литературной традиции, в центр внимания поставившей судьбу “маленького” человека в равнодушном к нему мире, отдали Василий Шукшин и Александр Вампилов, Андрей Битов и Фазиль Искандер, Юрий Трифонов, Венедикт Ерофеев, Виктория Токарева, Булат Окуджава, Валентин Распутин...
Проклятые русские вопросы не дают покоя совестливой русской писательской душе. Петрушевская не исключение. Ее имя в ряду других талантливых имен... По примеру своих духовных учителей, а среди них, бесспорно, Достоевский и Вампилов, писательница отыскивает и воплощает тех еще живых или уже умерших, которые нуждались и нуждаются в “бессмертной любви”. Воспитанному в атеизме современному читателю Петрушевская напоминает (а может быть, и впервые открывает для него) смысл божьей милости, человеческого альтруистического участия, бессмертия душевных порывов. И это среди видимого хаоса людских пороков, заблуждений, предательства и безумств.
А между тем безумие “застоя” два-три десятилетия назад кому-то, может быть, даже большинству, казались нормой, более того - чем-то родным, естественным, неизменным. В те годы не все соотносили свои личные трагедии и проблемы с трагической судьбой Отечества. Мы часто не отдавали себе отчета в том, что всеми ощущаемое удушье (кому не хватает метров жилищной площади, кому аудитории для высказывания своих сокровенных идей) - это нехватка “кислорода” свободы, отсутствие элементарной бытовой культуры, перечеркнутая перспектива творческой деятельности... Уродливое время создавало нравственных уродцев: инфантильность - незрелость! - целого поколения давала о себе знать. Катастрофически снижался не только экономический, но и духовный уровень отношений в обществе. Страна все более и более походила на какое-то замкнутое, изолированное от цивилизованного мира пространство, своего рода “провинцию”, в которой “уродцы” привыкли к своему незавидному положению и не пытаются его изменить. Как не вспомнить уроки чеховской “Палаты № 6”, где ум и безумие меняются местами, в жизни торжествует абсурд, а интеллигенция тут не осознает своего нравственного предназначения - беречь, уважать и преумножать человеческое достоинство.
Среди своих наставников-современников Людмила Петрушевская неустанно называет Александра Вампилова. Именно он дал писательнице духовный ориентир, своего рода светящуюся точку надежды среди мрачного коридора одиночества и каждодневного человеческого несчастья. Точка эта - вера в живую душу. Петрушевской удалось не упустить этот “огонек” из вида даже тогда, когда заглянула она в самые страшные пространства “тоннеля”, куда Вампилов по каким-то соображениям заглядывать остерегся. Можно сказать даже, Людмила Петрушевская продолжила своего учителя так, как развили любимые (и даже потаенные) идеи Пушкина его ближайшие последователи - Гоголь и Достоевский.
Очевидно, высказанное предположение может показаться неправомерной “натяжкой”. Век минувший часто представляется нам в ореоле “святости”, “гениальности”, “неприкосновенности”. Мы не отдаем себе отчета в том, что на исходе уже двадцатое столетие. Не пора ли подводить и его духовные итоги? Дело не только в сравнении наших современников с именами и заслугами классиков, но и в том, чтобы понять, какие именно открытия в литературе совершили писатели ХХ века - в том числе и прежде всего вынужденные или добровольные заложники “цементирующего” творчество каждого из них метода “социалистического реализма”. Таких открытий не так уж много, но они с каждым новым поворотом истории становятся все очевиднее.
Имя Александра Вампилова сегодня не нуждается в представлении, защите и даже расшифровке скрытого за ним художественного значения. Иркутский драматург, успевший за свою недолгую 35-летнюю жизнь написать и опубликовать менее десятка пьес и сборник коротеньких рассказов и фельетонов, сегодня заслуженно признается основоположником целого литературного направления. Он острее других почувствовал то “типическое”, что определило на многие десятилетия вперед как поведение отдельного человека, так и нравственное (лучше сказать, бездуховное) состояние страны в целом.
Как классика воплотила и донесла до читателя общерусское явление, например, “обломовщины”, так Вампилов открыл всем нам “зиловщину” (вспомним знаменитую, трудно поддающуюся какой-либо единой интерпретации “Утиную охоту”).
Несколько пьес этого автора - целый художественный мир, легко выдерживающий сравнение с художественным миром Чехова и Юджина О’Нила, заставляющий вспомнить достойнейшие классические имена - Пушкина, Гоголя, Достоевского, Булгакова... Об этом сегодня написаны десятки диссертаций, в которых убедительно доказана связь драматургии Вампилова с художественной традицией русской классики.
Людмила Петрушевская идет вслед за своим учителем и, как было уже сказано, настойчиво проникает в те области духа и быта современной ей действительности, перед которыми Вампилов как бы остановился - в нерешительности или в раздумье? Постараемся прояснить сказанное.
Как и Вампилов, Людмила Петрушевская пишет не о каких-либо исключительных героях войны или трудовых пятилеток, а о людях из пестрой уличной толпы, не претендующих ни на что выдающееся. Персонажи “Старшего сына” или “Прошлым летом в Чулимске” - провинциалы, “герои” “По дороге бога Эроса” чаще всего коренные москвичи. Но это не меняет суть их существования внутри замкнутого мира не территориальной, а именно духовной “провинции”. Все они так или иначе находятся на периферии каких-то магистральных (если они вообще есть в мире) социальных и культурных потоков. И Вампилов, и Петрушевская пишут то, что можно привычно назвать “болотцем”. В конце 60-х оно только “подернулось” коварной зеленой “тиной”, в конце 80-х - отчаянно и уже абсолютно недвусмысленно “зацвело”.
Проза Петрушевской, как бы это ни показалось кому-нибудь из критиков-модернистов скучным и банальным, по-настоящему реалистична. Сгущение всего “дикого” и “ужасного” в ее коротеньких рассказах, повторюсь, шокирует. Но при этом нельзя не признать (или не почувствовать на интуитивном уровне, если речь идет о почти фантастических “Новых Робинзонах” или “Гигиене”), что все изображенное ею - правда. Это правдивость в лучших традициях русской демократической культуры. В ней узнается хватка последователей гоголевской “натуральной школы”. Та же оголенность факта и нерва, то же внешнее стремление к предельной очерковой объективности... Но при этом - разрывающее душу читателя сострадание к соотечественникам, запертым в клетку социальной безысходности, духовного бессилия.
При желании произведениям Петрушевской можно приписать и пророческое, и почти революционное значение. Но не будем спешить с выводами в духе “реальной критики” прошлого века.
Преждевременно культивировать “правдивость” прозы талантливой писательницы. Нельзя проигнорировать в ней несомненный игровой, иронический элемент. Творчество Петрушевской - всегда немного игра, похожая на “детскую страшилку”. Этого нельзя сказать о произведениях Александра Вампилова. Его пьесы чаще всего оказывались трагикомедиями, в них многое зависило от сюжетных комедийных приемов, но при этом Вампилов никогда не “играл” с читателем в конечном итоге. Его “розыгрыши” оборачивались либо нешуточной бедой одиночества (“Утиная охота”), либо обретением духовного братства (“Старший сын”). Вампилов не утрировал жизнь, не придавал ей очертание заведомо абсурдного фарса. Абсурдность угадывалась в предложенных им сюжетах. Она как бы прогнозировалась на будущие десятилетия. Если ничего принципиально не изменится, что ждет героев Вампилова? Как преодолеют они стену надвигающейся на них “провинциальной” бессмысленности? Не об этом ли задумываемся мы, не это ли предчувствуем, и когда вчитываемся в известные пьесы Чехова - “Иванов”, “Три сестры”, “Дядя Ваня”...
Творчество Петрушевской по праву называется критиками “поствампиловским”. Бессмысленность как быта, так и бытия становится уже как бы сама собой разумеющейся. Тупик не только угадывается, в него уже, если можно так сказать, давно и прочно уткнулись лбом. Что делать? В слепом порыве разбивать о “стенку” голову? Сходить с ума? Где выход?
И вот тут на помощь приходит прием детской игры или легкого намека на него. Каждый отдельно взятый рассказ Петрушевской может ошеломить своей беспросветностью, но учет соседствующих рядом рассказов или просто прорывающаяся чуть заметно ирония названия, финала, мимоходного авторского замечания позволяет не только “не свихнуться” от ужаса, но даже и улыбнуться.
Рассказы Петрушевской из книги “По дороге бога Эроса” (не говоря уже о полном ее творческом багаже - пьесы, сказки, поэмы и др.) заставляют вспомнить озорство одареннейшего “Шута” Даниила Хармса. Петрушевская в меньшей степени смешит читателя чистыми парадоксами и анекдотиками, но она порой достигает той степени остроты и внешней “циничной” бесстрастности, что основной формой защиты, своего рода проявлением инстинкта самосохранения может стать только смех.
Не случайно неопытные (чаще всего молодые, или напротив, пожилые люди) теряются при оценке таких рассказов, как “Медея”, “Гигиена”, “Луны” и т.д. Мучительно сопереживать или смеяться? Верить всему или принять рассказанное за лукавый розыгрыш?
Даниил Хармс смеялся в условиях, когда смеяться было практически невозможно или крайне опасно. Он доводил все окружающее его до полного абсурда. Это был смех над пропастью как безрассудное, но гениальное игнорирование ее. Петрушевская тоже фиксирует пустоту, отсутствие перспективы (самый пронзительный рассказ “Смысл жизни”), по сути “живую” смерть. И смех возможен уже не как исправление нравов (на это вслед за Гоголем, может быть, надеется Вампилов), а как реакция - просто так, нервы не выдерживают, не плакать же сверх отпущенной самой природой меры.
Примеры, подтверждающие вышесказанное, могут быть взяты из любого рассказа. Пересказ каких-либо парадоксальных или ошеломляющих эпизодов, боюсь, станет не только затянутым, но и малоубедительным. Особенность прозы Петрушевской в том, что каждый ее короткий рассказ (а именно они отвечают отмеченной характеристике - “шок”, вызывающий и ужас, и смех) воспринимается только целиком и достоин полного цитирования.
Ирония Петрушевской - тема специального исследования. Ограничимся лишь тем, что отметим ее, не упустим из виду при разговоре о действительно глубинных достижениях самобытной прозы.
Литература помогает людям осмыслить время, в которое им выпало родиться. Мысль эта, что и говорить, не нова. Может быть, острее ощущаешь ее в те периоды, когда влияние писателей на самоопределение нации как бы затухает. Сегодня нет того художественного имени, которое бы приковывало к себе внимание именно высказанной вслух правдой - “о времени и о себе”. Запоздавшее увлечение абсурдизмом, экзистенциализмом и рок-искусством не стало шагом в понимание того, что же со всеми нами в конце концов происходило и происходит. Ни литература, ни кинематограф последнего десятилетия в полной мере не отразили состояние современного нам мира. Этим и объясняется потребность вернуться к открытиям недавнего прошлого, которая в силу крутых исторических перемен стала для нас уже целой ушедшей эпохой.
Еще одна неустаревающая истина: понять мир - это понять и каждого отдельного человека. Литература “доперестроечного” периода оказалась значительной именно потому, что обратилась к судьбе человека. А каково всем вместе и каждому в отдельности в этой непростой измученной вечными вопросами и конкретными житейскими проблемами стране?
Каково мужчинам, женщинам, старикам, детям? Да, именно к такому делению нашего народонаселения мы привыкли. Все мы - люди какого-то усредненного социального, культурного, политического опыта. Многое - шансы на образование, культуру, профессию, социальное обеспечение (или отсутствие всего этого в силу каких-либо причин) у нас уже по конституции было одинаково. Остается отличать друг друга хотя бы по половому или возрастному признаку. Но и здесь границы стали стираться. Всем знакомы наши проблемы - безвольный “он” или не в меру самостоятельная “она”, наивные старики и рано повзрослевшие в семейных скандалах дети.
Литература “застоя” зафиксировала странноватую для неподготовленного к нашим условиям человека разбалансированность общества и как отражение этого - чудовищную дисгармоничность внутреннего мира человека, нелепость отношений: служебных, дружеских, семейных, соседских...
Все это с удивительной проницательностью открыл для нас прежде всего Александр Вампилов. В его пьесах и внешние (часто водевильные) и внутренние (глубоко драматические, даже трагические) конфликты причудливо переплетаются. И пьесы приобретают вид чуть искаженной, сдвинутой модели реального мира. Возникает эффект, близкий по сути к эффекту кривого зеркала. О норме можно догадаться, но она обидно искажена, почти уродлива. В таком “зеркале” сильный, здоровый 27-летний человек, инженер по образованию, выглядит уже “живым покойником” с траурным венком на шее с иронической надписью: “Сгорел на работе”. Речь, конечно же, о Викторе Зилове из “Утиной охоты”.
Другой, 35-летний, не лишенный остроумия и мужского обаяния следователь смотрится уже глубоким стариком, мечтающем только о скорой и безмятежной пенсии. Таков Шаманов из последней вампиловской пьесы “Прошлым летом в Чулимске”. А в самой первой его комедии “Прощание в июне” симпатяга студент-отличник Николай Колесов вдруг обернулся расчетливым эгоистом, ничуть не хуже наипошлейшего спекулянта и взяточника Золотуева.
Современные мужчины (позволим себе все-таки такую градацию, осознавая всю ее ненаучность) долго не решались узнать в пьесах Вампилова самих себя. И только когда открытия уже ушедшего из жизни драматурга стали достоянием - на грани плагиата - кинематографа (“Полеты во сне и наяву”, “Осенний марафон”), в один голос признали повсеместную узнаваемость “зиловского типа”. “Зиловщина” становилась явлением. Хождение в искусстве получил человек, подсмотренный в самой жизни - без нравственного стержня, одновременно “плохой” и “хороший” в глазах окружающих его людей, лишенный настоящей мужской судьбы, вынужденно и легкомысленно растративший себя на пустяки, “пошляк” поневоле, “лишний человек” - по духовной российской традиции.
Зилов - самое значительное открытие Вампилова. Таких “героев” в русской литературе немного, но каждый этапен: Онегин - Печорин - Обломов. Их антиподы: Базаров - Рахметов - Штольц - Павел Власов.
Зилов - последняя убедительная точка в создании галереи мужских литературных типов. И противовеса ему в современном искусстве еще, похоже, не создано.
Людмила Петрушевская не превзошла Вампилова в проницательности взгляда на современника-мужчину. В какой-то мере она лишь ужесточила удар по мужскому самолюбию. Писательница умеет быть беспощадной. Книга “По дороге бога Эроса” открывается рассказом “Али-Баба”. Героиня этой достаточно банальной в то время ситуации (спившаяся, не без культурных запросов дамочка) ищет черты своего избранника в законченном алкоголике, больном и безвольном человеке, сохранившем внешние черты вполне порядочного человека: один поношенный финский костюм чего стоит! Рассказы Петрушевской пестрят псевдогероями-неудачниками. Писательница почти не дает им шансов на перемену их судьбы к лучшему. Но иногда - и это принципиально! - чисто по-женски жалеет бедолаг, смотрит на них глазами своих героинь - ищущих среди пошлости, скуки и грязи свою единственную бессмертную любовь (“Бал последнего человека”, “Смотровая площадка”, “Грипп” и др.)
О созданных Петрушевской женских образах стоит поговорить особо. Здесь она как будто поменялась местами с Вампиловым. Если в изображении психологической и социальной “мужской” драмы лидирует он (Петрушевская лишь повторяет азы, часто их даже не развивая), то “женская” трагедия понятнее и очевиднее для нее самой. Вампилов лишь намекнул на неотвратимо безрадостную судьбу своих соотечественниц. Он указал на зависимость современной женщины от романтической мечты о счастливой любви и реальную невозможность полноценно воплотить желаемое в действительности. В лучшей своей пьесе “Прошлым летом в Чулимске” писатель обратился к истокам вечной женской драмы: опрометчивости женского сердца и горькой расплаты за нее. Сюжетная линия Валентина - Шаманов (она признается ему в своем чувстве, он “охлаждает” ее пыл и чуть не губит этим) отдельно напоминает известнейшую интригу и ее поэтическое толкование из пушкинского “Евгения Онегина”.
О женской судьбе иркутский драматург сказал, может быть, скупее, чем о мужской, но при этом по-вампиловски остроумно и точно. Неслучайно сыграть в спектаклях по его пьесам Нину или Макарскую (“Старший сын”), Галину или Ирину (“Утиная охота”), Викторию (“Провинциальные анекдоты”), Таню (“Прощание в июне”) и, наконец, пронзительную Валентину из “Чулимска” до сих пор является большим испытанием даже для опытных актрис.
Людмила Петрушевская не просто касается “женской” темы, она царствует в ней!
Есть в ее коротеньких рассказах то, что безмерно трогает. Это вера в “чудо” любви. Прием (часто чисто интригующий) знаком нам и по произведениям популярнейшей Виктории Токаревой. Книгами этой писательницы многие зачитываются и сегодня. Нет смысла серьезно сравнивать Петрушевскую и Токареву. При схожести многих внешних черт их художественное видение мира полярно. Токарева светла и лирична, как бы изначально миролюбива. Петрушевская рискует показаться, и даже остаться, в глазах читателей злой и разрушительной. “Чудо” в мире героев Токаревой - часто ничем серьезным не мотивированный поступок чудака-человека (показателен ее известный рассказ “Зигзаг”). “Чудо” у Петрушевской - явленная усталой, но не изверившейся душе благодать. И благодать эта - действительное, а не иллюзорное родство душ. Проза Петрушевской духовна. И опять нельзя не вспомнить Александра Вампилова, герои которого страдали и мучились прежде всего от неосознанности в себе именного духовного начала. Все они - и мужчины, и женщины, даже душевно утонченная Валентина, - не осознают источника искомой радости или покоя. Они бьются как рыба об лед в желании обрести-таки душевную гармонию, но - увы! - тщетно. Только интуиция способна обратить их к природе - ее тишине и первозданности. Но даже природа - не утешитель для мытарствующих душ вампиловских “зиловых”, “шамановых”, “колесовых”. Героини же его пьес, утратив надежду на счастье, оказываются на грани пугающей душевной пустоты. И спасительной чаще всего оказывается только воля.
Конечно, воля - источник мужества и героинь Петрушевской. Но некоторые из них одарены еще и “шестым” чувством - чувством бессмертия (тип Пульхерии из “По дороге бога Эроса”).
Писательница отдает себе отчет в том, что современный человек из “метро” и “трамвая” чаще всего воспринимает себя и воспринимается окружающими как “песчинка” даже не мироздания, а груды отработанного мусора. При желании из цитат из рассказов книги “По дороге бога Эроса” можно создать полноценный “ад”, в котором бьется хиленькая человечья душа, не умеющая, не смеющая, но все же пытающаяся себя назвать и выразить.
Зная о “ловушках” бездуховности - ее порочности, ограниченности и тленности - Петрушевская сосредоточенно, без скидок на сентиментальность приближается к тайне духовного бессмертия.
Секрет этот оказывается простым. Писательница невольно обращается к некой иррациональной силе, возвращающей заблудших и слепых людей “на дорогу бога Эроса”. Именно “бессмертная любовь” внушает одиноким сердцам нежность, лечит озлобленные души, возвращает влюбленных друг другу, разрушает коварные планы недругов. Эта таинственная сила иногда подвигает человека на совершение внешне нелепых и неожиданных для самого себя поступков.
Смысл книги Людмилы Петрушевской - в страстном утверждении бытия, организованном по законам “бога Эроса”. Эти законы внятны тем, кто таит в себе “ангела-хранителя”, оберегающего от скверны, суеты, забвения, смерти. Программным рассказом Петрушевской можно считать новеллу “По дороге бога Эроса”. Среди праздной и пошлой суеты московского интеллигентного круга возникает “чудо” настоящего чувства: незаметной, хранящей в своей душе “ангела” Пульхерии к мужу своей сотрудницы - страдающему шизофренией научному ”гению”, который в глазах любящей его женщины выглядит просто “мальчиком”, ушедшим в высокие миры существом, прикрывшимся для виду седой гривой и красной кожей.
Любящий взгляд преображает человека. Ключевыми для всей книги Петрушевской словами может стать восклицание, обращенное героиней рассказа “Гость” к своему странноватому знакомому, как часто у Петрушевской, талантливому неудачнику: “Вы ведь были прелестны, если бы не ваши щеки, не надо так пить, Толя! Это вас старит, вы не должны стариться, как бог Эрос”.
Сама попытка рассуждать о бессмертии, не беря это духовное понятие в осторожные кавычки, уже смела и обнаруживает зрелость художника. Петрушевская берется за трудную работу: она вновь и вновь напоминает живущим в духовном “вакууме” людям о существовании другой системы ценностей, иного представления о красоте или долге.
В известном смысле художественное откровение Людмилы Петрушевской могут напомнить творческий метод самого Михаила Булгакова. Отсюда не может не потянуться ниточка к традициям Гоголя - мастера мистического сюжета. Как и эти достойные писатели, Петрушевская пытается совместить в какой-то одной социально-нравственно-духовной модели современное и вечное. Она тоже стремится к универсальному видению мира, ее интересует сферическое, а не плоскостное изображение людей и событий.
Вспомним знаменитую гоголевскую “Шинель”. В ней Акакий Акакиевич одновременно воспринимается автором и читателями как прозаический мелкий чиновник и загадочный иррациональный фантом. С ним случается как реальная, так и фантастическая история. В его судьбе играют роль как люди, так и Бог. В “Шинели”, как известно, несколько планов изображения. Пятидесятилетняя жизнь чиновника укладывается в несколько предельно насыщенных бытовой информацией абзацев; чуть больший объем повести посвящен сюжету о пошиве шинели, и, наконец, самое важное для Гоголя сказано в последних стремительных страницах: история кражи шинели, гибели чиновника, посмертного фантастического мщения.
В какой термин укладывается гоголевская проза? Критический реализм? Фантастика? Романтизм? Оставим споры об этом солидному литературоведению. Согласимся лишь с тем, что в “Шинели” Гоголя заключена тайна сосуществования двух (двух ли?) миров в одном случаем (в данной повести - морозцем) спровоцированном сюжете.
Не менее Гоголя таинственны “Повести Белкина” А.С.Пушкина. И в них - попытка создать единую “модель” русской жизни, где переплелись судьба, воля, история, божественное и демоническое, смешное и трагическое, мгновенное и непреходящее.
Тайна, к которой осторожно приближался Пушкин (особенно в “Пиковой даме”, “Метели”, “Гробовщике”, “Капитанской дочке”) и менее осмотрительно - Гоголь (ею отмечено все его художественное творчество), имела гениальное истолкование у Достоевского, Булгакова... Отсутствие “тайны” (а это стало возможным с укоренением атеистического сознания) отмечена замечательная проза Чехова. В - ней зримое отсутствие “сферы” бытия, она ориентирована на изображение бытового поведения и мышления людей. Чеховские герои много страдают. И суть этого страдания - в отсутствии все того же кислорода “духовности”, обреченность жить в “плоскости” нормальных бытовых обязанностей. Осуществится мечта чеховских трех сестер: приедут они, наконец, из провинции в Москву... Счастья от этого, увы, не прибавится. И столица, и провинция одинаково бездуховны, сугубо реалистичны и потому прежде всего скучны. “Скучная история” - гениальная визитная карточка А.П.Чехова. Все, изображенное в ней, узнается и переживается интеллигентом-атеистом и по сей день.
Литература советского периода ориентирована на материалистическое (более того, историко-материалистическое) учение. Она не загадывала читателю загадок, в ней принципиально отсутствовала “тайна”. Признаком хорошей прозы становится в идейном и художественном смысле ясная (в читательской оценке - понятная) литература. Философское содержание постепенно сводится либо к нулю (заменяется чуть ли не производственным, псевдоэкономическим), либо крайне примитивизируется (явление вульгарного социологизма, материализма и т.д.). Книги становятся прямолинейно идеальными, но при этом лишенными смысла, то есть общей, а не конкретно-утилитарной идеи жизни.
Конечно, не все писатели попадают под сильное идеологическое давление. Больше того, отечественная литература сильна как раз сопротивлением старательно культивируемой бездуховности (в частности безрелигиозности: церковь отделена от государства, коммунистическая духовность практически не прививается, остается достоянием одаренных личностей). Кто же из писателей более других отстаивал право на свободу проявления творческого духа? Кто следовал урокам классики не только в социально-нравственном (но нравственность классики не отрывали от христианства), но и в духовно-религиозно-мистическом плане?
Безусловно, Михаил Булгаков. Его творчество неслучайно произвело ошеломляющее впечатление на молодежь. Все изображенное мастером представлялось просто “чудом”. А ведь “чудо” Булгакова основано на верном писательском чутье: он воспринял уроки своих предшественников - Пушкина и Гоголя - как они были преподаны, а не как скорректированы политическим режимом.
Литература предперестроечного периода стремительно искала выход из “тупика”, предложенного ей идеологией. Все чаще, все настойчивей звучат мотивы веры у писателей-”деревенщиков”, к истокам народной мудрости обращается ценитель притчи Ч.Айтматов.
Художники дорожат уже не только правдой как достоверностью изображения, их волнует истина.
У Александра Вампилова истина предчувствуется. И герои, и читатель, и сам автор находятся как бы в преддверии ее. Прислушаемся к мнению маститого Виктора Розова (его талантливые пьесы отразили “плоскостной” мир социалистической Москвы, одухотворенный, однако, высокой коммунистической духовностью): “К сожалению, пьесы Вампилова чаще всего ставят как бытовые. А они не бытовые. Они поэтические, то есть с загадкой, с тайной, я бы даже сказал, с инфернальностью, если бы это слово не истолковывали мистически. Впрочем, всякое истинное творчество - колдовство”. Ценное признание одного из крупнейших соцреалистических (в настоящем смысле понятия) творцов.
Вампилов загадал загадку о человеческой душе того нормального человека, который привык и приучен без представления о душе жить, страдать, умирать... Петрушевская взялась заявленную им “тему” истолковывать, расшифровывать, развивать. Она бесстрашно вторглась в область ирреального. Этому посвящены циклы рассказов “Реквиемы”, “В садах других возможностей”, намек на иррациональное движение сюжета есть и в других представленных в книге “По дороге бога Эроса” разделах.
Подробный анализ мистических рассказов Л.Петрушевской, может, был бы и уместен. Он помог бы глубже увидеть сами “механизмы” движения человеческих судеб в сюжете современного бытия. Ценны и те аллегорические обобщения, которые позволяют сделать такие рассказы, как “Новый Гулливер”, “Гигиена”, “Смысл жизни”, “Новые Робинзоны”, “Луны”... Нельзя не увидеть во многих произведениях социально-разоблачительного почти сатирического подтекста (он по-своему силен и в “Шинели” Гоголя, и в “Гробовщике” Пушкина, и в “Собачьем сердце” М.Булгакова).
Но не важнее ли принять весь “мистический” цикл сборника “По дороге бога Эроса” как некую данность и позволить ему остаться в нашем сознании наваждением, сном, призрачным очертанием труднодоступной истины.
“Реквиемы” - цикл рассказов, объединенных одной неизбывной мукой: что оставляет после себя человек? Кто помнит его? Кто виноват в его земных страданиях? Петрушевская внешне бесстрастно описывает различные варианты ухода людей из жизни: преждевременная смерть от неизлечимой болезни, трагическая случайность, самоубийство, смерть по старости... Что за гранью ухода? От “Реквиемов” веет нешуточным страхом, есть что-то сверхъестественное в рассказах о том, как, например, к неверному в супружестве мужу является душа его недавно скончавшейся жены и говорит простое и бесценное: “Я тебя люблю”. Муж после такого визита забывает все свои “проказы” и посвящает себя осиротевшему дому (“Я тебя люблю”). Смущает душу рассказ о смерти страдающей половым извращением некой В.Н., ни в чем по сути не повинной перед теми, кто испытал на себе ее болезненное внимание (“Кто ответит”). Тягостным предчувствием беды остается в памяти рассказ о странном ночном госте, тяготящемся своим земным существованием (“Гость”). Шокирует сбивчивая исповедь шофера такси о своей вине перед женой-шизофреничкой, во время приступа убившей дочь (“Медея”). Кто помнит “даму с собачкой”, шумную, всегда и всем надоедающую своими замечаниями особу (“Дама с собачкой”).
Читаешь Петрушевскую - и ощущаешь свою беззащитность перед неумолимостью жизни и смерти. И полнее от этого невольного страха и смущения осознаешь ответственность и за себя самого, и за тех, кто рядом.
Есть ли спасение среди ужаса осознания конечности земного существования? Петрушевская настойчиво обращается к любви.
Рассказы из цикла “В садах других возможностей” - о спасении людей в самых невероятных обстоятельствах. На помощь отчаявшимся приходят умершие родственники, друзья - любящие души. И тогда открываются “другие возможности” общения людей. В экстремальных ситуациях человек в полной мере испытывает то, к чему по предназначению способна его душа. Иной мир (часто это, действительно, рай - его воплощения различны) оказывается щедрее реального, он вознаграждает человека покоем и нежностью (“Бог Посейдон”, “Два царства” и др.).
Назвать книгу Л.Петрушевской “По дороге бога Эроса” в полной мере философской, наверное, трудно. В ней предпринята попытка осмыслить законы жизни и смерти, которыми руководствуется современный мир. Писательница невольно выходит на “вечные” темы и берется утверждать, что смерть происходит от недостатка любви, любовь - живая нить жизни. Равнодушие или тупая злоба - шаг к смерти без воскрешения.
В цикле “Монологи” собраны рассказы и повести большой художественной силы, позволяющие судить о Петрушевской как о художнике зрелом и самостоятельном.
В “Монологах”, запоминающихся множеством этапирующих подробностей интимных переживаний соседей по лестничной клетке (“Такая девочка”), жесткой реальности “инфекцированного” отделения родильного дома (“Бедное сердце пани”), экстравагантной судьбы одинокой авантюристки (“Слабые кости”), главным оказывается все-таки не “шоковая терапия” ужасами и бедами быта, а мотив христианского смирения и христианской любви. Это важный поворот в общем сюжете книги.
Похоже, Петрушевская ощущает духовную потребность оценить поступки людей с позиции христианского миропонимания. Все более и более проза ее начинает напоминать уроки Ф.М.Достоевского. Писательница видит: людьми утрачено что-то очень существенное - божественная природа отношения к себе и другим. И все-таки Бог не оставляет людей, его незримое присутствие сказывается в их терпении, доброте.
На первый взгляд, героинь Петрушевской трудно даже заподозрить в милосердии: они грубы, крикливы, истеричны, легкомысленны. Их жизнь - сущий ад (“Свой круг”, “Время ночь”). Но вот среди нечеловеческой “карусели” тщетных забот о хлебе насущном усталые матери совершают какой-то единственно верный шаг по спасению тех, кто нуждается в их любви и защите.
Петрушевская - жесткий, не традиционный в своих ракурсах и оценках художник. Проявление доброты ее героинь носит подчас парадоксальный характер. Не каждому читателю понятны, например, поступки героини повести “Свой круг”. На глазах своих вероломных друзей она за ничтожную провинность избивает в кровь маленького сынишку. Женщина (повествование ведется от ее лица и имя ее не упоминается) знает, что неизлечимо больна. Отец ребенка ушел из семьи к ее лучшей “подруге”. Он не любит и стыдится мальчика. На что обречен малыш? Мать устраивает “кровавый фарс” с избиением “младенца”, чтобы пробудить жалость в отце и его “дружках”. Спектакль удался. Мальчика берут на воспитание “друзья” дома. Они потрясены жестокостью матери и готовы проявить милосердие. Читатели замечают добрую реакцию чужих людей, но для Петрушевской важен поступок самой героини. Она сделала для своего сына все, что было в ее силах и может “спокойно умереть”. Надежда на прощение и понимание мальчика ее невиновности перед ним в будущем. В один из пасхальных дней показывает ему дорожку к могилкам бабушки и дедушки. Может, любовь приведет его когда-нибудь и к ней, похороненной рядом с ними?
Даже скупой пересказ интриги этой повести дает представление о ее нравственной и реалистической силе. В “Своем круге” сильна тема “ребеночка”, “младенчика”, так характерная для Ф.М.Достоевского.
В страшном мире не перестают появляться на свет беззащитные дети. Само их присутствие рядом со взрослыми, измученными болезнями и стрессами, уже спасительно. Дети рождаются от мужей-подлецов, их воспитывают истеричные матери, бабушки-”доходяги”, беспощадная улица. Малыши растут среди диких скандалов, голодают, переживают свою заброшенность и покинутость в родном доме. Кажется, еще мгновение, и может навсегда погаснуть свет надежды, истлеть свеча жизни. Петрушевская умеет довести ситуацию до крайности (“Время ночь”). Но удивительно - самого страшного не происходит. Жизнь часто висит на волоске, но волосок этот - живая душа. И проявляется она прежде всего в творчестве.
Наверное, неслучайно героиней повести “Время ночь” становится профессиональная писательница Анна Андриановна. В ней воплощено много: и истерическая усталость от житейского ада (дочь-неудачница, сын-преступник, требующие заботы внуки, психическая болезнь матери) и творческая одаренность вопреки этому “кошмару” (ночные литературные занятия - “свидания со звездами и Богом”).
Повесть “Время ночь” могла бы стать самым безысходным финалом книги “По дороге бога Эроса”, если бы в ней не жила все та же вера в спасительную нить “бессмертной любви”.
Русская классика завещала не обойти вниманием “маленького человека”. Он разный: смиренный (“Станционный смотритель”) и посмертно бунтующий (“Шинель”), поэтичный (“Бедные люди”), деспотичный (“Село Степанчиково”), опасный (“Человек в футляре”), зарвавшийся (“Собачье сердце”). Он - разный, но он воплощает собой сердцевинную - “провинциальную”- судьбу России.
“Все мы вышли из гоголевской “Шинели”. Эта фраза, приписываемая Достоевскому, не просто красива, она - пророчество. И Акакия Акакиевича особенно жалко, пожалуй, не потому, что его ограбили безымянные злодеи. Она запоминается своей беззащитностью, сбросившей на пол его новенькую шинель в прихожей более благополучного сослуживца. Пренебрегли. Не заметили его присутствия... (Нельзя не вспомнить гоголевскую “Шинель”, читая, например, “Дядю Гришу” из “Бога Эроса”.)
Разглядеть момент присутствия человека в мире - вот скромное предназначение отечественной литературы. Людмила Петрушевская владеет тайной незаметных “невидимых миру слез”. Она же не забывает напомнить нам о сокровенной надежде на то, что все мы в нашей печальной стране привыкли называть “счастьем”.