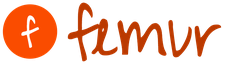Набоков гоголь краткое содержание. Трактовка литературного творчества гоголя по набокову
Барабаш Ю. Я. (Москва), д.ф.н., старший научный сотрудник ИМЛИ РАН / 2005
Союз «и» в названии этой статьи может показаться не вполне уместным. Такая конструкция обычно предполагает, что предметом внимания будет сопоставление творчества двух авторов, анализ влияния (или отталкивания), реминисценции и т. п. Но этого здесь нет. Прежде всего потому, что, по словам самого Владимира Набокова, как писатель он «не вяжется» с Гоголем: «Отчаявшиеся русские критики, трудясь над тем, чтобы определить Влияние и уложить мои романы на подходящую полочку, раза два привязывали меня к Гоголю, но поглядев еще раз, видели, что я развязал узлы и полка оказалась пустой». Третью попытку предпринимать вряд ли стоит...
К тому же, в данной статье рассматриваются лишь суждения Набокова в его книге «о» Гоголе (это часть лекций по русской литературе, прочитанных писателем в 40-е годы американским студентам).
Дело, однако, в том, что книга эта не только «о Гоголе», но и — по крайней мере, не в меньшей степени - «о Набокове». О Набокове, читающем Гоголя. И трактующим его. Это не жизнеописание, не исследование, это глубоко субъективное самовыражение «через» Гоголя. Самоотражение в гоголевском зеркале. Литературное credo, облеченное в форму интерпретации.
Вот почему все-таки «и».
Тут важно вспомнить, что этот самый союз «и» в русском языке какие только функции не выполняет - соединительную, перечислительную, уступительную - несть им числа. Но в рассматриваемом случае он выступает только в одной и совершенно определенной функции - противительной. То есть, согласно ушаковскому Толковому словарю, указывает на нечто, «не вяжущееся по смыслу с предыдущим». Прямой pendant к замечанию Набокова, что он «не вяжется» с Гоголем...
Книга Набокова «Николай Гоголь» - книга-отталкивание. Рывок из гравитационного поля «Влияния». Дерзкая попытка Мастера ощутить себя равным Гению... В свое время Сергей Залыгин во вступительной заметке к журнальной публикации книги Набокова заметил, что это не что иное, как «его столкновение с Гоголем - своим антиподом».
Это проявляется уже на уровне сугубо человеческом, личностном, где доминирует едва скрываемое, впрочем, и не скрываемое вовсе, вполне откровенное неприятие.
Набокову неприятен даже внешний облик Гоголя, он целиком разделяет то чувство брезгливости, которое, по его словам, испытывали соученики по гимназии к этом «дрожащему мышонку с грязными руками, сальными локонами и гноящимся ухом», вечно объедавшемуся сладостями. А каким видится ему писатель на известном дагерротипном портрете, сделанном в Риме в 1845 году? Поразительна приметливость набоковского глаза, схватывающего каждую мелочь: например, трость с костяным набалдашником Гоголь держит в тонких пальцах правой руки - так, как держат писчее перо. Но это одна из немногих нейтрально описанных деталей. Другие, как правило, отмечены явственной печатью антипатии: «неприятный рот», обрамленный «тонкими усиками», «нос, большой, острый, соответствует прочим резким чертам лица», темные тени под глазами, придающие взгляду затравленное выражение. Еще сюртук с несколько, пожалуй, излишне широкими лацканами; еще «франтовской жилет», к которым Гоголь с молодых лет питал слабость... И вот самый обыкновенный, право же, неплохой портрет обретает какой-то зловещий и уж во всяком случае отнюдь не привлекателный характер: «И если бы блеклый отпечаток прошлого мог расцвести красками, мы увидели бы бутылочно-зеленый цвет жилета с оранжевыми и пурпурными искрами, мелкими синими глазами; в сущности он напоминает кожу какого-то заморского пресмыкающегося».
Даже в картине предсмертных мучений Гоголя, в связи с которой в памяти невольно возникает проникнутая отчаянием последняя запись из дневника Поприщина («Боже мой! что они делают со мной! Они не внемлют, не видят, не слушают меня»), - даже здесь нелегко уловить грань между жалостью и иронией, искренним состраданием и той холодной тщательностью, с которой изображаются отталкивающие подробности. «Жалкое, бессильное тело», затискиваемое в глубокую деревянную бадью...Иссохший живот, через который можно прощупать позвоночник, а ведь это - «предмет обожания в его рассказах»; еще не так давно, не забывает подчеркнуть Набоков, «никто не всасывал столько макарон и не съедал столько вареников с вишнями, сколько этот худой малорослый человек». И конечно же - гоголевский нос: сейчас с него свисает полдюжины отвратительных жирных пьявок, то и дело лезущих больному в рот, вообще же он всегда был «самой чуткой и приметной чертой его внешности». Благодаря длине и подвижности носа Гоголь якобы мог его кончиком «пренеприятно доставать... нижнюю губу» и без помощи пальцев проникать в любую табакерку...
Словно забыв, чтто разговор происходит у постели умирающего, Набоков с увлечением погружается в поток реминисценций и ассоциаций, касающихся человеческого носа вообще и «обонятельных склонностей Гоголя» в частности. Предлагается теория, согласно которой нос Гоголя - это «герой-любовник», лейтмотив и символ его творчества. Позднее Набоков даже предложит издателю дать в книге вместо портрета Гоголя «портрет» его носа: «Большой, одинокий, острый нос, четко нарисованный чернилами, как увеличенное изображение какого-то важного органа необычной зоологической особи». Приводятся те места из гоголевских произведений, где с особым смаком описываются «запахи, чиханье и храп», и вообще всячески обыгрывается все, что так или иначе связано с носом. Вспоминаются «Повесть Слокенбергия» Стерна и знаменитый гимн носу из ростановского «Сирано де Бержерака», однако предпочтение отдается русским шуткам, пословицам, поговоркам, заковыристым фразеологическим оборотам...
Поскольку пьявки, свисающие с ноздрей умирающего Гоголя, уподобляются чертям, тема носа в изложении Набокова естественно смыкается с темой черта. Мы узнаем немало подробностей о том, как панически боялся и как ненавидел Гоголь все, в чем видел ипостась сатаны, - «слизистую, ползучую, увертливую тварь» или «выгнутую спину худой черной кошки», как однажды в Швейцарии целый день провел, убивая выползающих на солнце ящерц своей элегантной тростью с костяным набалдашником («...С брезгливостью хохла и злостью изувера». - добавит, вспоминая эту сцену, герой романа «Дар» - alter ego Набокова).
Все это написано с присущим Набокову литературным блеском, мастерством и не лишено интереса для тех, кто не знает или запамятовал, что «носологическая» тема рассмотрена в широком литературном контексте молодым В. Виноградовым в самом начале 20-х годов прошлого века, а о черте у Гоголя еще раньше писал Д. Мережковский. Впрочем, для тех, кому Набоков читал свои лекции, сказанное им и впрямь было внове.
Столь же - если не более - «противительно» отношение Набокова к психологическому облику Гоголя, к некоторым чертам его характера, манере поведения и общения. Из переписки Гоголя, писем и воспоминаний родных, близких, знакомых - добрых или случайных, из шепота любителей слухов и сплетен, щедро разбросанных по страницам книги В. Вересаева «Гоголь в жизни», ставшей для Набокова главным источником сведений, он отбирает факты и примеры, показывающие писателя в неблагоприятном свете. Вот странное, путаное письмо к «дражайшей маминьке» с просьбой о присылке денег и фантастическим рассказом о роковой любви - и Набоков, не скупясь, целиком цитирует этот «образчик витиеватого и и бессовестного вымысла», ярчайший пример неискренности и позерства. Вот другое письмо: тяжело переживающий утрату жены Погодин выслушивает гоголевские назидания по поводу его, Погодина, недостатков, весьма печаливших покойницу при жизни, и первым из таких недостатков названо... «отсутствие такта». «Соболезнование, единственное в своем роде», - не упускает случая жестко прокомментировать Набоков.
Что тут возразишь? Всегда горько замечать слабости человеческие в том, перед чьим гением мы преклоняемся. Как хотелось бы, чтобы облик Гоголя не омрачался для нас ничем, ни малейшей тенью, ни единым диссонансом, но - увы - гармонии, душевного равновесия, прозрачной ясности действительно не было в этом человеке. И право комментатора видеть это и говорить об этом прямо. Согласимся, однако, что и я, читатель, не лишен вовсе прав, и главное из них - право на знание все полноты правды о великом человеке, а не произвольно скомпонованных «выбранных мест» из его биографии.
Разве не достойно сожаления, что, уделив столько внимания злополучному письму, в котором молодой Гоголь правдами и неправдами выпрашивает у матери полторы тысячи, Набоков умалчивает о том, что Гоголь отказался от своей доли отцовского наледства в пользу матери и сестер и всю жизнь проскитался с дорожным чемоданом по чужим краям и чужим углам, вечно испытывая унизительную нужду в средствах? Разве это справедливо, что в книге представлен угрюмый ипохондрик, ханжа и аскет, угнетаемый болезнями, творческим бессилием, сексуальной недостаточностью, но там нет того Гоголя, которого Жуковский не зря, наверное, ласково называл «Гогольком», - молодого, задорного, исполненного энергии, веры в свои силы и дерзко глядящего в лицо завтрашнему дню: «Я совершу... Я совершу!». Нет в книге Гоголя, так высоко ставившего в жизни товарищество и умевшего дружить, любившего шумное застолье в окружении нежинских однокашников, где царили любимые «малороссийские» песни, вареники, веселая шутка, озорной куплет, а то и соленое словцо. Нет Гоголя, до упаду, до колик смешившего чтением своих сочинений друзей и знакомых, в том числе Пушкина, и поражавшего своими «жертвоприношениями» владельцев итальянских тратторий...
Конечно, я могу, отложив в сторону книгу Набокова, легко дополнить свое представление о Гоголе сведениями из других источников или, скажем, сам, не по набоковской подсказке, выбрать и перечитать гоголевские письма. Но многие ли из читателей этой книги сделают то же самое?
Как известно, Набоков на протяжении всей жизни увлекался энтомологией, морфологией и систематикой чешуйчатокрылых, имел репутацию видного специалиста в этой области, и «энтомологические» сравнения и метафоры не редкость в его суждениях о литературе. Такова и высказанная им в связи с творчеством Гоголя мысль о «разнице между человеческим зрением и тем, что видит фасеточный глаз насекомого».
Что имеет в виду Набоков? Он считает, что русская литература до Пушкина и Гоголя, глядела на окружающий мир «фасеточным глазом», была «подслеповатой», не различала в нем красок, полутонов, светотени, не замечала движения и метаморфоз. Историки литературы могут поспорить с этой концепцией, но Набоков на научную концепцию и не претендует, ему важно показать то качественно новое, что принесли в литературу Пушкин и, в особенности, Гоголь. Громадное отличие «человеческого зрения» от зрения «фасеточного» - ограниченного, статичного, плоскостного, невосприимчивого к цвету, лежащая между ними пропасть наглядно видны на примере гоголевского описания сада Плюшкина - с его «зелеными облаками... на небесном горизонте», снежной белизной березового ствола, «зияющими как темная пасть» провалами «страшной глушины», цепкими крючьями хмеля, «легко колеблемыми воздухом», игрой солнечных лучей, вдруг превращающих зеленый лист клена «в прозрачный и огненный»... Это был действительно переворот, причем переворот не только в писательском восприятии, но и в читательском. Описание Гоголем плюшкинского сада, говорит Набоков, «поразило русских читателей почти так же, как Мане - усатых мещан своей эпохи».
Сам Набоков - из числа таких, «пораженных» читателей Гоголя. Его читательское «человеческое зрение», резко противостоящее «фасеточному», приобретает двойную ценность на фоне его внутренней антипатии к личности Гоголя. Порою кажется, что в книге «Николай Гоголь» читательский дар Набокова успешно соперничает с его даром писателя и нередко побеждает, нейтрализует его художнический субъективизм. Решусь утверждать, что лучшие страницы книги принадлежат именно Набокову-читателю; не побоюсь даже такого слова, как «открытие» - открытие под внешним слоем гоголевских текстов второго, глубинного их пласта, целого материка людей, явлений, деталей, не видимых «фасеточному глазу», не замечаемых им.
На первой странице «Мертвых душ» Чичикову встречается некий молодой человек, описанный всего несколькими штрихами, однако не без подробностей: «белые канифасовые панталоны, весьма узкие и короткие», фрак «с покушеньями на моду», выглядывающая из-под фрака манишка, «застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом». Быть может, это если не ключевая, то по крайней мере значительная, важная для повествования фигура? Но нет, чичиковская бричка проскакивает мимо, молодой человек едва успел оглянуться да придержать рукою картуз, «чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой» - пошел, чтобы не вернуться больше, исчезнуть из поля нашего зрения навсегда.
А на смену ему тут же является вертлявый гостиничный половой, весь длинный и в длинном демикотонном сюртуке со спинкою чуть ли не на самом затылке«, и вот уже мелькают перед нами другие столь же мимолетные, слово мгновенной вспышкой выхваченные «второстепенные», по определению Набокова, персонажи, хотя, строго говоря, они чаще всего не могут претендовать и на роли третьестепенные. Кому-то из них посчастливилось получить имя - как крепостной девчушке Пелагее, чьи босые ноги «издали можно было принять за сапоги, так они были облеплены грязью, или невесть откуда выползшим на свет Божий Сысою Пафнутьевичу и Макдональду Карловичу, или дяде Митяю и дяде Миняю...Иные, подобно небритому лакею на запятках Коробочкиного экипажа-арбуза, до самой старости довольствуются кличкой «малого». Большинство же лишено не то что имени, но даже и лица, застревая в нашей памяти какими-то внешними своими приметами: в одном случае это «на диво стачанный каблук», которым поздней ночью никак не налюбуется приехавший из Рязани безвестный поручик, «большой, по-видимому, охотник до сапогов»; в другом - «простреленная рука» и такой непомерно высокий рост, «какого даже и не видано было», или алебарда, которую заспанный будочник, казнив на ногте «какого-то зверя», отставляет в сторону, чтобы вновь заснуть «по уставам своего рыцарства». А эти «черные фраки» на губернаторском балу - они вовсе уж безымянны и безлики, напоминают рой мух, вьющихся вокруг белого сияющего рафинада, «когда старая ключница рубит и делит его на сверекающие обломки перед открытым окном», а «дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот»...
Эти лица, фигуры, вещи, предметы (да, и вещи, и предметы, вспомним хотя бы «шерстяную, радужных цветов косынку» Чичикова или «два соленые огурца особенно и полпорции икры», неожиданно вплетающиеся в текст записки городничего к жене) - они словно выплывают из какой-то глубины, возникают из невидимости, из небытия, обретают реальные очертания на дарованный им волею автора короткий миг и вновь растворяются в пространстве, уходят в кромешную тьму.
Однако неужели же никто до Набокова ничего этого не замечал? Не знаю, не припомню, чтобы кто-нибудь обнаружил в читанном и перечитанном «Ревизоре»... еще одну «пьесу», то странное, почти целиком скрытое от нас действо, которое происходит за кулисами и персонажи которого не выходят на сцену. А именно это удается Набокову. Он предлагает нам, помимо привычной театральной программки, еще одну, непривычную, нетрадиционную, с перечислением «недействующих» действующих лиц пьесы. Целая «вереница поразительных второстепенных существ» проходит в «Ревизоре». Андрей Иванович Чмыхов, из письма которого к городничему мы, собственно, впервые узнаем о Хлестакове; некая Анна Кирилловна, чья-то сестра, ее безымянный муж, а еще Иван Кириллович, который, как сообщается, «очень потолстел и все играет на скрыпке...». Далее происходит мимолетное заочное знакомство с судебным заседателем, человеком «сведущим», но распространяющим вокруг себя такой запах, «как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода». «Мы никогда больше не услышим об этом злосчастном заседателе, - замечает Набоков, - но вот он перед нами как живой, причудливое вонючее существо из тех „Богом обиженных“, до которых так жаден Гоголь».
Между тем все новые и новые персонажи торопятся «вскочить в пьесу между двумя фразами»: сначала один учитель, известный тем, что отчаянно гримасничает на кафедре, затем другой, ломающий стулья в безоглядной увлеченности подвигами Александра Македонского, за ним поручик, чьими письмами с красочными описаниями жизни «в эмпиреях» зачитывается почтмейстер, далее тяжущиеся между собою помещики Чептович и Варховинский... Из сбивчивого рассказа запыхавшихся Петров Ивановичей возникают то ключница городничего Авдотья, посланная к Филиппу Антоновичу Почечуеву за боченком для французской водки, то трактирщик Влас, то его трехнедельный отпрыск - «такой пребойкий мальчик, будет так же, как отец, содержатть трактир». А там - один из местных блюстителей порядка Прохоров, который «к делу не может быть употреблен», поскольку привезен поутру «мертвецки»...
А там, с включением в действие «ревизора», начинается, по определению Набокова, подлинная «вакханалия» такого рода персонажей: от разношерстной уездной публики до петербургских «позолоченных привидений и приснившихся послов», от пописывающего статейки Тряпичкина до «Пушкина»... «И пока Хлестаков, - пишет Набоков, - несется дальше в экстазе вымысла, на сцену, гудя, толпясь и расталкивая друг друга, вылетает целый рой важных персон: министры, графы, князья, генералы, тайные советники, даже тень самого царя» и, конечно, «курьеры, курьеры, курьеры... тридцать пять тысяч одних курьеров...».
Это все фантомы или они действительно существуют, как существуют в «Мертвых душах» какие-нибудь сводные сестры из Вятской губернии София Александровна и Маклатура Александровна, а в «Шинели» восприемники новорожденного, будущего Акакия Акакиевича, - столоначальник Иван Иванович Ерошкин и «жена квартального офицера, женщина редких добродетелей» Арина Семеновна Белобрюшкова? Если да, существуют, то - зачем? Каков скрытый смысл этого эфемерного, зыбкого существования? В каком вообще измерении все это происходит?
В четвертом измерении, отвечает Набоков. Ибо проза Гоголя (это говорится в связи с «Шинелью», но, без сомнения, может быть отнесено и к другим сочинениям) «по меньшей мере четырехмерна». Чтобы пояснить свою мысль, Набоков прибегает к параллелям, взятым на сей раз не из энтомологии, а из физики и математики: «Вселенная - гармошка» и «Вселенная - взрыв»; кривизна пространства; параллельные линии, которые, вопреки нашим привычным представлениям, «могут не только встретиться, но могут взвиваться и перепутываться самым причудливым образом, как колеблются, изгибаясь, при малейшей ряби, две колонны, отраженные в воде». И следует прямой переход к Гоголю: «Гений Гоголя - это и есть та самая рябь на воде: два плюс два дают пять, если не квадратный корень из пяти, и в мире Гоголя все это происходит естественно, там ни нашей рассудочной математики, ни всех наших псевдофизических конвенций с самими собой, если говорить серьезно, не существует».
Физико-математическая терминология не должна вводить в заблуждение. Набоков прибегает к ней отнюдь не для утверждения приоритета «точного» знания о мире. Напротив, в этих понятиях и терминах он ищет опору своему стремлению постичь непознаваемое, «сверхсознательное». «Рассудочное» знание применительно к Гоголю оказывается сродни «фасетчному зрению», обоим противопоставляется зрение уже даже не просто «человеческое», скорее «сверхчеловеческое». Набоков, по его словам, хочет быть не беззаботным купальщиком, а «искателем черного жемчуга», водолазом, предпочитающим «чудовищ морских глубин зонтикам на пляже».
Таковы те существа из «глубин» гоголевского художественного сознания, или, пожалуй, уже подсознания, которых он называет «второстепенными персонажами» в сочинениях Гоголя, а еще «гоммункулами» и «фантомами». Мир в котором они существуют, - мир абсурдный, иррациональный, своего рода «зазеркалье».
Разве не из этого именно мира приходит, например, «чиновник-мертвец» в облике Акакия Акакиевича, которому, замечает Гоголь, было «суждено... на несколько дней прожить шумно после своей смерти»? Правда, шинели с прохожих этот пришелец из потустороннего мира стаскивает вполне «посиюсторонние», реальные, да и чихает от нюхательного табака этот мертвец совсем как живой... Еще меньше иррационального в другом подозрительном «привидении», которое «было уже гораздо выше ростом», чем бедный Акакий Акакиевич, «носило преогромные усы» и показало увязавшемуся было за ним будочнику «такой кулак, какого и у живых не найдешь».
Набоков это противоречие, разумеется, замечает. Мимо его внимания, например, не проходит тот короткий миг, когда в толпе титулованных теней, рожденных вымыслом опьяневшего от вина и сознания собственной значимости Хлестакова, вдруг появляется «подлинная фигура... затрапезной кухарки бедного чиновника, Маврушки», обитающей вместе со своим барином отнюдь не в бельэтаже, а на четвертом этаже, как вся петербургская мелкота у Гоголя. «Подлинными» (пусть лишь в каком-то смысле) представляются Набокову и мимолетные персонажи, знакомые нам по первому действию «Ревизора». То же можно сказать и о воскрешаемых воображением Собакевича и Чичикова мужиках - реальных людях с реальными характерами. Каретник Михеев, богатырь и трудяга Пробка Степан, промышляющий извозом Григорий Доезжай-не-доедешь, «беспашпортный» Попов, который «ножа, я чай, не взял в руки, а проворовался благородным образом», - все эти «мертвые души», замечает Набоков, «один за другим... обретают существование».
Собственно, противоречия здесь нет, ибо существование это все равно мнимо, иррационально. Как и существование тех же Собакевича и Чичикова, Акакия Акакиевича до его кончины, других гоголевских персонажей - живых и мертвых, второстепенных и главных, названных и безымянных, участвующих в событиях и прячущихся «за кулисами». Как иррациональен мир, в котором они пребывают. Ибо иррациональность зависит не от того, соткан ли персонаж из живой плоти или из всплесков фантазии, реальны ли происходящие события или они кому-то привиделись, почудились, приснились; и абсурд, который Набоков называет «любимой музой» Гоголя, вовсе не обязательно есть нечто причудливое, уродливое или комическое. Абсурд рождается из трагического разрыва между «самыми высокими стремлениями человека», «глубочайшими его страданиями» и кошмаром окружающего мира.
С этой точки зрения «смутные картины» реальной жизни, воссозданные, скажем, в «Шинели», не имеют ровным счетом никакого значения. Служебные будни и нравы «одного департамента»; скудные обеды и другие столь же скудные житейские радости маленького чиновника; его всепоглощающая страсть к новой шинели; сцены чиновничьего быта с вистом, чаем и копеечными сухарями; петербургские черные лестницы, «умащенные» помоями и проникнутые особым «спиритуозным» запахом, - все это для Набокова не более чем «привычные декорации», «грубо разрисованные ширмы», ибо вообще «всякая реальность - это маска». Зато сквозь зияющие в декорациях разрывы, «черные дыры», проглядывает некий кажущийся нам абсурдным, «но подлинный» мир и существующий в нем робкий маленький чиновник, вернее, «призрак, гость из каких-то трагических глубин, который ненароком принял личину мелкого чиновника». Это и есть гоголевское «четвертое измерение».
В этом измерении, по Набокову, нет места тому, что он называет «нравственным поучением».
Одна из кульминаций «Шинели» - сцена, где молодой шустрый канцелярист вдруг останавливается, пораженный чинимыми над Акакием Акакиевичем жестокими насмешками. «И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: „Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?“ - и в этих проникающих словах звенели другие слова: „Я брат твой“. И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья...».
Об этом месте гоголевской повести - его иногда называют «гуманным» - Набоков не вспоминает, но есть основания предположить, что именно его имеет он в виду, отказываясь говорить о «нравственной позиции или нравственном поучении»; последнее, на его взгляд, лишено смысла «в мире тщеты, тщетного смирения и тщетного господства». Да, признает Набоков, в этом мире «что-то очень дурно устроено», однако «мир это е с т ь и он исключает все, что может его разрушить, поэтому всякое усовершенствование, всякая борьба, всякая нравственная цель или усилие ее достичь так же немыслимы, как изменение звездной орбиты».
Не приходится удивляться, что в глазах Набокова гоголевские «лирические излияния» представляют ценность весьма незначительную, если не сомнительную, в «Шинели» их роль в лучшем случае вспомогательная - нечто вроде пауз в потоке «бормотания». Подобно тому, как в «Мертвых душах» гоголевский монолог о Руси - лишь «скороговорка фокусника», призванная отвлечь внимание читателей, дабы они не заметили исчезновения Чичикова, «посланника сатаны, спешащего домой, в ад». Или зеркалу в эпиграфе к «Ревизору», отражающему что угодно, только не «подлинную жизнь». Для Набокова куда важнее замкнутый, алогичный «зеркальный мир» самого Гоголя. Поэтому на последних страницах книги, определяя ее цель, Набоков предупреждает своих читателей: «...Если вы хотите узнать что-нибудь о России... не трогайте Гоголя».
И при этом «самым великим писателем, которого до сих пор произвела Россия», он считает именно Гоголя. Если «уравновешенный Пушкин, земной Толстой, сдержанный Чехов» знали только отдельные «минуты иррационального прозрения», то Гоголь весь в «четвертом измерении», Этим и только этим определяется его причастность к «великой литературе», которая всегда «идет по краю иррациональности».
Книга «Николай Гоголь» дает нам возможность увидеть в Набокове - мастере прозы еще и мастера-эссеиста, интерпретатора, если можно так сказать - мастера-читателя. Однако этот читатель ни на минуту не забывает, что он и сам писатель-профессионал, к тому же «не вяжущийся» с коллегой-классиком. Потому так глубоко субъективны, а стало быть и одномерны его восприятие, оценки, трактовки. И это при том, что у Гоголя он превыше всего ценит как раз «четырехмерность». Набоков не замечает, что, пиша (как говаривали в старину) о Гоголе, он главным образом говорит о том, каким он видит писателя, о своем понимании смысла, назначения и секретов гоголевского творчества, то есть в сущности - о себе самом. «Я сказал...», «Я думаю...», «Я считаю...»...
Есть искушение полемически перефразировать приведенный выше парадоксальный совет Набокова «не трогать Гоголя»: если вы хотите узнать что-нибудь о Гоголе, не трогайте Набокова... Но от искушения лучше удержаться. Во-первых, потому что книга Набокова все же немало говорит нам о Гоголе, высвечивает его облик и творчество, пусть порою с неожиданной стороны и в непривычном ракурсе; во-вторых, она позволяет нам «узнать что-нибудь» о Набокове. Согласимся, это не так уж мало.
«Читательский клуб» в Нью-Йорке выпустил совершенно новый перевод «Мертвых душ», сделанный В. Д. Герни. Это на редкость хорошая работа. Издание портят две вещи: смехотворное предисловие, написанное одним из редакторов «Клуба», и перемена названия на «Похождения Чичикова, или Домашняя жизнь в старой России ». Это особенно огорчительно, если вспомнить, что заглавие «Похождения Чичикова» было навязано царской цензурой первому русскому изданию, ибо церковь говорит нам, что души бессмертны и поэтому не могут быть названы мертвыми . В данном случае подобную замену произвели явно из боязни навеять мрачные мысли розовощеким любителям комиксов .
Разговор двух русских мужиков (типично гоголевский плеоназм) - чисто умозрительный.
Фантазия бесценна лишь тогда, когда она бесцельна. Размышления двух мужиков не основаны ни на чем осязаемом и не приводят ни к каким ощутимым результатам; но так рождаются философия и поэзия ...
Перед нами поразительное явление: словесные обороты создают живых людей. Вот пример того, как это делается:
«Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светлосерого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням».
Передать на другом языке оттенки этого животворного синтаксиса так же трудно, как и перекинуть мост через логический или, вернее, биологический просвет между размытым пейзажем под сереньким небом и пьяненьким старым солдатом, который встречает читателя случайной икотой на праздничном закруглении фразы. Фокус Гоголя - в употреблении слова «впрочем», которое является связующим звеном только в грамматическом смысле, хотя изображает логическую связь; слово «солдаты» дает кое-какой повод для противопоставления слову «мирные», и едва только бутафорский мост «впрочем» совершил свое волшебное действие, эти добродушные вояки, покачиваясь и распевая, сойдут со сцены, как мы уже видели не раз.
До появления его [Гоголя] и Пушкина русская литература была подслеповатой.
Формы, которые она замечала, были лишь очертаниями, подсказанными рассудком; цвета как такового она не видела и лишь пользовалась истертыми комбинациями слепцов-существительных и по-собачьи преданных им эпитетов, которые Европа унаследовала от древних. Небо было голубым, заря алой, листва зеленой, глаза красавиц черными, тучи серыми и т.д. Только Гоголь (а за ним Лермонтов и Толстой) увидел желтый и лиловый цвета. То, что небо на восходе солнца может быть бледно-зеленым, снег в безоблачный день густо-синим, прозвучало бы бессмысленной ересью в ушах так называемого писателя-«классика», привыкшего к неизменной, общепринятой цветовой гамме французской литературы 18 в.
Показателем того, как развивалось на протяжении веков искусство описания, могут послужить перемены, которые претерпело художественное зрение; фасеточный глаз становится единым, необычайно сложным органом, а мертвые, тусклые «принятые краски» (как бы «врожденные идеи») постепенно выделяют тонкие оттенки и создают новые чудеса изображения. Сомневаюсь, чтобы какой-нибудь писатель, тем более в России, раньше замечал такое удивительное явление, как дрожащий узор света и тени на земле под деревьями или цветовые шалости солнца на листве
. Описание сада Плюшкина поразило русских читателей почти так же, как Мане - усатых мешан своей эпохи. «Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна; косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них углубление, зиявшее, как темная пасть; оно было все окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его: бежавшая узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник, густой щетиною вытыкавший из-за ивы иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листы, под один из которых забравшись Бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не вровень другим, осин подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них отдернутые и не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубо-ощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности».
Он прекрасно ощущал ту власть, которую его художественный гений имеет над людьми, и, к отвращению своему, ответственность, проистекающую от такой власти .
Опасность превратиться в лежачий камень Гоголю не угрожала: несколько летних сезонов он беспрерывно ездил с вод на воды. Болезнь его была трудноизлечимой, потому что казалась малопонятной и переменчивой: приступы меланхолии, когда ум его был помрачен невыразимыми предчувствиями и ничто, кроме внезапного переезда, не могло принести облегчения, чередовались с припадками телесного недомогания и ознобами; сколько он ни кутался, у него стыли ноги, а помогала от этого только быстрая ходьба - и чем дольше, тем лучше. Парадокс заключался в том, что поддержать в себе творческий порыв он мог лишь постоянным движением - а оно физически мешало ему писать . И все же зимы, проведенные в Италии с относительным комфортом, были еще менее продуктивными, чем лихорадочные странствия в почтовых каретах. Дрезден, Бадгастейн, Зальцбург, Мюнхен, Венеция, Флоренция, Рим и опять Флоренция, Мантуя, Верона, Инсбрук, Зальцбург, Карлсбад, Прага, Греффенберг, Берлин, Бадгастейн, Прага, Зальцбург, Венеция, Болонья, Флоренция, Рим, Ницца, Париж, Франкфурт, Дрезден - и все сначала; этот перечень с повторяющимися названиями знаменитых туристских городов не похож на маршрут человека, который хочет поправить здоровье или собирает гостиничные наклейки, чтобы похвастаться ими в Москве, штат Айдахо, или в Москве российской - это намеченный пунктиром порочный круг без всякого географического смысла. Во ды были скорее поводом. Центральная Европа была для Гоголя лишь оптическим явлением, и единственное, что было ему важно, единственное, что его тяготило, единственная его трагедия была в том, что творческие силы неуклонно и безнадежно у него иссякали. Когда Толстой из нравственных, мистических и просветительских побуждений отказался писать романы, его гений был зрелым, могучим, а отрывки художественных произведений, опубликованные посмертно, показывают, что мастерство его развивалось и после смерти Анны Карениной . А Гоголь был автором всего лишь нескольких книг, и намерение написать главную книгу своей жизни совпало с упадком его как писателя: апогея он достиг в «Ревизоре», «Шинели» и первой части «Мертвых душ».
Ведь он был в самом худом положении, в какое может попасть писатель, утратив способность измышлять факты и веря, что они могут существовать сами по себе. Беда в том, что голых фактов в природе не существует, потому что они никогда не бывают совершенно голыми; белый след от часового браслета, завернувшийся кусочек пластыря на сбитой пятке - их не может снять с себя самый фанатичный нудист. Простая колонка чисел раскроет личность того, кто их складывал
, так же точно, как податливый шифр выдал местонахождение клада Эдгару По. Самая примитивная curriculum vitae [краткая биография (лат.)]
кукарекает и хлопает крыльями так, как это свойственно только ее подписавшему. Сомневаюсь, чтобы можно было назвать свой номер телефона, не сообщив при этом о себе самом
.
Гоголь же, хотя и уверял, что желает знать о человечестве, потому что любит это человечество, на самом-то деле был мало заинтересован в личности того, кто ему о себе сообщал. Он хотел получить факты в самом обнаженном виде и в то же время требовал не просто ряда цифр, а полного набора мельчайших наблюдений. Когда кто-нибудь из покладистых друзей нехотя выполнял его просьбы, а потом, войдя во вкус, посылал ему подробные отчеты о провинциальных и деревенских делах, то вместо благодарности получал вопль разочарования - и отчаяния: ведь те, с кем писатель переписывался, не были Гоголями. Он требовал описаний, описаний. И хотя друзья его писали с усердием, Гоголю недоставало нужного материала, потому что эти друзья не были писателями, а к тем друзьям, которые ими были, он не мог обратиться, зная, что сообщенные ими факты уже никак не будут «голыми». Эта история отлично иллюстрирует полнейшую бессмыслицу таких терминов, как «голый факт» и «реализм»
. Гоголь - «реалист»! Так говорят учебники. И возможно, что сам Гоголь в своих жалких и тщетных попытках собрать от самих читателей крохи, которые должны были составить мозаику его книги, полагал, что поступает совершенно разумно. Ведь это так просто, - раздраженно твердил он разным господам и дамам, - сесть хотя на часок в день и набросать все, что вы видели и слышали. С тем же успехом он мог просить их выслать ему по почте луну в любой ее фазе. И неважно, если парочка звезд и клочок тумана ненароком попадут в наспех запечатанный синий пакет. А если у месяца сломается рог, он его заменит другим.
В ирреальном мире Гоголя Рим и Россию объединила какая-то глубинная связь. Рим для него был тем местом, где у него случались периоды хорошего физического самочувствия, чего не бывало на севере. Цветы Италии (по его словам, он уважал цветы, которые вырастают сами собою на могиле
) наполняли его «неистовым желанием превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше - ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиною в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны».
Италия добавила работы его носу. Но было там еще и особенное итальянское небо, «то все серебряное, одетое в какое-то атласное сверкание, то синее, как любит оно показываться сквозь арки Колисея». Чтобы отдохнуть от исковерканной, ужасной, дьявольской картины мира, им же созданной, он будто хочет позаимствовать нормальное зрение у второразрядного художника, воспринимающего Рим как «живописное» место. Ему нравятся и ослы: «бредут или несутся вскачь ослы с полузажмуренными глазами, живописно неся на себе стройных и сильных» итальянок, «далеко блистающих белыми головными уборами, или таща вовсе не живописно, с трудом и спотыкаясь, длинного неподвижного англичанина в гороховом непроникаемом макинтоше, скорчившего в острый угол свои ноги, чтобы не зацепить ими земли, или неся художника в блузе, с деревянным ящиком на ремне и ловкой вандиковской бородкой...» - и т.д.
В Риме жил тогда великий русский художник Иванов . Больше двадцати лет он трудился над своим «Явлением Христа народу». Судьба его во многом схожа с судьбой Гоголя, с той только разницей, что Иванов в конце концов закончил свой шедевр; рассказывают, что когда его наконец выставили (в 1858 г.), он спокойно сидел перед картиной, накладывая последние мазки - это после двадцатилетней работы! - и не обращая внимания на сутолоку в выставочном зале. Оба - и Гоголь, и Иванов - жили в постоянной бедности, потому что не могли оторваться от главного дела своей жизни ради заработка ; обоих донимало нетерпение соотечественников, попрекавших их медлительностью; оба были нервны, раздражительны, малообразованны, до смешного неловки в мирских делах.
После смерти жены критик Погодин был вне себя от горя, а Гоголь ему написал: «Друг, несчастия суть великие знаки Божией любви. Они ниспосылаются для перелома жизни в человеке, который без них был бы невозможен... Я знаю, что покойницу при жизни печалили два находящиеся в тебе недостатки. Один, который произошел от обстоятельства твоей первоначальной жизни и воспитания, состоит в отсутствии такта во всех возможных родах приличий...»
Соболезнование, единственное в своем роде.
Аксаков был одним из немногих, кто решился наконец высказать Гоголю, как он относится к некоторым его наставлениям. «Друг мой, - писал он, - ни на одну минуту я не усумнился в искренности вашего убеждения и желания добра друзьям своим; но, признаюсь, недоволен я этим убеждением, особенно формами, в которых оно проявляется. Я даже боюсь его. Мне пятьдесят три года. Я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы еще не родились... Я не порицаю никаких, ничьих убеждений, лишь были бы они искренни; но уже, конечно, ничьих и не приму... И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, насильно, не знав моих убеждений, да как еще? в узаконенное время, после кофею, и разделяя чтение главы, как на уроки... и смешно и досадно...»
Чернышевский и Писарев торжественно доказывали, что писать учебники для народа важнее, чем рисовать «мраморные колонны и нимф», то есть заниматься «чистым искусством». Кстати, тот же старомодный метод - низвести все эстетические ценности до уровня своих убогих представлений и способности нарисовать акварельку, а затем обличать «искусство для искусства» с национальной, политической или общеобывательской точки зрения - выглядит крайне комично и у некоторых современных американских критиков.
Гоголь явно отстал от века и принял маслянистый налет на луже за потустороннюю радугу .
«Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я, как во сне, эту землю» (из письма Жуковскому). Мы мельком видим, как он в пустыне ссорится со своим спутником Базили. Где-то в Самарии он сорвал златоцвет, где-то в Галилее - мак (питая смутный интерес к ботанике подобно Руссо). В Назарете шел дождь, он хотел от него спрятаться и «просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете (на скамейке, под которой нашла убежище курица), точно как бы это случилось в России на станции». Священные места, которые он посетил, не слились с их мистическим идеальным образом в его душе, и в результате Святая Земля принесла его душе (и его книге) так же мало пользы, как немецкие санатории - его телу.
В этой молитве Гоголь просил Господа уберечь его на Востоке от разбойников и от морской болезни во время переезда по морю. Господь не внял второй просьбе: между Неаполем и Мальтой на вертлявом пароходике «Капри» Гоголя так рвало, что пассажиры просто поражались.
Писатель погиб, когда его начинают занимать такие вопросы, как «что такое искусство?» и «в чем долг писателя?».
...самый скромный читатель (предпочитающий книги в форме диалогов с минимумом «описаний», потому что разговоры - это «жизнь»)...
Успех в подобных случаях (у популярных романистов и прочих) прямо зависит от того, насколько представление автора о «читателях» соответствует общепринятому, то есть взгляду читателей на самих себя, прилежно внушаемому издателями при помощи регулярно поставляемой умственной жвачки.
Гоголь был странным созданием, но гений всегда странен; только здоровая посредственность кажется благородному читателю мудрым старым другом, любезно обогащающим его, читателя, представления о жизни . Великая литература идет по краю иррационального. «Гамлет» - безумное сновидение ученого невротика. «Шинель» Гоголя - гротеск и мрачный кошмар, пробивающий черные дыры в смутной картине жизни.
Абсурд был любимой музой Гоголя, но когда я употребляю термин «абсурд», я не имею в виду ни причудливое, ни комическое. У абсурдного столько же оттенков и степеней, сколько у трагического, - более того, у Гоголя оно граничит с трагическим.
Творческое прочтение повести Гоголя открывает, что там и сям в самом невинном описании то или иное слово, иногда просто наречие или частица, например слова «даже» и «почти», вписаны так, что самая безвредная фраза вдруг взрывается кошмарным фейерверком; или же период, который начинается в несвязной, разговорной манере, вдруг сходит с рельсов и сворачивает в нечто иррациональное, где ему, в сущности, и место; или так же внезапно распахивается дверь, и в нее врывается могучий пенящийся вал поэзии, чтобы тут же пойти на снижение, или обратиться в самопародию, или прорваться фразой, похожей на скороговорку фокусника, которая так характерна для стиля Гоголя. Это создает ощущение чего-то смехотворного и в то же время нездешнего, постоянно таящегося где-то рядом, и тут уместно вспомнить, что разница между комической стороной вещей и их космической стороной зависит от одной свистящей согласной .
Когда же в бессмертной «Шинели» он дал себе волю порезвиться на краю глубоко личной пропасти, он стал самым великим писателем, которого до сих пор произвела Россия.
В стиле, во внутренней структуре этого трансцендентального анекдота. [...] проступает главный персонаж «Шинели», робкий маленький чиновник, и олицетворяет дух этого тайного, но подлинного мира, который прорывается сквозь стиль Гоголя. Он, этот робкий маленький чиновник, - призрак, гость из каких-то трагических глубин, который ненароком принял личину мелкого чиновника. Русские прогрессивные критики почувствовали в нем образ человека угнетенного, униженного, и вся повесть поразила их своим социальным обличением. Но повесть гораздо значительнее этого. Провалы и зияния в ткани гоголевского стиля соответствуют разрывам в ткани самой жизни. Что-то очень дурно устроено в мире, а люди - просто тихо помешанные, они стремятся к цели, которая кажется им очень важной, в то время как абсурдно-логическая сила удерживает их за никому не нужными занятиями - вот истинная «идея» повести. В мире тщеты, тщетного смирения и тщетного господства высшая степень того, чего могут достичь страсть, желание, творческий импульс - это новая шинель, перед которой преклонят колени и портные и заказчики. Я не говорю о нравственной позиции или нравственном поучении. В таком мире не может быть нравственного поучения, потому что там нет ни учеников, ни учителей; мир этот есть, и он исключает все, что может его разрушить, поэтому всякое усовершенствование, всякая борьба, всякая нравственная цель или усилие ее достичь так же немыслимы, как изменение звездной орбиты. Это мир Гоголя, и как таковой он совершенно отличен от мира Толстого, Пушкина, Чехова или моего собственного. Но по прочтении Гоголя глаза могут гоголизироваться , и человеку порой удается видеть обрывки его мира в самых неожиданных местах. Я объехал множество стран, и нечто вроде шинели Акакия Акакиевича было страстной мечтой того или иного случайного знакомого, который никогда и не слышал о Гоголе.
Русские, которые считают Тургенева великим писателем или судят о Пушкине по гнусным либретто опер Чайковского , лишь скользят по поверхности таинственного гоголевского моря и довольствуются тем, что им кажется насмешкой, юмором и броской игрой слов. Но водолаз, искатель черного жемчуга, тот, кто предпочитает чудовищ морских глубин зонтикам на пляже, найдет в «Шинели» тени, сцепляющие нашу форму бытия с другими формами и состояниями, которые мы смутно ощущаем в редкие минуты сверхсознательного восприятия . Проза Пушкина трехмерна; проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна. Его можно сравнить с его современником математиком Лобачевским, который взорвал Евклидов мир и открыл сто лет назад многие теории, позднее разработанные Эйнштейном. Если параллельные линии не встречаются, то не потому, что встретиться они не могут, а потому, что у них есть другие заботы. Искусство Гоголя, открывшееся нам в «Шинели», показывает, что параллельные линии могут не только встретиться, но могут извиваться и перепутываться самым причудливым образом, как колеблются, изгибаясь при малейшей ряби, две колонны, отраженные в воде. Гений Гоголя - это и есть та самая рябь на воде; дважды два будет пять, если не квадратный корень из пяти, и в мире Гоголя все это происходит естественно, там ни нашей рассудочной математики, ни всех наших псевдофизических конвенций с самим собой, если говорить серьезно, не существует.
Она обращена к тем тайным глубинам человеческой души, где проходят тени других миров, как тени безымянных и беззвучных кораблей .
Как, наверное, уже уяснили себе два-три самых терпеливых читателя, это обращение - единственное, что, по существу, меня занимает. Цель моих беглых заметок о творчестве Гоголя, надо надеяться, стала совершенно ясна. Грубо говоря, она сводится к следующему: если вы хотите узнать что-нибудь о России, если вы жаждете понять, почему продрогшие немцы проиграли свой блиц, если вас интересуют «идеи», «факты» и «тенденции» - не трогайте Гоголя .
Мне хотелось бы привести здесь полный перечень запретов, вето и угроз. Впрочем, вряд ли это понадобится - ведь случайный читатель, наверно, так далеко и не заберется. Но я буду очень рад неслучайному читателю - братьям моим, моим двойникам. Мой брат играет на губной гармонике. Моя сестра читает. Она моя тетя. Сначала выучите азбуку губных, заднеязычных, зубных, буквы, которые жужжат, гудят, как шмель и муха-цеце. После какой-нибудь гласной станете отплевываться. В первый раз просклоняв личное местоимение, вы ощутите одеревенелость в голове. Но я не вижу другого подхода к Гоголю (да, впрочем, и к любому другому русскому писателю). Его произведения, как и всякая великая литература, - это феномен языка, а не идей
. Мои переводы отдельных мест - это лучшее, на что способен мой бедный словарь; но если бы они были так же совершенны, какими их слышит мое внутреннее ухо, я, не имея возможности передать их интонацию, все равно не мог бы заменить Гоголя.
Стараясь передать мое отношение к его искусству, я не предъявил ни одного ощутимого доказательства его ни на что не похожей природы. Я могу лишь положа руку на сердце утверждать, что я не выдумал Гоголя. Он действительно писал, он действительно жил.
Гоголь родился 1 апреля 1809 г. По словам его матери (она, конечно, придумала этот жалкий анекдот), стихотворение, которое он написал в пять лет, прочел Капнист, довольно известный писатель. Капнист обнял важно молчавшего ребенка и сказал счастливым родителям: «Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководители учителя-христианина». Но вот то, что Гоголь родился 1 апреля, это правда.
Золотую щель нежного заката обрамляли мрачные скалы. Края ее опушились елями как ресницами, а еще дальше, в глубине самой щели, можно было различить силуэты других, совсем бесплотных гор поменьше. Мы были в штате Юта, сидели в гостиной горного отеля. Тонкие осины на ближних скалах и бледные пирамиды старых шахтных отвалов воспользовались зеркальным окном и молчаливо приняли участие в нашей беседе...
Большинство фактов, приведенных мною, взято из прелестной биографии Гоголя, написанной Вересаевым (1933). Выводы мои собственные.
В. Набоков. "Лекции по русской литературе"
Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали, лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли мой то синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?
Н. В. Гоголь. "Записки сумасшедшего"
Николай Гоголь - самый необычный поэт и прозаик, каких когда-либо рождала Россия, - умер в Москве, в четверг, около восьми часов утра, 4 марта 1852 г. Он не дожил до сорока трех лет. Однако, если вспомнить, какая до смешного короткая жизнь была уделом других великих русских писателей того поразительного поколения, это был весьма зрелый возраст. Крайнее физическое истощение в результате голодовки (которую он объявил в припадке черной меланхолии, желая побороть дьявола) вызвало острейшую анемию мозга (вместе, по-видимому, с гастроэнтеритом), а лечение, которому его подвергли - мощные слабительные и кровопускания, - ускорило смертельный исход: организм больного был и без того подорван малярией и недоеданием. Парочка чертовски энергичных врачей, которые прилежно лечили его, словно он был просто помешанным (несмотря на тревогу более умных, но менее деятельных коллег), пыталась добиться перелома в душевной болезни пациента, не заботясь о том, чтобы укрепить его ослабленный организм. Лет за пятнадцать до этого медики лечили Пушкина, раненного в живот, как ребенка, страдающего запорами. В ту пору еще верховодили посредственные немецкие и французские лекари, а замечательная школа великих русских медиков только зачиналась.
Ученые мужи, толпящиеся вокруг "мнимого больного" со своей кухонной латынью и гигантскими клистирами, перестают смешить, когда Мольер вдруг выхаркивает предсмертную кровь на сцене. С ужасом читаешь, до чего нелепо и жестоко обходились лекари с жалким, бессильным телом Гоголя, хоть он молил только об одном: чтобы его оставили в покое. С полным непониманием симптомов болезни и явно предвосхищая методы Шарко, доктор Овер погружал больного в теплую ванну, там ему поливали голову холодной водой, после чего укладывали его в постель, прилепив к носу полдюжины жирных пиявок. Больной стонал, плакал, беспомощно сопротивлялся, когда его иссохшее тело (можно было через живот прощупать позвоночник) тащили в глубокую деревянную бадью; он дрожал, лежа голый в кровати, и просил, чтобы сняли пиявок, - они свисали у него с носа и попадали в рот. Снимите, уберите! - стонал он, судорожно силясь их смахнуть, так что за руки его пришлось держать здоровенному помощнику тучного Овера.
И хоть картина эта неприглядна и бьет на жалость, что мне всегда претило, я вынужден ее описать, чтобы вы почувствовали до странности телесный характер его гения. Живот - предмет обожания в его рассказах, а нос - герой-любовник. Желудок всегда был самым знатным внутренним органом писателя, но теперь от этого желудка, в сущности, ничего не осталось, а с ноздрей свисали черви. За несколько месяцев перед смертью он так измучил себя голодом, что желудок напрочь потерял вместительность, которой прежде славился, ибо никто не всасывал столько макарон и не съедал столько вареников с вишнями, сколько этот худой малорослый человек (вспомним "небольшие брюшки", которыми он наградил своих щуплых Добчинского и Бобчинского). Его большой и острый нос был так длинен и подвижен, что в молодости (изображая в качестве любителя нечто вроде "человека-змеи") он умел пренеприятно доставать его кончиком нижнюю губу; нос был самой чуткой и приметной чертой его внешности. Он был таким длинным и острым, что умел самостоятельно, без помощи пальцев, проникать в любую, даже самую маленькую табакерку, если, конечно, щелчком не отваживали незваного гостя (о чем Гоголь игриво сообщает в письме одной молодой даме). Дальше мы увидим, как нос лейтмотивом проходит через его сочинения: трудно найти другого писателя, который с таким смаком описывал бы запахи, чиханье и храп. То один, то другой герой появляется на сцене, так сказать, везя свой нос в тачке или гордо въезжая с ним, как незнакомец из "Повести Слокенбергия" у Стерна. Нюханье табака превращается в целую оргию. Знакомство с Чичиковым в "Мертвых душах" сопровождается трубным гласом, который он издает, сморкаясь. Из носов течет, носы дергаются, с носами любовно или неучтиво обращаются: пьяный пытается отпилить другому нос; обитатели Луны (как обнаруживает сумасшедший) - Носы.
Обостренное ощущение носа в конце концов вылилось в повесть "Нос" - поистине гимн этому органу. Фрейдист мог бы утверждать, что в вывернутом наизнанку мире Гоголя человеческие существа поставлены вверх ногами (в 1841 г. Гоголь хладнокровно заверял, будто консилиум парижских врачей установил, что его желудок лежит "вверх ногами"), и поэтому роль носа, очевидно, выполняет другой орган, и наоборот. Его фантазия ли сотворила нос, или нос разбудил фантазию - значения не имеет. Я считаю, разумней забыть о том, что чрезмерный интерес Гоголя к носу мог быть вызван ненормальной длиной собственного носа, и рассматривать обонятельные склонности Гоголя - и даже его собственный нос - как литературный прием, свойственный грубому карнавальному юмору вообще и русским шуткам по поводу носа в частности. Носы и веселят нас, и печалят. Знаменитый гимн носу в "Сирано де Бержераке" Ростана - ничто по сравнению с сотнями русских пословиц и поговорок по поводу носа. Мы вешаем его в унынии, задираем от успеха, советуем при плохой памяти сделать на нем зарубку, и его вам утирает победитель. Его используют как меру времени, говоря о каком-нибудь грядущем и более или менее опасном событии. Мы чаще, чем любой другой народ, говорим, что водим кого-то за нос или кого-то с ним оставляем. Сонный человек "клюет" им, вместо того чтобы кивать головой. Большой нос, говорят, - через Волгу мост или - сто лет рос. В носу свербит к радостной вести, и ежели на кончике вскочит прыщ, то - вино пить. Писатель, который мельком сообщит, что кому-то муха села на нос, почитается в России юмористом. В ранних сочинениях Гоголь не раздумывая пользовался этим немудреным приемом, но в более зрелые годы сообщал ему особый оттенок, свойственный его причудливому гению. Надо иметь в виду, что нос как таковой с самого начала казался ему чем-то комическим (как, впрочем, и любому русскому), чем-то отдельным, чем-то не совсем присущим его обладателю и в то же время (тут мне приходится сделать уступку фрейдистам) чем-то сугубо, хотя и безобразно мужественным. Обидно читать, как, описывая: хорошенькую девушку, Гоголь хвалит ее за плавность черт гладкого, как яйцо, лица.
Надо признать, что длинный, чувствительный нос Гоголя открыл в литературе новые запахи (и вызвал новые острые переживания). Как сказано в русской пословице: "Тому виднее, у кого нос длиннее", а Гоголь видел ноздрями. Орган, который в его юношеских сочинениях был всего-навсего карнавальной принадлежностью, взятой напрокат из дешевой лавочки готового платья, именуемой фольклором, стал в расцвете его гения самым лучшим его союзником. Когда он погубил этот гений, пытаясь стать проповедником, он потерял и свой нос так же, как его потерял майор Ковалев.
Многие поколения критиков и читателей до сих пор не в силах разгадать загадочной природы Гоголя и его произведений. Смысл творений этого великого писателя постоянно ускользает от нас, словно тот намеренно не хотел открывать его читателям, и, несмотря на огромное количество толкований, произведения Гоголя отнюдь не спешат становиться проще и понятнее читателям.
Однако только тогда, когда Набокова попросили прочитать курс лекций по русской литературе для американских студентов, у него появилась возможность сформулировать и выразить свое отношение к этому великому писателю. Следует сразу заметить, что это была весьма непростая задача, ведь Набоков был вынужден объяснять иностранцам такие вещи, которые порой не были понятны даже тем, кто читал произведения Гоголя на русском языке. Так что тут говорить об иностранцах, ведь при переводе зачастую терялись многие тонкости и нюансы, от которых напрямую зависел смысл прочитанного.
Однако в любом случае, подобная трактовка гоголевских книг весьма ограниченна и не отражает всей их глубины. В итоге столь негативного восприятия обществом его произведений, Гоголь на протяжении всей своей оставшейся предпринимал попытки объяснить читателям и критикам свою позицию и смягчить гнетущее впечатление, возникающее после прочтения его книг. Это стало причиной того, что он взялся за написание “Развязки “Ревизора”, “Выбранных мест из переписки с друзьями”, задумал 2-ой том “Мертвых душ”, в котором, помимо Чичикова, вводились целиком положительные персонажи.
Традиционная точка зрения критиков на “Ревизора” была однозначной – гениальное сатирическое произведение, высмеивающее бюрократическое общество и его пороки. Набоков назвал в своей статье “Государственный призрак”, посвященной “Ревизору”, таких критиков “наивными душами”, которые “неизбежно должны увидеть в пьесе яростную социальную сатиру, нацеленную на идиллическую систему государственной коррупции в России…”
3. “Шинель”
И наконец теперь мы подходим к произведениям, которые Набоков отмечал как важнейшие: “…Гоголь был автором всего лишь нескольких книг, и намерение написать главную книгу своей жизни совпало с упадком его как писателя: апогея он достиг в “Ревизоре”, “Шинели” и первой части “Мертвых душ”.
Через некоторое время в свет выходит первый, а затем второй тома “Вечеров на хуторе близ Диканьки”, принесшие Гоголю славу. Набоков относился к ним с прохладцей: “Два тома “Вечеров”, так же как и два тома повестей, озаглавленных “Миргород” оставляют меня равнодушными. Однако именно этими произведениями, юношескими опытами псевдоюмориста Гоголя, русские учителя забивали головы своих учеников. Подлинный Гоголь смутно проглядывает в “Арабесках” и раскрывается полностью в “Ревизоре”, “Шинели” и “Мертвых душах”. И далее: “В период создания “Диканьки” и “Тараса Бульбы” Гоголь стоял на краю опаснейшей пропасти… Он чуть было не стал автором украинских фольклорных повестей и красочных романтических историй. Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом “Диканьки” и “Миргороды” о призраках”, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках”.
Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали, лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли мой то синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?
Н. В. Гоголь. "Записки сумасшедшего"
1. ЕГО СМЕРТЬ И ЕГО МОЛОДОСТЬ
1
Николай Гоголь - самый необычный поэт и прозаик, каких когда-либо рождала Россия, - умер в Москве, в четверг, около восьми часов утра, 4 марта 1852 г. Он не дожил до сорока трех лет. Однако, если вспомнить, какая до смешного короткая жизнь была уделом других великих русских писателей того поразительного поколения, это был весьма зрелый возраст. Крайнее физическое истощение в результате голодовки (которую он объявил в припадке черной меланхолии, желая побороть дьявола) вызвало острейшую анемию мозга (вместе, по-видимому, с гастроэнтеритом), а лечение, которому его подвергли - мощные слабительные и кровопускания, - ускорило смертельный исход: организм больного был и без того подорван малярией и недоеданием. Парочка чертовски энергичных врачей, которые прилежно лечили его, словно он был просто помешанным (несмотря на тревогу более умных, но менее деятельных коллег), пыталась добиться перелома в душевной болезни пациента, не заботясь о том, чтобы укрепить его ослабленный организм. Лет за пятнадцать до этого медики лечили Пушкина, раненного в живот, как ребенка, страдающего запорами. В ту пору еще верховодили посредственные немецкие и французские лекари, а замечательная школа великих русских медиков только зачиналась.
Ученые мужи, толпящиеся вокруг "мнимого больного" со своей кухонной латынью и гигантскими клистирами, перестают смешить, когда Мольер вдруг выхаркивает предсмертную кровь на сцене. С ужасом читаешь, до чего нелепо и жестоко обходились лекари с жалким, бессильным телом Гоголя, хоть он молил только об одном: чтобы его оставили в покое. С полным непониманием симптомов болезни и явно предвосхищая методы Шарко, доктор Овер погружал больного в теплую ванну, там ему поливали голову холодной водой, после чего укладывали его в постель, прилепив к носу полдюжины жирных пиявок. Больной стонал, плакал, беспомощно сопротивлялся, когда его иссохшее тело (можно было через живот прощупать позвоночник) тащили в глубокую деревянную бадью; он дрожал, лежа голый в кровати, и просил, чтобы сняли пиявок, - они свисали у него с носа и попадали в рот. Снимите, уберите! - стонал он, судорожно силясь их смахнуть, так что за руки его пришлось держать здоровенному помощнику тучного Овера.
И хоть картина эта неприглядна и бьет на жалость, что мне всегда претило, я вынужден ее описать, чтобы вы почувствовали до странности телесный характер его гения. Живот - предмет обожания в его рассказах, а нос - герой-любовник. Желудок всегда был самым знатным внутренним органом писателя, но теперь от этого желудка, в сущности, ничего не осталось, а с ноздрей свисали черви. За несколько месяцев перед смертью он так измучил себя голодом, что желудок напрочь потерял вместительность, которой прежде славился, ибо никто не всасывал столько макарон и не съедал столько вареников с вишнями, сколько этот худой малорослый человек (вспомним "небольшие брюшки", которыми он наградил своих щуплых Добчинского и Бобчинского). Его большой и острый нос был так длинен и подвижен, что в молодости (изображая в качестве любителя нечто вроде "человека-змеи") он умел пренеприятно доставать его кончиком нижнюю губу; нос был самой чуткой и приметной чертой его внешности. Он был таким длинным и острым, что умел самостоятельно, без помощи пальцев, проникать в любую, даже самую маленькую табакерку, если, конечно, щелчком не отваживали незваного гостя (о чем Гоголь игриво сообщает в письме одной молодой даме). Дальше мы увидим, как нос лейтмотивом проходит через его сочинения: трудно найти другого писателя, который с таким смаком описывал бы запахи, чиханье и храп. То один, то другой герой появляется на сцене, так сказать, везя свой нос в тачке или гордо въезжая с ним, как незнакомец из "Повести Слокенбергия" у Стерна. Нюханье табака превращается в целую оргию. Знакомство с Чичиковым в "Мертвых душах" сопровождается трубным гласом, который он издает, сморкаясь. Из носов течет, носы дергаются, с носами любовно или неучтиво обращаются: пьяный пытается отпилить другому нос; обитатели Луны (как обнаруживает сумасшедший) - Носы.
Обостренное ощущение носа в конце концов вылилось в повесть "Нос" - поистине гимн этому органу. Фрейдист мог бы утверждать, что в вывернутом наизнанку мире Гоголя человеческие существа поставлены вверх ногами (в 1841 г. Гоголь хладнокровно заверял, будто консилиум парижских врачей установил, что его желудок лежит "вверх ногами"), и поэтому роль носа, очевидно, выполняет другой орган, и наоборот. Его фантазия ли сотворила нос, или нос разбудил фантазию - значения не имеет. Я считаю, разумней забыть о том, что чрезмерный интерес Гоголя к носу мог быть вызван ненормальной длиной собственного носа, и рассматривать обонятельные склонности Гоголя - и даже его собственный нос - как литературный прием, свойственный грубому карнавальному юмору вообще и русским шуткам по поводу носа в частности. Носы и веселят нас, и печалят. Знаменитый гимн носу в "Сирано де Бержераке" Ростана - ничто по сравнению с сотнями русских пословиц и поговорок по поводу носа. Мы вешаем его в унынии, задираем от успеха, советуем при плохой памяти сделать на нем зарубку, и его вам утирает победитель. Его используют как меру времени, говоря о каком-нибудь грядущем и более или менее опасном событии. Мы чаще, чем любой другой народ, говорим, что водим кого-то за нос или кого-то с ним оставляем. Сонный человек "клюет" им, вместо того чтобы кивать головой. Большой нос, говорят, - через Волгу мост или - сто лет рос. В носу свербит к радостной вести, и ежели на кончике вскочит прыщ, то - вино пить. Писатель, который мельком сообщит, что кому-то муха села на нос, почитается в России юмористом. В ранних сочинениях Гоголь не раздумывая пользовался этим немудреным приемом, но в более зрелые годы сообщал ему особый оттенок, свойственный его причудливому гению. Надо иметь в виду, что нос как таковой с самого начала казался ему чем-то комическим (как, впрочем, и любому русскому), чем-то отдельным, чем-то не совсем присущим его обладателю и в то же время (тут мне приходится сделать уступку фрейдистам) чем-то сугубо, хотя и безобразно мужественным. Обидно читать, как, описывая: хорошенькую девушку, Гоголь хвалит ее за плавность черт гладкого, как яйцо, лица.
Надо признать, что длинный, чувствительный нос Гоголя открыл в литературе новые запахи (и вызвал новые острые переживания). Как сказано в русской пословице: "Тому виднее, у кого нос длиннее", а Гоголь видел ноздрями. Орган, который в его юношеских сочинениях был всего-навсего карнавальной принадлежностью, взятой напрокат из дешевой лавочки готового платья, именуемой фольклором, стал в расцвете его гения самым лучшим его союзником. Когда он погубил этот гений, пытаясь стать проповедником, он потерял и свой нос так же, как его потерял майор Ковалев.
Вот почему есть что-то до ужаса символическое в пронзительной сцене, когда умирающий тщетно пытался скинуть чудовищные черные гроздья червей, присосавшихся к его ноздрям. Мы можем вообразить, что он чувствовал, если вспомним, что всю жизнь его донимало отвращение ко всему слизистому, ползучему, увертливому, причем это отвращение имело даже религиозную подоплеку. Ведь до сих пор еще не составлено научное описание разновидностей черта, нет географии его расселения; здесь можно было бы лишь кратко перечислить русские породы. Недоразвитая, вихляющая ипостась нечистого, с которой в основном общался Гоголь, - это для всякого порядочного русского тщедушный инородец, трясущийся, хилый бесенок с жабьей кровью, на тощих немецких, польских и французских ножках, рыскающий мелкий подлец, невыразимо гаденький. Раздавить его - и тошно и сладостно, но его извивающаяся черная плоть до того гнусна, что никакая сила на свете не заставит сделать это голыми руками, а доберешься до него каким-нибудь орудием - тебя так и передернет от омерзения. Выгнутая спина худой черной кошки, безвредная рептилия с пульсирующим горлом или опять же хилые конечности и бегающие глазки мелкого жулика (раз тщедушный - наверняка жулик) невыносимо раздражали Гоголя из-за сходства с чертом. А то, что его дьявол был из породы мелких чертей, которые чудятся русским пьяницам, снижает пафос того религиозного подъема, который он приписывал себе и другим. На свете есть множество диковинных, но вполне безвредных божков с чешуей, когтями и даже раздвоенными копытцами, но Гоголь никогда этого не признавал. В детстве он задушил и закопал в землю голодную, пугливую кошку не потому, что был от природы жесток, а потому, что мягкая вертлявость бедного животного вызывала у него тошноту. Как-то вечером он рассказывал Пушкину, что самое забавное зрелище, какое ему пришлось видеть, это судорожные скачки кота по раскаленной крыше горящего дома, - и, верно, недаром: вид дьявола, пляшущего от боли посреди той стихии, в которой он привык мучить человеческие души, казался боявшемуся ада Гоголю на редкость комическим парадоксом. Когда он рвал розы в саду у Аксакова и его руки коснулась холодная черная гусеница, он с воплем кинулся в дом. В Швейцарии он провел целый день, убивая ящериц, выползавших на солнечные горные тропки. Трость, которой он для этого пользовался, можно видеть на дагерротипе, снятом в Риме в 1845 г. Весьма элегантная вещица.
2
На этом снимке он изображен в три четверти и держит в тонких пальцах правой руки изящную трость с костяным набалдашником (словно трость - писчее перо). Длинные, но аккуратно приглаженные волосы с левой стороны разделены пробором. Неприятный рот украшен тонкими усиками. Нос большой, острый, соответствует прочим резким чертам лица. Темные тени вроде тех, что окружают глаза романтических героев старого кинематографа, придают его взгляду глубокое и несколько затравленное выражение. На нем сюртук с широкими лацканами и франтовской жилет. И если бы блеклый отпечаток прошлого мог расцвести красками, мы увидели бы бутылочно-зеленый цвет жилета с оранжевыми и пурпурными искрами, мелкими синими глазками; в сущности, он напоминает кожу какого-то заморского пресмыкающегося.
3
Его детство? Ничем не примечательно. Переболел обычными болезнями: корью, скарлатиной и pueritus scribendi . Слабое дитя, дрожащий мышонок с грязными руками, сальными локонами и гноящимся ухом. Он обжирался липкими сладостями. Соученики брезговали дотрагиваться до его учебников. Окончив гимназию в Нежине, он поехал в Санкт-Петербург искать место. Приезд в столицу был омрачен сильной простудой, которая усугубилась тем, что Гоголь отморозил нос и тот потерял всякую чувствительность. Триста пятьдесят рублей были сразу же истрачены на новую одежду, во всяком случае, такую сумму он указывает в одном из почтительных писем матери. Однако, если верить легенде, которыми в более поздние годы Гоголь любил украшать свое прошлое, первое, что он сделал, приехав в столицу, был визит к Пушкину, которым он бурно восхищался, не будучи знаком с великим поэтом лично. Великий поэт еще не вставал с постели и никого не принимал. "Бог ты мой! - воскликнул Гоголь с благоговением и сочувствием. - Верно, всю ночь работал?" - "Ну уж и работал, - фыркнул лакей Пушкина, - небось, в карты играл!" Лет за пятнадцать до того Пушкин, перевесившись через перила лицейской лестницы, дожидался приезда знаменитого поэта Державина, полную белую руку которого он мечтал облобызать в знак благоговения. Почтенный старец обернулся к слуге, помогавшему ему снять пальто, и пробурчал: "Где тут у вас, голубчик, нужник?" Мораль обеих историй одна и та же, и живи во дни молодости Державина какой-нибудь великий поэт, и у Державина нашлась бы в запасе своя басня.
За этим последовали не слишком настойчивые поиски службы, сопровождаемые просьбами к матери о деньгах. Он привез в Петербург несколько поэм - одна из них, длинная и туманная, звалась "Ганц Кюхельгартен", в другой описывалась Италия:
Италия - роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует;
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная веснует.
Стихи явно принадлежали перу еще "веснующего" поэта, однако кое-где попадались прекрасные строчки, такие, например, как "и путник зреть великое творенье, сам пламенный, из снежных стран спешит" или "луна глядит на мир, задумалась и слышит, как под веслом проговорит волна".
В поэме "Ганц Кюхельгартен" рассказывается о несколько байроническом немецком студенте; она полна причудливых образов, навеянных прилежным чтением кладбищенских немецких повестей:
Подымается протяжно
В белом саване мертвец,
Кости пыльные он важно
Отирает, молодец!
Эти неуместные восклицания объясняются тем, что природная украинская жизнерадостность Гоголя явно взяла верх над немецкой романтикой. Больше ничего о поэме не скажешь: не считая этого обаятельного покойника, она - полнейшая, беспросветная неудача. Написанная в 1827 г., поэма была опубликована в 1829-м. Гоголь, которого многие современники обвиняли в том, что он любил напускать на себя таинственность, в данном случае может быть оправдан - он не зря пугливо выглядывал из-за нелепо придуманного псевдонима В. Алов, ожидая, что же теперь будет. А было гробовое молчание, за которым последовала короткая, но убийственная отповедь в "Московском телеграфе". Гоголь со своим верным слугой кинулись в книжные лавки, скупили все экземпляры "Ганца" и сожгли их. И вот литературная карьера Гоголя началась так же, как и окончилась лет двадцать спустя, - аутодафе, причем в обоих случаях ему помогал покорный и ничего не разумеющий крепостной.
Что восхищало его в Петербурге? Многочисленные вывески. А еще что? То, что прохожие сами с собой разговаривают и непременно жестикулируют на ходу. Читателям, которые любят такого рода сопоставления, интересно заметить, как щедро использована тема вывесок в его позднейших сочинениях, а бормочущие прохожие отозвались в образе Акакия Акакиевича из "Шинели". Подобные параллели довольно поверхностны и, пожалуй, неверны. Внешние впечатления не создают хороших писателей; хорошие писатели сами выдумывают их в молодости, а потом используют так, будто они и в самом деле существовали. Петербургские вывески конца 20-х гг. были нарисованы и многократно воспроизведены самим Гоголем в его письмах, чтобы показать матери, а может, и собственному воображению, символический образ "столицы" в противовес "провинциальным городам", которые мать знала (где вывески были ничуть не менее выразительными: те же синие сапоги; крест-накрест положенные штуки сукна; золотые крендели и другие еще более изысканные эмблемы, которые описаны Гоголем в начале "Мертвых душ"). Символизм Гоголя имел физиологический оттенок, в данном случае зрительный. Бормотание прохожих тоже было символом, в данном случае слуховым, которым он хотел передать воспаленное одиночество бедняка в благополучной толпе. Гоголь, Гоголь и больше никто, разговаривал с собой на ходу, но этому монологу вторили на разные голоса призрачные детища его воображения. Пропущенный сквозь восприятие Гоголя, Петербург приобрел ту странность, которую приписывали ему почти столетие; он утратил ее, перестав быть столицей империи. Главный город России был выстроен гениальным деспотом на болоте и на костях рабов, гниющих в этом болоте; тут-то и корень его странности - и его изначальный порок. Нева, затопляющая город, - это уже нечто вроде мифологического возмездия (как описал Пушкин); болотные духи постоянно пытаются вернуть то, что им принадлежит; видение их схватки с медным царем свело с ума первого из "маленьких людей" русской литературы, героя "Медного всадника". Пушкин чувствовал какой-то изъян в Петербурге; приметил бледно-зеленый отсвет его неба и таинственную мощь медного царя, вздернувшего коня на зябком фоне пустынных проспектов и площадей. Но странность этого города была по-настоящему понята и передана, когда по Невскому проспекту прошел такой человек, как Гоголь. Рассказ, озаглавленный именем проспекта, выявил эту причудливость с такой незабываемой силой, что и стихи Блока, и роман Белого "Петербург", написанные на заре нашего века, кажется, лишь полнее открывают город Гоголя, а не создают какой-то новый его образ. Петербург никогда не был настоящей реальностью, но ведь и сам Гоголь, Гоголь-вампир, Гоголь-чревовещатель, тоже не был до конца реален. Школьником он с болезненным упорством ходил не по той стороне улицы, по которой шли все; надевал правый башмак на левую ногу; посреди ночи кричал петухом и расставлял мебель своей комнаты в беспорядке, словно заимствованном из "Алисы в Зазеркалье". Немудрено, что Петербург обнаружил всю свою причудливость, когда по его улицам стал гулять самый причудливый человек во всей России, ибо таков он и есть, Петербург: смазанное отражение в зеркале, призрачная неразбериха предметов, используемых не по назначению; вещи, тем безудержнее несущиеся вспять, чем быстрее они движутся вперед; бледно-серые ночи вместо положенных черных и черные дни - например, "черный день" обтрепанного чиновника. Только тут может отвориться дверь особняка и оттуда запросто выйти свинья. Только тут человек садится в экипаж, но это вовсе не тучный, хитроватый, задастый мужчина, а ваш Нос; это "смысловая подмена", характерная для снов. Освещенное окно дома оказывается дырой в разрушенной стене. Ваша первая и единственная любовь - продажная женщина, чистота ее - миф, и вся ваша жизнь - миф. "Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз" ("Невский проспект"). Вот они, вывески.
Двадцатилетний художник попал как раз в тот город, который был нужен для развития его ни на что не похожего дарования; безработный молодой человек, дрожавший в туманном Петербурге, таком отчаянно холодном и сыром по сравнению с Украиной (с этим рогом изобилия, сыплющим плоды на фоне безоблачной синевы), вряд ли мог чувствовать себя счастливым. И тем не менее внезапное решение, которое он принял в начале июля 1829 г., так и не объяснено его биографами. Взяв деньги, присланные матерью совсем для другой цели, он вдруг сбежал за границу. Я могу лишь заметить, что после каждой неудачи в его литературной судьбе (а провал его злосчастной поэмы был им воспринят так же болезненно, как позже критический разнос его бессмертной пьесы) он поспешно покидал город, в котором находился. Лихорадочное бегство было лишь первой стадией той тяжелой мании преследования, которую ученые со склонностью к психиатрии усматривают в его чудовищной тяге к перемене мест. Сведения об этом первом путешествии показывают Гоголя во всей его красе - он пользуется своим даром воображения для путаного и ненужного обмана. Об этом говорят письма к матери, где рассказано о его отъезде и странствиях.
4
Пожалуй, тут уместно хоть коротко сказать о его матери, хотя, откровенно говоря, меня мутит, когда я читаю литературные биографии, где матери ловко домыслены из писаний своих сыновей, а потом неизменно оказывают влияние на своих замечательных отпрысков. Считалось, что это нелепая, истеричная, суеверная, сверхподозрительная и все же чем-то привлекательная Мария Гоголь внушила сыну боязнь ада, которая терзала его всю жизнь. Но, пожалуй, вернее сказать, что они с сыном просто схожи по темпераменту, и нелепая провинциальная дама, которая раздражала своих друзей утверждением, что паровозы, пароходы и прочие новшества изобретены ее сыном Николаем (а самого сына приводила в неистовство, деликатно намекая, что он сочинитель каждого только что прочитанного ею пошленького романчика), кажется нам, читателям Гоголя, просто детищем его воображения. Он так ясно сознавал, какой у нее дурной литературный вкус, и так негодовал на то, что она преувеличивает его творческие возможности, что, став писателем, никогда не посвящал ее в свои литературные замыслы, хотя в прошлом и просил у нее сведений об украинских обычаях и именах. Он редко с ней виделся в те годы, когда мужал его гений. В его письмах неприятно сквозило холодное презрение к ее умственным способностям, доверчивости, неумению вести хозяйство в имении, хотя в угоду самодовольному полурелигиозному укладу он постоянно подчеркивал свою сыновнюю преданность и покорность - во всяком случае, пока был молод, - облекая это в на редкость сентиментальные и высокопарные выражения. Читать переписку Гоголя - унылое занятие, но вот это письмо, наверное, исключение.
(Ему надо было объяснить матери свой внезапный отъезд, и он выбрал для этого повод, который мог прийтись по душе ее романтической натуре.)
"Маменька!
Не знаю, какие чувства будут волновать вас при чтении письма моего; но знаю только то, что вы не будете покойны. Говоря откровенно, кажется, еще ни одного вполне истинного утешения я не доставил вам. Простите, редкая, великодушная мать, еще доселе недостойному вас сыну.
Теперь собираясь с силами писать к вам, не могу понять, отчего перо дрожит в руке моей, мысли тучами налегают одна на другую, не давая одна другой места, и непонятная сила нудит и вместе отталкивает их излиться пред вами и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня справедливым наказанием тяжкую десницу Всемогущего; но как ужасно это наказание! Безумный! я хотел-было противиться этим вечно-неумолкаемым желаниям души, которые один Бог вдвинул в меня, претворил меня в жажду ненасытимую бездейственною рассеянностью света. Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по скользким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеевать благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти божественные помыслы и пресмыкаться в столице здешней между сими служащими, издерживающими жизнь так бесплодно. Пресмыкаться другое дело там, где каждая минута жизни не утрачивается даром, где каждая минута - богатый запас опытов и знаний. Но изжить там век, где не представляется совершенно впереди ничего, где все лета, проведенные в ничтожных занятиях, будут тяжким упреком звучать душе. - Это убивственно! Что за счастье дослужить в 50 лет до какого-нибудь статского советника, пользоваться жалованьем, едва стающим себя содержать прилично, и не иметь силы принести на копейку добра человечеству. Смешны мне очень здешние молодые люди: они беспрестанно кричат, что они служат совершенно не для чинов и не для того, чтобы выслужить. Спросите же у них, для чего они служат? - они не будут сами в состоянии сказать: так, для того, чтобы не сидеть дома, не бить баклуши. Еще глупее те, которые оставляют отдаленные провинции, где имеют поместья, где могли бы быть хорошими хозяинами и принесть несравненно больше пользы, или если уже дворянину непременно нужно послужить, служили бы в своих провинциях; так нет, надо потаскаться в Петербург, где мало того что ничего не получат, но сколько еще перетаскают денег из дому, которые здесь истребляют неприметно в ужасном количестве.
Несмотря на это все я решился, в угодность вам больше, служить здесь, во что бы ни стало, но Богу не было этого угодно. Везде совершенно я встречал одни неудачи, и что всего страннее там, где их вовсе нельзя было ожидать. Люди, совершенно неспособные, без всякой протекции легко получали то, чего я с помощью своих покровителей не мог достигнуть; не явный ли был здесь надо мною промысел Божий? не явно ли он наказывал меня этими всеми неудачами в намерении обратить на путь истинный? Что ж? я и тут упорствовал, ожидал целые месяцы, не получу ли чего. Наконец... какое ужасное наказание! Ядовитее и жесточе его для меня ничего не было в мире. Я не могу, я не в силах написать... Маминька! Дрожайшая маминька! Я знаю, вы одни истинный друг мне. Но верите ли, и теперь, когда мысли мои уже не тем заняты, и теперь при напоминании невыразимая тоска врезывается в сердце. Одним вам я только могу сказать... Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом человеке... Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости. Но я видел ее... нет, не назову ее... она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение низко и не кстати для нее. Ангел - существо, не имеющее ни добродетелей, ни пороков, не имеющее характера, потому что не человек, и живущее мыслями в одном небе. Но нет, болтаю пустяки и не могу выразить ее. Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлеется в сердце; глаза, быстро пронзающие душу. Но их сияния, жгущего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков... О если бы вы посмотрели на меня тогда... правда, я умел скрывать себя от всех, но укрылся ли от себя? Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была... я по крайней <мере> не слыхал подобной любви... В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я... Взглянуть на нее еще раз - вот бывало одно единственное желание, возраставшее сильнее и сильнее с невыразимою едкостью тоски. С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние, все совершенно в мире было для меня тогда чуждо, жизнь и смерть равно несносны, и душа не могла дать отчета в своих явлениях. Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в свою истерзанную душу. В умилении я признал невидимую Десницу, пекущуюся о мне, и благословил так дивно назначаемый путь мне. Нет, это существо, которое Он послал лишить меня покоя, расстроить шатко-созданный мир мой, не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвесть таких ужасных, невыразимых впечатлений. Это было божество. Им созданное, часть Его же Самого! Но, ради, Бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока.
Итак я решился. Но к чему, как приступить? Выезд за границу так труден, хлопот так много! Но лишь только я принялся, все, к удивлению моему, пошло как нельзя лучше, я даже легко получил пропуск. Одна остановка была наконец за деньгами. Здесь уже было я совсем отчаялся. Но вдруг получаю следуемые в Опекунский совет. Я сейчас отправился туда и узнал, сколько они могут нам дать просрочки на уплату процентов; узнал, что просрочка длится на четыре месяца после сроку, с платою по пяти рублей от тысячи в каждый месяц штрафу. Стало быть, до самого ноября месяца будут ждать. Поступок решительный, безрассудный: но что же было мне делать?.. Все деньги, следуемые в опекунский, оставил я себе и теперь могу решительно сказать: больше от вас не потребую. Одни труды мои и собственно <е> прилежание будут награждать меня. Что же касается до того, как вознаградить эту сумму, как внести ее сполна, вы имеете полное право данною и прилагаемою мною при сем доверенностью продать следуемое мне имение, часть или всё, заложить его, подарить и проч. и проч. Во всем оно зависит от вас совершенно. Я хотел было совершить купчую или дарственную запись, но нужно было мне платить за одну бумагу триста рублей. Впрочем вы и посредством доверенности будете владеть, как законный и полный владелец.
Не огорчайтесь, добрая, несравненная маминька! Этот перелом для меня необходим. Это училище непременно образует меня: я имею дурной характер, испорченный и избалованный нрав (в этом признаюсь я от чистого сердца); лень и безжизненное для меня здесь пребывание непременно упрочили бы мне их навек. Нет, мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвесть силою души в вечном труде и деятельности, и если я не могу быть счастлив (нет, я никогда не буду счастлив для себя. Это божественное существо вырвало покой из груди моей и удалилось от меня), по крайней мере всю жизнь посвящу для счастия и блага себе подобных.
Но не ужасайтесь разлуки, я недалеко поеду: путь мой теперь лежит в Любек. Это большой приморский город Германии, известный торговыми своими сношениями всему миру. Расстоянием от Петербурга на четыре дня езды. Я еду на пароходе и потому времени употреблю еще менее. Письма ваши только четырьмя днями будут позже доходить ко мне. Покуда это письмо дойдет до вас, я успею написать к вам уже из Любека и известить о своем адресе, а до того, если хотите писать ко мне, можете адресовать в С.-Петербург, на имя его благородия Николая Яковлевича Прокоповича, в дом Иохима, на Большой Мещанской. Что же касается до свидания нашего, то не менее как чрез два или три года могу я быть в Васильевке вашей. Не забудьте прислать пашпорт Акиму, т. е. плакатный билет (ему нельзя жить здесь без места), всё же адресуясь на имя Прокоповича.
Теперь припадаю к страшным стопам Всевышнего с прошением и мольбою, да сохранит драгоценные и священные для нас годы жизни вашей, да отвеет от вас всё, наносящее вам горечи и неудовольствия, и да исполнит меня силы истинно заслужить ваше материнское благословение. Ваш преданнейший сын, любящий вас более всего Николай Гоголь-Яновский.
Принося чувствительнейшую и невыразимую благодарность за ваши драгоценные известия о малороссиянах, прошу вас убедительно не оставлять и впредь таковыми письмами. В тиши уединения я готовлю запас, которого, порядочно не обработавши, не пущу в свет, я не люблю спешить, а тем более занимать поверхностно. Прошу также, добрая и несравненная маменька, ставить как можно четче имена собственные и вообще разные малороссийские проименования. Сочинение мое, если когда выйдет, будет на иностранном языке, и тем более мне нужна точность, <чтобы> не исказить неправильными именованиями существенного имени нации. Извините, что и теперь не оставляю беспокоить вас подобными просьбами; но зная, с каким удовольствием вы внимаете им, беру эту смелость. В замену опишу вам быт и занятия добрых немцев, дух новизны, странность и прелесть еще доселе мною невиданного и всё, что произведет сильное впечатление на меня. Благодарю также чувствительно почтеннейшего Савву Кирилловича. Прошу его также присылать приписочки в ваше письмо.
Деньги вы можете адресовать прямо в Опекунский совет импер <аторского> воспит <ательного> дома. Можно просрочить по самый ноябрь, но лучше если бы они получили в половине или начале октября. Не забудьте: с тысячи по пяти рублей в месяц штрафу.
Прошу вас покорнейше также, если случатся деньги когда-нибудь, выслать Данилевскому 100 рублей. Я у него взял шубу на дорогу себе, также несколько белья, чтобы не нуждаться в чем. Адрес его: В школу гвардейских подпрапорщиков у Синего мосту.
Целую тысячу раз милых сестриц моих, Аниньку и Лизу. Ради Бога, прилагайте возможное попечение о воспитании Аниньки; старайтесь ей дать уразуметь языки и все полезное. Я предрекаю вам, что это удивительное дитя будет гений, какого не видывали".
Я привел письмо целиком, потому что оно напоминает моток шерсти, чьи разноцветные нити будут потом вплетены в последующие высказывания Гоголя. Прежде всего, какой бы ни была его любовная жизнь (насколько известно, в зрелые годы он выказывал полное равнодушие к женскому полу), ясно, что намеки на "возвышенное создание", на языческую богиню, по странной прихоти созданную христианским Богом, - образчик витиеватого и бессовестного вымысла. Не говоря уж о том, что ближайшие друзья категорически утверждали, будто ничего даже отдаленно напоминавшего романтическую драму молодой Гоголь никогда не переживал, стиль этой части письма до смешного противоречит его прозаическому целому (скобка в одном из абзацев подчеркивает ее чужеродную природу), и автора можно заподозрить в том, что он просто переписал кусок из какой-то повестушки, которую сочинял в подражание сладкоречивой беллетристике своего времени. Пассаж относительно бесплодности и даже греховности усилий стать городским чиновником-бумагомаракой, вместо того чтобы возделывать землю, данную самим Богом русским помещикам, предвосхищает идеи, которые Гоголь развил в своих "Выбранных местах из переписки с друзьями"; то, что сам он только и мечтал как-нибудь разделаться с этой землей, еще больше усугубляет несуразность его письма. Призыв к провидению или, вернее, странная склонность (разделяемая его матерью) объяснять Божьим промыслом любой свой каприз или случайное событие, в которых лишь он (или она) ощущает дух святости, также очень характерны и показывают, какой насыщенной творческой фантазией (а потому метафизически ограниченной) была религиозность Гоголя и как мало он замечал столь страшившего его дьявола, когда тот подталкивал его руку со строчившим без устали пером. Мы читаем, как, обсудив с позиций провидения порочную действительность русского бюрократизма, он тут же прибегает к этому же провидению, чтобы оно подтвердило его собственную выдумку. Понимая, что отвращение к конторской работе не покажется матери убедительным доводом и она, как всякая провинциальная дама той поры, уважает "коллежского асессора" меньше, чем "коллежского советника" (звания в китайской иерархии тогдашней России), он выдумал более романтическое объяснение своего бегства. И намекнул (намека этого его мать не поняла), что предмет его страсти - девица высокородная, быть может, даже дочь действительного статского советника. Та часть письма, которая порождена не одной лишь фантазией, также типична для Гоголя. Спокойно доложив матери, что он взял деньги, которые ему не принадлежали или, во всяком случае, не предназначались для его личных нужд, и предложив ей взамен имущество, которым, как он знал, она никогда не воспользуется, Гоголь торжественно клянется, что больше не попросит у нее ни копейки, а потом как бы между прочим выпрашивает еще сто рублей. В переходе от божественного к большому торговому городу уже есть то снижение, которым он так артистически пользовался в позднейших своих произведениях. Быть может, самое интересное в этом письме - довод, к которому Гоголь будет судорожно прибегать на каждом решающем этапе своей литературной жизни: для того чтобы "в тиши одиночества" совершить нечто важное для блага "себе подобных", которых в реальной жизни он так чуждался, ему необходима обстановка чужой страны, любой чужой страны.
13 июля 1829 г., одетый в свой лучший синий сюртук с медными пуговицами, он высадился в Любеке и сразу же написал еще одно письмо матери, где привел новое с иголочки и столь же выдуманное объяснение своего отъезда из Петербурга:
"Я, кажется, и забыл объявить вам главной причины, заставившей меня именно ехать в Любек. Во всё почти время весны и лета в Петербурге я был болен; теперь хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи, что у меня кровь крепко испорчена, что мне нужно было принимать кровоочистительный декокт, и присудили пользоваться водами в Травемунде , в небольшом городке, в 18 верстах от Любека..."
Он, как видно, совершенно забыл о своей прежней романтической выдумке, но, к несчастью, о ней не забыла мать. Сопоставив таинственную страсть и столь же таинственную сыпь, почтенная дама сделала поспешный вывод, что сын ее связался с дорогой кокоткой и схватил венерическую болезнь. Получив ее ответ на свои два письма, Гоголь пришел в ужас. Он еще не раз в своей жизни получит неожиданную отповедь, затратив немало усилий, фантазии и красноречия, чтобы создать ложное представление у своих адресатов касательно какого-нибудь своего желания или намерения. Его затея не увенчалась успехом, и, вместо того чтобы очередную выдумку признали или хотя бы подвергли критике в ее же пределах и в том же ключе, наградой ему будет гневный окрик и негодование. Чем больше пафоса он вложит, чем торжественнее возьмет тон, чем глубже будут его чувства или, по крайней мере, те чувства, которые он выразит самым набожным и раздражающим слогом, тем сильнее и неожиданнее будет полученный отпор. Он распустит все свои паруса на крепчайшем ветру и вдруг заскрипит килем по каменистому дну чудовищного непонимания. Его ответ на письмо матери, превратно понявшей ту версию, которую он так тщательно изобретал (погубило же вымысел непредвиденное сопоставление двух его половин, ибо ничто не дает в руки дьяволу такого оружия, как удвоение причин для вящей правдоподобности), уже предвещает то недоумение, которое он испытает через несколько лет, узнав об отношении друзей к его взгляду на обязанности помещиков или к его намерению анонимно внести свои литературные гонорары в помощь нуждающимся студентам, вместо того чтобы платить долги не менее нуждающимся друзьям. Возмущенно опровергнув ложное истолкование своего письма, он излагает матери еще одну версию своего отъезда из Петербурга - его биографы видят в ней намек на его душевное состояние после неудачи "Ганца Кюхельгартена": "Вот вам мое признание: одни только гордые помыслы юности, проистекавшие, однако ж, из чистого источника, из одного только пламенного желания быть полезным, не будучи умеряемы благоразумием, завлекли меня слишком далеко".
Трудно сказать, как он провел те два месяца за границей (в Любеке, Травемюнде и Гамбурге). Один из биографов даже утверждает, будто он в то лето вовсе и не ездил за границу, а оставался в Петербурге (так же, как несколько лет спустя Гоголь обманывал мать, думавшую, что сын ее все еще в Триесте, хотя он уже вернулся в Москву). В письмах Гоголь как-то странно, будто сон, описывает виды Любека. Интересно заметить, что его описание курантов на любекском соборе ("Когда настанет 12 часов, большая мраморная фигура вверху бьет в колокол 12 раз. Двери с шумом отворяются вверху; из них выходят стройно - один за другим 12 апостолов, в обыкновенный человеческий рост, поют и наклоняются каждый, когда проходят мимо изваяния Иисуса Христа...") легло в основу кошмара, который мать его увидела шесть лет спустя; несчастья, которые, как она воображала, стряслись с Николаем, перемешались у нее в сознании с фигурами на курантах, и, быть может, этот сон, пророчивший страдания сына в годы его религиозной мании, был не так уж лишен смысла. Я люблю следить за странными очертаниями теней, упавших на далекие жизни, и много бы дал, чтобы узнать фамилию и род занятий того безымянного американца ("гражданина из Американских Штатов", как выразился Гоголь), который вместе со швейцарской четой, англичанином и индусом (в угоду матери превращенным в "индейского набоба") обедал в любекской харчевне, где молодой длинноносый московитянин в мрачном молчании поглощал свою еду. Нам часто снятся ничего не значащие люди - случайный спутник или какая-нибудь личность, встреченная много лет назад. Можно вообразить, как ушедший на покой бостонский делец рассказывает в 1875 г. жене, что ему ночью снилось, будто он с молодым русским или поляком, которого в давние годы встретил в Германии, покупает в антикварной лавке часы и весы.
5
Гоголь так же внезапно вернулся в Петербург, как оттуда уехал. В его перелетах с места на место всегда было что-то от тени или от летучей мыши. Ведь только тень Гоголя жила подлинной жизнью - жизнью его книг, а в них он был гениальным актером. Стал бы он хорошим актером в прямом смысле этого слова? От ненависти к канцелярской работе он подумывал пойти на сцену, но испугался экзамена или провалился на нем. Это было его последней попыткой уклониться от государственной службы, потому что в конце 1829 г. мы находим его на должности чиновника, но в основном его деятельность на этом поприще заключалась в переходе из одного присутственного места в другое. В начале 1830 г. он напечатал рассказ, который позднее вошел в первый том его украинских повестей ("Вечера на хуторе близ Диканьки"). В это же время в "Северных цветах" появились главы из исторического романа (слава Богу, так и не оконченного); журнал редактировал Дельвиг, поэт антологического склада, склонный к классическому холоду гекзаметра. (Восхищаясь изяществом и сноровкой, с какими тучный подслеповатый Дельвиг производил русификацию греческого духа, Пушкин тем не менее говорил о его совершенно безличном, отвлеченном стихе: забавно - чем ближе к небесам, тем делается холоднее.) Главы исторического романа подписаны "0000". Четверка нулей, как говорят, произошла от четырех "о" в имени Николай Гоголь-Яновский. Выбор пустоты, да еще и умноженной вчетверо, чтобы скрыть свое "я", очень характерен для Гоголя.
В одном из своих многочисленных посланий к матери он так описывает свой день:
"В 9 часов утра отправляюсь я каждый день в свою должность и пребываю там до 3-х часов, в половине четвертого я обедаю, после обеда в 5 часов отправляюсь я в класс, в академию художеств, где занимаюсь живописью, которую я никак не в состоянии оставить... (он пишет далее, что ему и приятно и полезно общение с более или менее знаменитыми художниками) я не могу не восхищаться их характером и обращением; что это за люди! Узнавши их, нельзя отвязаться от них навеки, какая скромность при величайшем таланте!.. В классе, который посещаю я три раза в неделю, просиживаю два часа; в 7 часов прихожу домой, иду к кому-нибудь из своих знакомых на вечер, - которых у меня таки не мало. Верите ли, что одних однокорытников моих из Нежина до 25 человек... С 9 часов вечера я начинаю свою прогулку... в 11 часов вечера гулянье прекращается, и я возвращаюсь домой, пью чай, если нигде не пил... иногда прихожу домой часов в 12 и в 1 час, и в это время еще можно видеть толпу гуляющих. Ночей, как вам известно, здесь нет; все светло и ясно, как днем, только что нет солнца".
Дельвиг рекомендовал молодого Гоголя поэту Жуковскому, а тот - литературному критику и университетскому профессору Плетневу, который памятен главным образом тем, что Пушкин посвятил ему "Евгения Онегина". Плетнев и особенно Жуковский стали близкими друзьями Гоголя. В мягком, набожном, медоточивом Жуковском ему встретился тот духовный темперамент, который можно счесть пародией на его собственный, если оставить в стороне яростную, почти средневековую страсть, какую Гоголь вкладывал в свою метафизику. Жуковский был поразительным переводчиком и в переводах из Цедлица и Шиллера превзошел подлинники; один из величайших второстепенных поэтов на свете, он прожил жизнь в чем-то вроде созданного им самим золотого века, где провидение правило самым благожелательным и даже благочинным образом, а, фимиам, который Жуковский послушно воскурял, его медоточивые стихи и "молоко сердечных чувств", которое в нем никогда не прокисало, - все это отвечало представлениям Гоголя о чисто русской душе; его не только не смущали, но, наоборот, даже внушали приятное возвышенное ощущение сродства излюбленные идеи Жуковского о совершенствовании мира, такие, к примеру, как замена смертной казни религиозным таинством, при котором вешать будут в закрытом помещении вроде церкви, под торжественное пение псалмов, невидимое для коленопреклоненной толпы, но на слух прекраснее и вдохновенное; одним из доводов, которые Жуковский приводил в защиту этого необычайного ритуала, было то, что отгороженное место, завесы, звонкие голоса священнослужителей и хора (заглушающие все непотребные звуки) не позволят осужденным куражиться при зрителях - греховно щеголять своей развязностью или отвагой перед лицом смерти.
При помощи Плетнева Гоголь получил возможность сменить поденщину государственной службы на поденщину педагогическую, с чего и началась его незадачливая учительская карьера (в качестве преподавателя истории в институте благородных девиц). И через того же Плетнева на приеме, устроенном им в мае 1831 г., Гоголь познакомился с Пушкиным.
Пушкин только что женился и, вместо того чтобы запереть супругу в самый темный чулан дальнего поместья, как ему и полагалось бы, знай он, что выйдет из этих дурацких придворных балов и якшанья с подлецами придворными (под присмотром равнодушного распутного царя, невежды и негодяя, чье царствование все целиком не стоило и страницы пушкинских стихов), привез ее из Москвы в столицу. Гений его был в полном расцвете, но русский поэтический ренессанс уже кончился, литературные угодья захватили стаи шарлатанов, и колченогие философы, "идеалисты" немецкого пошиба, первые ласточки гражданственной литературной критики, которая в конце концов выродилась в беспомощные писания разного толка народников, были единодушны в оценке величайшего поэта своей эпохи (а может, и всех времен, за исключением Шекспира) как пыльного пережитка ушедшего поколения или как представителя литературной "аристократии" - не знаю, что они хотели этим сказать. Серьезные читатели жаждали "фактов", "подлинности чувств", "интереса к человеку" точно так же, как эти бедняги жаждут их теперь.
"Сейчас прочел "Вечера близ Диканьки", - писал Пушкин другу. - Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали <сообщил об этом Пушкину сам Гоголь, и весьма вероятно, что сам же это выдумал>, что когда издатель вошел в типографию, где печатались "Вечера", то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою..."
Похвала Пушкина мне кажется несколько преувеличенной. Но нельзя забывать, что почти ничего поистине стоящего (кроме прозы самого Пушкина) в ту пору не публиковалось из русской художественной литературы. По сравнению с дешевыми подражаниями английским и французским романам XVIII в., которые покладистый читатель жадно глотал из-за отсутствия настоящей духовной пищи, "Вечера" Гоголя, конечно, были откровением. Их прелесть и юмор с тех пор разительно поблекли. Странное дело, но именно благодаря "Вечерам" (и первому и второму томам) за Гоголем укрепилась слава юмориста. Когда мне кто-нибудь говорит, что Гоголь "юморист", я сразу понимаю, что человек этот не слишком разбирается в литературе. Если бы Пушкин дожил до "Шинели" и "Мертвых душ", он бы, несомненно, понял, что Гоголь - нечто большее, чем поставщик "настоящей веселости". Недаром ходит легенда, кажется тоже придуманная Гоголем, что, когда незадолго до смерти Пушкина он прочел ему набросок первой главы "Мертвых душ", тот воскликнул: "Боже, как грустна наша Россия!"
Немало скороспелых похвал порождено было местным колоритом, а местный колорит быстро выцветает. Я никогда не разделял мнения тех, кому нравятся книги только за то, что они написаны на диалекте, или за то, что действие в них происходит в экзотических странах. Клоун в одежде, расшитой блестками, мне не так смешон, как тот, что выходит в полосатых брюках гробовщика и манишке. На мой вкус, нет ничего скучнее и тошнотворней романтического фольклора или потешных баек про лесорубов, йоркширцев, французских крестьян или украинских парубков. И поэтому два тома "Вечеров", так же как и два тома повестей, озаглавленных "Миргород" (куда вошли "Вий", "Тарас Бульба", "Старосветские помещики" и т. д.), появившиеся в 1835 г., оставляют меня равнодушным. Однако именно этими произведениями, юношескими опытами псевдоюмориста Гоголя, русские учителя забивали головы своих учеников. Подлинный Гоголь смутно проглядывает в "Арабесках" (включающих "Невский проспект", "Записки сумасшедшего" и "Портрет") и раскрывается полностью в "Ревизоре", "Шинели" и "Мертвых душах".
В период создания "Диканьки" и "Тараса Бульбы" Гоголь стоял на краю опаснейшей пропасти (и как он был прав, когда в зрелые годы отмахивался от этих искусственных творений своей юности). Он чуть было не стал автором украинских фольклорных повестей и красочных романтических историй. Надо поблагодарить судьбу (и жажду писателя обрести мировую славу) за то, что он не обратился к украинским диалектизмам как средству выражения, ибо тогда бы он пропал. Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом "Диканьки" и "Миргороды" - о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках.
Лет через двадцать пять я заставил себя перечесть "Вечера" и остался к ним так же холоден, как и в те дни, когда мой учитель не мог понять, почему от "Страшной мести" у меня не ползут по спине мурашки, а от "Шпоньки и его тетушки" я не покатываюсь со смеху. Но теперь я вижу, как там и сям сквозь оперную романтику и старомодный фарс смутно, но настойчиво проглядывает то, что предвещает настоящего Гоголя и что было неведомо и непонятно читателям 30-х гг. XIX в., критикам 60-х и учителям моей юности.
Возьмите, к примеру, сон Ивана Шпоньки - слабовольного, никчемного украинского помещика, которого властная самодурка тетка пыталась силой женить на белокурой дочке соседа.
"То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит вместо одинокой - двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно; он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену (тема удвоения кровати развивается по логике сна), тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону - стоит третья жена. Назад - еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад; но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. <Сон как фокус: размножение предметов.> Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком - и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу - и там сидит жена... То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом: "Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек". Он к ней - но тетушка уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колокольню. <Тут бы фрейдисты навострили уши!>
"Кто это тащит меня?" - жалобно проговорил Иван Федорович. "Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол". - "Нет, я не колокол, я Иван Федорович!"- кричал он. "Да, ты колокол", - говорил, проходя мимо, полковник П*** пехотного полка. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя; что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. "Какой прикажете материи? - говорит купец. - Вы возьмите жены, это самая модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюртуки". Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет под мышку, идет к жиду, портному. "Нет, - говорит жид, - это дурная материя! Из нее никто не шьет себе сюртука..."
В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович. Холодный пот лился с него градом.
Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец, по своей редкой доброте и бескорыстию, поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон".
И тут, в конце довольно посредственного рассказа, мы находим первое предвестие тех фантастических ритмов, которые позднее стали канвой "Шинели". Надеюсь, читатель заметил, что самое невероятное в приведенном выше отрывке - это не колокольня, не колокол, не множество жен и даже не полковник П***, а небрежно брошенная фраза о добром и человеколюбивом книгопродавце.
1 pueritus scribendi - детская графомания (лат.).
2 Травемунде (Травемюнде) - городок в Германии.