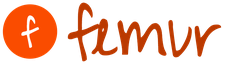Л.Н. Андреев и его «Иуда Искариот
Здравствуйте! Перечитал на днях "Иуду Искариота" Леонида Андреева. Скажите, как Вы относитесь к этой книге? И еще вопрос, который возник при прочтении: Леонид Андреев несколько положительно оценивает Иуду, жалеет его и несколько оправдывает. Почему же предопределил Иуду к предательству? Где здесь его свобода? Почему из числа многих был выбран некто, кто должен был совершить этот постыдный поступок? Есть некая несправедливость к человеку? (Ташкент)
Волконский Тимофей, 28 лет
Отвечает Шупенко О.В.,администратор сайта
Прошу прощения за недопустимый для инета перерыв в общении -причина банальная: лежу в больнице.Но вопрос не хочется снимать, так как творчество Л. Андреева любимо и проблемно. Прежде всего, автор Искариота не православный писатель, это художник- философ серебряного века, созидающего свое решение и понимание мировоззренческих и библейских истин. У него иная задача и иное видение соответственно Иуды Искариота.
Герой Леонида Андреева до дрожи телесной и духовной влюблен в Иисуса, но уверен, что Иисус до конца не понимает своей гениальной надмирности, своей власти над человеком и миром, и именно его, Иуды Искариота, миссия - выявить эту надмирность, показать всем, кто таков Христос. Он его постоянно называет сыночком, постоянно находится в состоянии психической и психологической сверхнапряженности, в ожидании, что "бомба" сейчас "жахнет" и от старого мира не останется даже осколков. Он берет на себя роль мученика во имя Христа, во имя его раскрываемости для каждого - и проигрывает, побеждается самим Иисусом. Господом с Его всепрощением, Его милосердием и сверхлюбовью к самому жалкому и слабому. Этого Иуда никак не ждал. Он не понимает, как царь и господин отвергает власть и смиренно принимает на себя греховность человеческую. И тогда Искариот с ужасом смертным осознает, что совершил предательство, злодейство, а не геройство и не мученичество во имя великой идеи.
Я люблю этого героя, ибо он средоточие нашей особенности - по-своему видеть вселенское событие, придавать ему свой, единично человеческий смысл и твердо быть уверенным, что его ложное понимание и есть истина. Он воплощение великого обмана человеческого - считать себя выше сверхсобытия, так как он, как уверен, может его объяснить и подттолкнуть. Это великий обман, который сопровождает человека всю историю земли и тогда, в начале двадцатого века, и сегодня, и в будущем.
В каждом из нас живет Иуда Искариот: мы считает себя избранниками судьбы и предаем, не понимая трагическую непоправимость предательства, оправдывая её именно великой целью. Иуда искренен до исступления и не понимает совершающегося до исступления. Он человек, и потому его жаль. Он мучительно идет к своей миссии, любя Христа, как никто другой. И он предает его, так как понять истинное предназначение Христа не смог. Он не верит никому, ни одному из апостолов, ни одной женщине, ибо понимает, что только его с Христом связывает особая связь, вековая связь. Слово предательство возникнет позднее.Роковая ошибка? Ужас, что не понял?
Почему Иуда предает Христа, по Андрееву? Потому что искренне считает, что помогает предательством высветить его пребывание на земле,потому что верит, что Христос "раскидает всех и вся" и все увидят, что лучше и выше его нет, ибо люди верят только во власть и силу. Свободнее Иуды никого в повести Андреева нет, ибо, как он считает,только он встает вровень с Учителем, только он настолько любит Учителя, что помогает ему выявить себя среди всех.Он не верит в муки и крестную казнь Иисуса,и все ждет, что тот как "жахнет" - и все поймут...
Писать об Андрееве коротко - прямолинейно. Но вернемся к вашему вопросу -почему именно Иуда, уже библейский, совершил этот поступок.Всегда предают самые близкие, особенно ученики. Это закон движения души и, очевидно, закон вселенский. Господь и Люцифер, Иисус и Иуда. Но Свет не прямолинеен, а,значит, и Тьма не однозначна. Иначе все было бы предельно ясно и просто.
Библейский Иуда также был в отчаянии и неистовстве, но не смог покаяться. Он бросил деньги, повесился над бездной, но не смог покаяться пред Господом. Он был настолько свободен в выборе, что эта свобода стала для него сродни пропасти без дна. Его противоборство с Христом настолько последовательно и целенаправлено, что смогло вдохновить исследователя темных бездн человеческой души Андреева. Но Иуду всегда будет жаль, так как его никогда не будет ждать прощение и Царство Небесное, и любящий взгляд Христа никогда не остановится на нем. Это он понял - и повесился.Вообще самоубийство Иуды -тема многотомного философского или богословского труда.
Иуда Искариот Андреева -не борец с Иисусом, он хочет помочь ему проявиться перед людьми, выказать свое величие. Он верит, что только он его главный помощник и ученик. Повесть Леонида Андреева гениальна, ибо он заглянул в сложнейшую библейскую тему и высветил свои талантом какую-то немаловажную часть её.
НазадВ рассказе переосмысляется библейская легенда о предательстве Иуды. Писатель считатет, что Иуда любил Христа и преклонялся перед ним, но он не во всем был согласен с Учителем. Для того, чтобы доказать свою правду о Человеке, он и предает Христа. Однако он абсолютно уверен в том, что Христос не пострадает, не казнят этого удивительного человека, его спасут... Но все отреклись от Христа, и лишь один Иуда был с ним до конца...
Скачать:
Предварительный просмотр:
Леонид Андреев. «Иуда Искариот» - переосмысление евангельской легенды.
Эпиграф урока:
Иди один и исцеляй слепых,
Чтобы узнать в тяжелый час сомненья
Учеников злорадное глумление
И равнодушие толпы.
А. Ахматова (1915 г.)
Ход урока
Обратимся к названию произведения. Какая тема здесь будет главной?
Предательство.
Слово учителя:
Л. Андреев не был первым, кто обратился к теме предательства Иуды. Существует немало других реконструкций образа Иуды и мотивов его предательства, но их количество и многообразие лишь подтверждает тот факт, что Иуда давно перестал быть только персонажем Священного Писания, превратившись в вечный образ мировой художественной культуры. Знакомство с Иудой начинается еще до его появления на страницах произведения. Мы узнаем об Иуде из рассказов о нем в народе.
Каким образом и что мы узнаем о нем?
Это “человек очень дурной славы”, “корыстолюбив”, “крадет искусно”, потому “его нужно остерегаться”.
Пояснения учителя:
То есть мирная жизнь города и христианской общины оказалась нарушена слухами, которые пугали. Так с первых строк в произведении начинает звучать мотив тревоги.
Пояснения учителя:
События последних дней Христа нашли отражение в искусстве, особенно в живописи. Этим событиям посвящены иконы, фрески, картины известнейших художников. Изображение Иуды ничем не отличается от других учеников: ни одеждой, ни безобразием лица, ни цветом волос, ни возрастом. В более поздних произведениях узнать Иуду легко по отсутствию нимба над головой, но опять же ничто в его внешности не вызывает подозрения или отвращения… Он такой же, как и остальные. Мы видим Иуду совсем не похожим на того, каким описал его Л. Андреев. Лука, Иоанн, Марк и Матфей поведали нам о жизни и смерти Иисуса Христа в Евангелии. Обратимся к тексту Евангелия от Матфея, потому что в нём мы найдём наибольшее количество упоминаний об Иуде.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
… Один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошёл к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников; и с того времени он искал удобного случая предать Его (гл.26).
… Когда же настал вечер, Он возлёг с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опечалились и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст меня; … При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал (гл.26).
…говорит им Иисус: …встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий меня. И когда ещё говорил он, вот, Иуда, один из двенадцати, пришёл, и с ним множество народа с мечами и кольями… Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его (гл.26).
… Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; … Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав Кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? Смотри сам. И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился (гл.27).
Он был худощав, хорошего роста… и достаточно крепок..., но зачем-то притворялся хилым и болезненным и голос имел переменчивый: то мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины, ругающей мужа, досадно-жидкий и неприятный для слуха…Короткие рыжие волосы не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа: точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он явственно делился на четыре части и внушал недоверие…Двоилось так же и лицо Иуды: одна сторона его, с черным, остро высматривающим глазом, была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая, плоская и застывшая; и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромною от широко открытого слепого глаза. Покрытый белесой мутью, не смыкающийся ни ночью, ни днем, он одинаково встречал и свет и тьму…
В чём особенность лица Иуды? Как это было связано с характером, поведением Иуды? Какое это имеет значение для понимания смысла произведения?
Двойственность, раздвоенность, противоречие во внешности Иуды, а также противоречивость его поведения: безобразный – называет себя красивым, сильный – притворяется слабым, больным; трусливый – бросается на защиту Христа, предаёт – и сам же хочет расстроить свои планы …
Кто и как называют героя в произведении?
Ученики Христа чаще называют Иудой, а автор - “уродина, “наказанная собака”, “насекомое”, “чудовищный плод”, “суровый тюремщик”, “старый обманщик”, “серый камень”, “предатель”. Л. Андреев часто называет героя не по имени, а метафорами, понятиями, имеющими обобщенное значение.
(Негативное.). Но нельзя забывать, что в основе произведения библейский сюжет. А что означает имя в Библии?
Слово учителя:
В религии существует культ имени. Есть даже религиозное направление – имяславие, имя и суть человека совпадают. Например, Христос – и имя, и божественная сущность. Зло никогда не будет во имя чего-то. Поэтому у преступников, как правило, прозвища. Имя – ценность. У Иуды не было дома, семьи, Детей, т.к. “Иуда – дурной человек и не хочет Бог потомства от Иуды”. Часто он называется оскорбительно, а не по имени.
Почему же такого жуткого человека приблизил к себе Иисус?
“Дух светлого противоречия влек его к отверженным и нелюбимым”. Т.е. поступками Иисуса руководит любовь к людям.
Как относится Иуда к Иисусу?
Любит. Это самый внимательный слушатель Христа.
Пояснение учителя:
Герои не общаются, каждый сам по себе, но между Иудой и Христом постоянно происходит негласный диалог-спор о человеке. И у каждого своя правда.
Какова правда Иисуса и какова правда Иуды? (текст)
Иисус Любит всех людей и верит в добро
Иуда … каждый человек, которого он знает, совершил в своей жизни какой-нибудь дурной поступок или даже преступление. Хорошими же людьми, по его мнению, называются те, которые умеют скрывать свои дела и мысли; но если такого человека обнять, приласкать и выспросить хорошенько, то из него потечет, как гной из проколотой раны, всякая неправда, мерзость и ложь.
Почему же меняется отношение Иисуса к нему? Какое событие тому предшествовало?
Иуда оказался прав, когда говорил о людях плохое. Это подтвердилось: женщина обвинила Иисуса в краже козленка, которого потом нашла запутавшимся в кустах.
Какое следующее событие усилило размолвку между Иудой и Иисусом?
Спасает жизнь Иисусу.
Чего ожидает Иуда за свой поступок и что получил?
Ожидал похвалы, благодарности, а еще больший гнев Иисуса, потому что лгал.
А какова позиция Христа?
Говорить правду.
Зачем Иисус рассказывает Иуде притчу о смоковнице?
Притча указывает на то, как Бог поступает с грешниками. Он не торопится рубить с плеча, а дает нам шанс исправиться, “желает покаяния грешников”.
Но считает ли Иуда себя грешником?
Нет. И менять свои взгляды не собирается. Однако он понимает, что Иисус не согласится с ним никогда. Тогда-то и решается Иуда на последний шаг: “А теперь он погибнет, и вместе с ним погибнет Иуда”.
Почему Иуда предаёт Христа в евангельском повествовании и чем это кончается?
Корыстолюбие, искушение дьявола, измена, “Тайная вечеря” (“и вошёл в него сатана”)
Раскаяние, самоубийство .
А с какой целью совершает предательство Иуда Л. Андреева?
Возможные ответы
Комментарий учителя:
Предательством он провоцирует всех и подталкивает к правильному выбору: если толпа спасет Иисуса и поверит ему, предательство Иуды будет оправданным. А если – нет, тогда для кого учение Христа? Иуда создал, подобно Раскольникову, теорию, согласно которой все люди плохие, и хочет теорию проверить на практике. Предательство Иуды – это его путь познания истины: кто есть человек на самом деле? Единственная возможность проверить, кто прав в – это поставить человека в экстремальные условия и, наблюдая за ним, определить, кто же прав в споре.
Сопоставим 2 эпизода («Вступление в Иерусалим», гл. 6 и «Суд Понтия», гл.8)
Гл. 6
…приветствовал его народ восторженными криками: - Осанна! Осанна! Грядый во имя господне! И так велико было ликование, так неудержимо в криках рвалась к нему любовь, что плакал Иисус, а ученики его говорили гордо: - Не сын ли это божий с нами? И сами кричали торжествующе: - Осанна! Осанна! Грядый во имя господне!
Гл. 8
Понтий говорит : и вот я при вас исследовал и не нашел человека этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его... И весь народ закричал, завопил, завыл на тысячу звериных и человеческих голосов: - Смерть ему! Распни его! Распни его!
О чем говорит сравнение этих эпизодов?
Сначала апофеоз признания истины Христа, т.е. добра и веры, затем злоба и необъяснимая ненависть…
Это говорит о нравственном падении человека, о том, что теория Иуды о человеке, скорее всего, верна.
Почему Иуда после приговора следит за Иисусом, не оставляет его ни на минуту?
Он до последнего надеется, что люди заступятся за Христа, что пелена упадет с их глаз, и они поймут, над каким удивительным человеком они измываются. (… бежит, провожаемый хохотом солдат. Ведь еще не все кончено. Когда они увидят крест, когда они увидят гвозди, они могут понять, и тогда... Что тогда? Видит оторопелого бледного Фому … видит плачущую Марию Магдалину…улучив мгновение, подбегает к Иисусу: - Я с тобою, - шепчет он торопливо. Солдаты отгоняют его и, извиваясь, чтобы ускользнуть от ударов, поясняет торопливо: - Я с тобою. Туда. Ты понимаешь, туда! Вытирает с лица кровь и грозит кулаком солдату... Ищет зачем-то Фому - но ни его, ни одного из учеников нет в толпе провожающих.
Слово учителя:
Иуда пытается убедить всех, что Иисус заслуживает лучшей доли, но никто (вплоть до учеников) не участвуют в судьбе Христа. Все молчат. Тема предательства – это еще и тема невмешательства, молчания и соглашательства.
Вывод:
Христа предал не только Иуда, но и все остальные
Иуда доказал теорию. Почему же он повесился?
Он пришел к заключению о бессилии человека противостоять окружающему злу и злу в самом себе. Увидел неотвратимость на земле зла, отсутствие любви, предательство. (Эпиграф)
К тому же он любил Христа, хотел быть с ним.
Настоящая любовь жертвенная. Чем жертвует Иуда?
Обрекает себя на вечный позор.
Как внешне преображается Иуда?
“…был взор его прост, и прям, и страшен в своей голой правдивости”. Двуличие исчезает – скрывать нечего.
Слово учителя:
В творчестве Л. Андреева ключевыми являются образы бездны и стены.
В какие моменты душевного состояния героев появляются образы стены и бездны?
Сам Андреев поясняет: « Стена – это то, что стоит на пути человека к новой совершенной жизни» Это политический и социальный гнет. Это несовершенство человеческой природы. Стена – это внешние силы, мешающие человеку. Бездна – это стена внутреннего мира. Это все бессознательное и непостижимое в природе человека
Эти образы в книге появляются тогда, когда Иуда ясно осознает запутанность жизни, противоречивость ситуации. Андреев считает, что человек всегда стоит между стеной и бездной и ему жалко человека.
Как вы относитесь к Иуде Л. Андреева?
Есть за что уважать: умен, разбирается в людях, искренне любит, способен отдать свою жизнь. Жалко его, но одновременно и презираешь. Двуличен он был, и чувства к нему двойственные
Кто же Иуда: победитель или побежденный?
Он и победитель, т.к. его теория подтвердилась. Он и побежденный, т.к. его победа далась ценой смерти.
Выводы:
Имя Иуды стало нарицательным. Означает “предатель”. Заканчивается повесть словом “предатель”, символизирующим распад человеческих отношений. Зло безобразно, поэтому его Иуда страшен, и автор неприязненно относится к нему, но соглашается с его суждениями. Автор перекраивает двухтысячелетние образы, чтобы заставить читателя возмутиться открывшейся бессмыслицей. В повести отразились вечные вопросы: что правит миром - добро или зло, истина или ложь, можно ли жить праведно в неправедном мире. Автор развенчивает образы апостолов, показывает несостоятельность христианских воззрений. Взгляды автора и Иуды совпадают.
Домашнее задание
1. Написать сочинение-миниатюру на тему: “Почему Иуда предал Христа?” и изложить свою версию.
12. Творчестов Андреева. Рассказы Ангелочек, Бездна, В тумане, Красный смех. Повести Жизнь Василия Фивейского, Иуда Искариот и др.
12. Творчество Л. Андреева.
Андреев Леонид Николаевич (9 (21). 8. 1871, Орел - 12.9.1919, д. Нейвала, Финляндия) - прозаик, драматург, публицист.
Детские и юношеские годы Андреева прошли в отцовском доме. В 1882его отдали в орловскую гимназию. Учился он, по собственному признанию,«скверно», но много и самозабвенно читал - Ж. Верна, Э. По, Ч. Диккенса, которого, вспоминал Андреев, «перечитывал десятки раз». Но свое сознательное отношение к книге он связывает с Д. И. Писаревым. Задумывался он и над трактатом Л. Н. Толстого «В чем моя вера?», «вгрызался» в Э.Гартмана и А. Шопенгауэра, чье сочинение «Мир как воля и представление»оказало на него сильнейшее и устойчивое влияние. Он и в зрелые годы оставался «под знаком» Шопенгауэра к его исторической и этической концепции восходят и трагическое миропонимание, и пессимизм, которые появлялись в творчестве писателя в кризисные моменты его развития.
В 1891 Андреев, по окончании гимназии, поступил на юридический факультет Петербургского университета. Отчисленный из него в 1893 «за невзнос платы», перевелся в Московский университет. Плату за обучение вносит за него Общество пособия нуждающимся. Бедствуя, Андреев дает уроки, рисует на заказ портреты (как и в Орле после смерти отца в 1889).
Окончив в 1897 университет кандидатом права, Андреев служит помощником присяжного поверенного, выступает в суде в качестве защитника. В 1897 начинается и систематическая литературная деятельность Андреева, хотя первое его выступление в печати состоялось в 1892, когда он в журнале «Звезда» опубликовал написанный им для заработка рассказ о голодающем студенте «В холоде и золоте» . Андреев входит в литературу автором многочисленных судебных репортажей, печатавшихся вначале в «Московском вестнике», а затем в газете «Курьер». Здесь он вел два цикла фельетонов, а с дек. 1901 заведовал беллетристическим отделом, где при его содействии появились первые произведения Б.К. Зайцева, А. М. Ремизова, Г. И. Чулкова и др.
Новеллистическое наследие Андреева включает в себя около девяноста рассказов. Большая их часть (свыше пятидесяти) создана в первый период творчества - с 1898 по 1904 гг. В новеллистике, отмеченной бурными художественными поисками, произошло становление писателя как мастера, здесь наметился круг его постоянных образов и тем. Начиная с 1905 г., Андреев работает и как прозаик, и как драматург. Постепенно театр занимает все бОльшее место в творчестве Андреева; на протяжении десяти лет он создает оригинальные театральные системы. Во второй половине 1900-х гг. и в 1910-е гг. Андреев написал примерно равное число рассказов: около двадцати в каждый период. При этом неуклонно растет количество драм: одиннадцать пьес создал Андреев в годы первой революции и годы реакции, семнадцать - в десятые годы. Повышение удельного веса драматургии отражало изменение жанровой ориентации художника. На это указывают не только количественные характеристики творческого спектра.
В своих ранних рассказах Андреев продолжает традиции «шестидесятников»: Н. В. Успенского, А. И. Левитова, Н. Г. Помяловского, Ф. М. Решетникова с типичной для их прозы «правдой без всяких прикрас» (Н. Г. Чернышевский), стихией бытописания, скурпулезной, не всегда художественно мотивированной детализацией. Но в лучших из них - «Баргамот и Гараська» (1898), «Петька на даче» (1899), «Ангелочек» (1899) - отчетливо проступают и социальные приметы героев, и противоречия времени, и сочувственно- сострадательное отношение автора к «униженным и оскорбленным», и авторская ирония.
Герой рассказа Л. Андреева «АНГЕЛОЧЕК» — человек с непокорной душой. Он не может спокойно отнестись к злу и унижению и мстит миру за подавление собственной личности, индивидуальности. Сашка делает это теми способами, которые приходят ему в голову: бьет товарищей, грубит, рвет учебники. Всеми силами он пытается привлечь к себе внимание и заставить с собой считаться.
На фоне описания жизни Сашки Андреев показывает сложные отношения в семье его родителей. Супруги, вместо того чтобы поддерживать друг друга, вымещают друг на друге досаду. Женившись на Феоктисте Петровне, Иван Савич стал пить и опустился. А ведь когда-то он учительствовал, его ценили и уважали. Об этом свидетельствует тот факт, что богачи Свечниковы продолжают поддерживать его деньгами, хотя он у них больше не работает.
Попытка Сашки обрести свободу привела к тому, что его выгнали из гимназии. И вдруг судьба неожиданно послала ему подарок: его пригласили в богатый дом на елку.
Даже на празднике герой держит себя высокомерно. В душе его царит озлобление. «Сашка был угрюм и печален — что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наг лым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и скопившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки», — пишет Л. Андреев. И вдруг Сашка видит на этой ненавистной елке то, без чего его жизнь была пуста, — воскового ангелочка. Автор не скупится на художественные детали при описании воскового ангелочка, подчеркивая его розовые ручки, стрекозиные крылышки. Однако при всей этой детализации неуловимым остается выражение лица у ангелочка. Это не радость и не печаль, а какое-то иное чувство, для обозначения которого автор долго не находит названия. Сашка, увидев ангелочка, шепчет лишь одно слово: «Милый». Герой просит дать ему ангелочка, а когда ему пытаются отказать, падает на колени, забывая свою гордыню, и выпрашивает себе игрушку. Получив ее, герой буквально преображается. В его движениях появляется мягкость и осторожность. Ангелочек олицетворяет в произведении тот чудный мир, где нет брани, грязи и эгоизма, а на душе чисто, радостно и светло: «К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку... дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда». Это чувство — любовь, счастье и желание жить. В финале произведения Сашка засыпает счастливым, в то время как ангелочек, повешенный у печки начинает таять и превращается в конце концов в бесформенный слиток.
«Ангелочек» посвящен Александре Михайловне Велигор-ской, ставшей женой писателя. Произведение имеет автобиографическую основу: в детстве у писателя однажды растаял такой ангелочек. Подчеркивая зыбкость образа воскового ангелочка, Андреев тем самым показывает, насколько призрачно счастье униженных и обездоленных в этом мире. Да, наверное, не только социальный план восприятия действительности важен в этой связи, но и общечеловеческий: каждый из нас нуждается в любви, ведь только тогда к нему приходит ощущение счастья. Но каждый из нас должен понимать, какое это хрупкое и мимолетное ощущение. Образ игрушечного ангелочка соотносится также с образом ангела-хранителя.
А. Блок, высоко оценивший произведение JI. Андреева, в 1909 году написал стихотворение «Сусальный ангел» по мотивам этого рассказа: «На разукрашенную елку И на играющих детей Сусальный ангел смотрит в щелку Закрытых наглухо дверей/ А няня топит печку в детской, Огонь трещит, горит светло... Но ангел тает. Он — немецкий. Ему не больно и тепло».
Дальнейшее творческое развитие Андреева предопределило не только его верность реализму и гуманистическим заветам русской классики. Он тяготеет и к созданию отвлеченно-аллегорических образов, выражающих по преимуществу авторскую субъективность, «одно голое настроение», как
отозвался М. Горький.
В марте 1900 состоялось личное знакомство Андреева с Горьким. Отношения между М. Горьким и Л. Андреевым приняли характер «сердечной дружбы», и это сыграло решающую роль в литературной судьбе молодого писателя. М. Горький привлек его к сотрудничеству в «Журнале для всех» и литературно-политическом журнале «Жизнь», органе демократически настроенных писателей-реалистов, ввел в литературный кружок «Среда». Горький рекомендовал Андреева как «очень милого и талантливого человека» участникам «Среды» - московского содружества писателей-демократов. Также Горький организовал на собственные средства издание первой его книги «Рассказы» (1901) , в течение многих лет оставался доброжелательным и требовательным его критиком. Первый том «Рассказов» Л. Андреева был выпущен осенью 1901 г. издательством «Знание», основанным самим М. Горьким. Выход этой небольшой книги был отмечен общественностью как крупное литературное событие. О молодом авторе сразу же «во весь голос» заговорили критики.
10 января 1902 года в газете «Курьер» вышел рассказ «Бездна», всколыхнувший читающую публику. В нем человек представлен рабом низменных, животных инстинктов. Вокруг этого произведения Л. Андреева сразу развернулась широкая полемика, характер которой носил уже не литературоведческий, а, скорее, философский характер.
Повесть «Бездна» (1902), задуманная Андреевым «в целях всестороннего и беспристрастного освещения подлецки-благородной человеческой природы» созвучна Достоевскому. Человек предстает в ней рабом низменных, животных инстинктов. Андреев был и до сих пор считается мастером психологического анализа, хотя характер его формальных приемов в трактовке психологической тематики ускользает от однозначного определения. Несмотря на то, что при появлении первых произведений Андреева
его приветствовали как писателя-реалиста, очень в скором времени стало понятно, что андреевский психологизм не вписывается в рамки традиционной реалистической «диалектики души». Может быть, поэтому Лев Толстой неоднократно упрекал его в неискренности при трактовке психологии героев.
Проявление этой тенденции можно заметить в рассказе «Бездна». Фабула рассказа проста. Студента Немовецкого и девушку Зиночку, увлекшихся во время прогулки за городом романтическими разговорами о силе и красоте любви, застает темнота. Их идиллию грубо нарушает пьяная компания: хулиганы збивают студента и совершают насилие над девушкой. Когда Немовецкий наконец приходит в себя, уже глубокая ночь, он принимается искать Зиночку и, найдя ее без сознания, полураздетую, насилует ее, будучи не в силах побороть в себе неукротимое животное желание. Постепенное развитие «внутреннего» действия передается прежде всего через пейзаж: солнечный, теплый и золотой в начале рассказа, угрюмо-свинцовый, угрожающий при встрече с хулиганами, мрачный, безлюдный в эпилоге. В этом произведении пространство превращается в психологическую эманацию, которая не только преображает пейзаж, но и предопределяет участь героев («чувствовали угрюмую враждебность тусклых неподвижных глаз». Одушевление природы передает внутреннее состояние героев и нависающую над ними опасность. Важнейшим композиционным приемом в прозе Андреева является построение по принципу контраста, что соответствует биполярности его мировоззрения, постоянно колеблющегося между антиномиями: жизнь и смерть, свет и тьма, реальное и ирреальное (в «Бездне»: день - ночь, нежность-зверство, невинность-разврат, солнечный свет - лунный свет). Через повторение ключевых слов «рука», «тело», «глаза», «тьма», «бездна», «ужас») и образов автор показывает, как появляется ужасная мысль, как она развивается вплоть до своего завершения в созданном лишь намеками эпилоге, где нет ни описания, ни названия происходящего события: «На один миг сверкающий огненный ужас озарил его мысли, открыв перед ним черную бездну. И черная бездна поглотила его». Этот способ прекращения повествования ярче воссоздает перед читателем описанную развязку сюжета. Подобно талантливому режиссеру фильма-триллера умело пользуется приемами монтажа и звуковым сопровождением, подготавливая сцену западни, Андреев посылает читателю сигналы тревоги посредством особой образной организации текста (через метафоры, лексические и синтаксические повторы) и коннотирует предметы, пейзаж, персонажей сихологическим «ключом» произведения. Андреев не предлагает читателю психологических обоснований того, почему его герой превращается в «зверя», и это надо приписывать не недостатку психологической проницательности Андреева, а скорее его философскому мировоззрению - тайна человеческой натуры недоступна, поэтому невозможно что-то доказывать. Вплоть до того момента в повествовании, когда избитый хулиганами герой приходит в себя, он представляется обыкновенной личностью: речь идет о нормальном, хорошо воспитанном, несколько робком юноше, который мечтает о прекрасных чувствах и благородных поступках. Но, оказавшись в чрезвычайной ситуации - один, ночью, рядом с поруганным бесчувственным телом подруги, - он переживает мгновенное превращение, которое Андреев не объясняет с точки зрения психологической динамики.
Бессознательное - это бездна, пропасть, грозящая разверзнуться в любую минуту под изощренными сооружениями человеческого ума, и знаменательно то, что само вынесенное в заглавие слово, являясь емким образом-символом, встречается у Андреева весьма часто, порой становясь одним из ключевых (например, в рассказах «Вор» (1905) и «Тьма» (1907). Писатель намеревался осветить и «благородные» стороны человека в «Антибездне», но замысел остался неосуществленным.
После женитьбы на Александре Михайловне Велигорской 10 февраля 1902 года начался самый спокойный и счастливый период в жизни Андреева, продолжавшийся, однако, недолго. В январе 1903 года его избрали членом Общества любителей российской словесности при Московском университете. Он продолжил литературную деятельность, причем теперь в его творчестве появлялось все больше бунтарских мотивов. В январе 1904 года в «Курьере» был опубликован рассказ «Нет прощения», направленный против агентов царской охранки. Из-за него газета была закрыта.
Накануне Революции 1905 г. в творчестве Андреева нарастают бунтарские мотивы. Жизнь Василия Фивейского в одноименном рассказе (1904) -это бесконечная цепь суровых, жестоких испытаний его веры. Утонет его сын, запьет с горя попадья - священник, «скрипнув зубами» громко повторяет: «Я - верю». У него сгорит дом, умрет от ожогов жена - он непоколебим! Но вот в состоянии религиозного экстаза он подвергает себя еще одному испытанию - хочет воскресить мертвого. «Тебе говорю, встань!» - трижды обращается он к покойнику, но «холодно-свирепым дыханием смерти отвечает ему потревоженный труп». Отец Василий потрясен: «Так зачем же я верил? Так зачем же ты дал мне любовь к людям и жалость? Так зачем же всю жизнь мою ты держал меня в плену, в рабстве, в оковах?». Сюжет рассказа «Жизнь Василия Фивейского» восходит к библейской легенде об Иове, но у Андреева она наполнена богоборческим пафосом, в то время как у Ф. М. Достоевского в «Братьях Карамазовых» эта же легенда символизирует непоколебимую веру в Бога. «Жизнь Василия Фивейского» дышит стихией бунта и мятежа, - это дерзостная попытка поколебать самые основы любой религии - веру в «чудо», в промысел божий, в «благое провидение».
Андреев создает полную драматизма сцену, в которой измученный несчастьями деревенский попик вырастает в богатыря-богоборца. Силой своей исступленной веры он хочет воскресить погибшего в несчаном карьере батрака Семена Мосягина. Но чуда не происходит. Обманута, растоптана вера, оказавшаяся бессильной свести небо на землю. Андреева по праву считают мастером психологического рисунка. «Жизнь Василия Фивейского» - одна из лучших его психологических вещей. Естественно, что автора больше всего занимает внутренний мир о. Василия. Как же он его отображает? Психологический метод
Андреева отличается от метода Л. Толстого, объясняющего и договаривающего за героя его мысли и чувства, как осознанные самим героем, так и гнездящиеся в подсознании, неуловимые, струящиеся… Андреев идет иным путем.
Не воссоздавая последовательного развития психологического процесса, как это делали Толстой и Достоевский, он останавливается на описании внутреннего состояния героя в переломные, качественно отличные от прежних, моменты его духовной жизни, и дает авторскую результативную характеристику.
Мятежная повесть Андреева, с такой силой замахнувшегося на вековые «святыни», современниками писателя было воспринята как произведение, предвещающее революцию. Дух возмущения и протеста, клокочущий в повести Л. Андреева, радостно отозвался в сердцах тех, кто жаждал революционной бури. Однако в «Жизни Василия Фивейского» ощущаются и чувства недоумения и неудовлетворенности. Отрицая «благое провидение» и божественную целесообразность как глупую преднамеренную выдумку, оправдывающую страдания, ложь, угнетение, реки слез и крови, Л. Андреев вместе с тем изображает человека игрушкой злых и бессмысленных сил, непонятных, враждебных, непреодолимых. «Над всей жизнью Василия Фивейского, - пишет Л. Андреев, - тяготел суровый и загадочный рок». Однако далеко не все прогрессивные критики считали авторскую концепцию пессимистически безысходной.
Рассказы Леонида Андреева 1910-х гг., прежде всего, - феномен творческого пути яркой художественной индивидуальности. Стремление к объединению социально-психологического и философского аспектов изображения отличало в эпоху между двух революций творчество писателей-реалистов. Универсализация темы, выявление соответствий между бытовой стороной происходящего и его общечеловеческим смыслом вызывало использование аналитической многоаспектности повествования, активных композиционных приемов (построение рассказа, основанное на принципах лейтмотива и контрапункта, контраста и диссонанса. Все это характеризовало такие высокие достижения реализма нового времени, как «Братья» и «Господин из Сан- Франциско» И. Бунина, «Пески» А. Серафимовича.
В своих творческих поисках Андреев был близок этому направлению литературного развития и в то же время принадлежал ему далеко не всецело. Наряду со стремлением к глубинному осмыслению социально-исторического кризиса эпохи в творчестве Андреева ощутима тяга к мифологизации действительности, изображению «вечных» образов и ситуаций, что диктовалось подходом к проблемам человеческой деятельности и сознания как проблемам извечным. Это дает объективные основания соотносить творчество Андреева с творчеством писателей-символистов, в частности рассказами В. Брюсова и Ф. Сологуба.
Важным не только литературным, но и общественным событием стало появление антивоенной повести «Красный смех» (1904). Ее тематическая основа - события русско-японской войны, но сюжетно-копозиционный центр произведения составило потрясенное, болезненно галлюцинирующее сознание участника кровавой бойни. Войне Андреев, как он сам писал Л. Н. Толстому, был «обязан ломкой мировоззрения». Россия представляется ему теперь больной, «проклятой … страной героев, на которых ездят болваны и мерзавцы» . С надеждой и воодушевлением ждет он революции «нынешняя весна много даст красных цветов. …что даст революция, умноженная на войну, на холеру, на голод, - невозможно решить. А в итоге будет хорошо - это несомненно» . Андреев предоставляет свою квартиру для заседания ЦК РСДРП, которую он считал «самой крупной и серьезной революционной силой», дает согласие на сотрудничество в большевистской газете «Борьба», участвует в секретном совещании финской Красной Гвардии.
После разгрома в Финляндии Декабрьского вооруженного восстания и красной Гвардии наступает полоса глубокого идейного и психологического кризиса Андреева. К нему возвращаются мысли о роковой предопределенности людских судеб, о бесплодности сопротивления извечным законам жизни, его пессимизм принимает «космический» (Горький) характер. А после смерти в ноябре 1906 Александры Михайловны, жены, которая была ему и другом, и литературным советчиком, Андреев вступает в полосу депрессий, осложненных приступами запоев.
Разочарования в недавних предчувствиях и надеждах, скептическая оценка и отдельного человека, и «толпы» - вот что устанавливает идейно- эмоциональную тональность андреевских произведений послереволюционного периода.
Писатель работает редактором в альманахе «Шиповник» и сборнике «Знание». Приглашает в «Знание» А. Блока, которого высоко ценит. Но из «Знания» писателю пришлось уйти: Горький решительно восстал против публикаций Блока и Сологуба. Порвал Андреев и с «Шиповником», который напечатал романы Б. Савинова и Ф. Сологуба после того, как он их отклонил.
Однако работа, большая и плодотворная, продолжается. Самым, пожалуй, значительным произведением этого периода стал «Иуда Искариот», где подвергается переосмыслению известный всем библейский сюжет. Ученики Христа предстают трусливыми обывателями, а Иуда — посредником между Христом и людьми. Образ Иуды двойствен: формально — предатель, а по сути — единственно преданный Христу человек. Предает же Христа он, чтобы выяснить, способен ли кто-нибудь из его последователей пожертвовать собой ради спасения учителя. Он приносит апостолам оружие, предупреждает их о грозящей Христу опасности, а после смерти Учителя следует за ним. В уста Иуды автор вкладывает весьма глубокий этический постулат: «Жертва — это страдания для одного и позор для всех. Вы на себя взяли весь грех. Вы скоро будете целовать крест, на котором вы распяли Христа!.. Разве он запретил вам умирать? Почему же вы живы, когда он мертв?.. Что такое сама правда в устах предателей? Разве не ложью становится она?». Сам автор охарактеризовал это произведение как «нечто по психологии, этике и практике предательства».
Обособленное положение Андреева среди общественных литературных движений, «надмирное» содержание многих его произведений привели к тому, что популярность писателя, читательский интерес к нему, широкий и жгучий в первое десятилетие века, явно упали. «Временами, - рефлектирует Андреев,- я … думаю, что я - просто не нужен». С тем большей увлеченностью и страстью отдается он частной, семейной жизни - фотографирует, рисует, совершает на яхте прогулки по Финскому заливу.
1-ю мировую войну Андреев воспринял и приветствовал как «борьбу демократии всего мира с цезаризмом и деспотией, представителем каковой является Германия» . Андреев становится сотрудником газеты Рябушинских «Утро России», органа либеральной буржуазии, а в 1916 - редактором литературного отдела газеты «Русская воля», организованной при содействии правительства крупными капиталистами, но при этом занимает там достаточно независимую позицию.
Невольно - после провозглашения независимости Финляндии, где Андреев продолжал жить на своей даче, - он оказался в эмиграции. Писатель чувствовал себя «изгнанником трижды: из дома, из России и из творчества». Одинокий, преследуемый неотступными болезнями, он считал больницу «наиболее вероятным» путем из оставшихся ему. Андреев умер от паралича сердца на даче своего приятеля, писателя Ф. Н. Вальковского, близ Мустамяки. Похоронен в Ваммельсу, перезахоронен в 1956 на Литераторских мостках Волкова кладбища в Ленинграде.
Однажды, около полудня, Иисус и ученики его проходили по каменистой и горной дороге, лишенной тени, и так как уже более пяти часов находились в пути, то начал Иисус жаловаться на усталость. Ученики остановились, и Петр с другом своим Иоанном разостлали на земле плащи свои и других учеников, сверху же укрепили их между двумя высокими камнями, и таким образом сделали для Иисуса как бы шатер. И он возлег в шатре, отдыхая от солнечного зноя, они же развлекали его веселыми речами и шутками. Но, видя, что и речи утомляют его, сами же будучи мало чувствительны к усталости и жару, удалились на некоторое расстояние и предались различным занятиям. Кто по склону горы между камнями разыскивал съедобные корни и, найдя, приносил Иисусу; кто, взбираясь все выше и выше, искал задумчиво границ голубеющей дали и, не находя, поднимался на новые островерхие камни. Иоанн нашел между камней красивую, голубенькую ящерицу и в нежных ладонях, тихо смеясь, принес ее Иисусу; и ящерица смотрела своими выпуклыми, загадочными глазами в его глаза, а потом быстро скользнула холодным тельцем по его теплой руке и быстро унесла куда-то свой нежный, вздрагивающий хвостик. Петр же, не любивший тихих удовольствий, а с ним Филипп занялись тем, что отрывали от горы большие камни и пускали их вниз, состязаясь в силе. И, привлеченные их громким смехом, понемногу собрались вокруг них остальные и приняли участие в игре. Напрягаясь, они отдирали от земли старый, обросший камень, поднимали его высоко обеими руками и пускали по склону. Тяжелый, он ударялся коротко и тупо и на мгновение задумывался; потом нерешительно делал первый скачок — и с каждым прикосновением к земле, беря от нее быстроту и крепость, становился легкий, свирепый, всесокрушающий. Уже не прыгал, а летел он с оскаленными зубами, и воздух, свистя, пропускал его тупую, круглую тушу. Вот край, — плавным последним движением камень взмывал кверху и спокойно, в тяжелой задумчивости, округло летел вниз, на дно невидимой пропасти. — Ну-ка, еще один! — кричал Петр. Белые зубы его сверкали среди черной бороды и усов, мощная грудь и руки обнажились, и старые сердитые камни, тупо удивляясь поднимающей их силе, один за другим покорно уносились в бездну. Даже хрупкий Иоанн бросал небольшие камешки и, тихо улыбаясь, смотрел на их забаву Иисус. — Что же ты, Иуда? Отчего ты не примешь участия в игре, — это, по-видимому, так весело? — спросил Фома, найдя своего странного друга в неподвижности, за большим серым камнем. — У меня грудь болит, и меня не звали. — А разве нужно звать? Ну, так вот я тебя зову, иди. Посмотри, какие камни бросает Петр. Иуда как-то боком взглянул на него, и тут Фома впервые смутно почувствовал, что у Иуды из Кариота — два лица. Но не успел он этого понять, как Иуда сказал своим обычным тоном, льстивым и в то же время насмешливым: — Разве есть кто-нибудь сильнее Петра? Когда он кричит, все ослы в Иерусалиме думают, что пришел их Мессия, и тоже поднимают крик. Ты слышал когда-нибудь их крик, Фома? И, приветливо улыбаясь и стыдливо запахивая одеждою грудь, поросшую курчавыми рыжими волосами, Иуда вступил в круг играющих. И так как всем было очень весело, то встретили его с радостью и громкими шутками, и даже Иоанн снисходительно улыбнулся, когда Иуда, кряхтя и притворно охая, взялся за огромный камень. Но вот он легко поднял его и бросил, и слепой, широко открытый глаз его, покачнувшись, неподвижно уставился на Петра, а другой, лукавый и веселый, налился тихим смехом. — Нет, ты еще брось! — сказал Петр обиженно. И вот один за другим поднимали они и бросали гигантские камни, и, удивляясь, смотрели на них ученики. Петр бросал большой камень, — Иуда еще больше. Петр, хмурый и сосредоточенный, гневно ворочал обломок скалы, шатаясь, поднимал его и ронял вниз, — Иуда, продолжая улыбаться, отыскивал глазом еще больший обломок, ласково впивался в него длинными пальцами, облипал его, качался вместе с ним и, бледнея, посылал его в пропасть. Бросив свой камень, Петр откидывался назад и так следил за его падением, — Иуда же наклонялся вперед, выгибался и простирал длинные шевелящиеся руки, точно сам хотел улететь за камнем. Наконец оба они, сперва Петр, потом Иуда, схватились за старый, седой камень — и не могли его поднять, ни тот, ни другой. Весь красный, Петр решительно подошел к Иисусу и громко сказал: — Господи! я не хочу, чтобы Иуда был сильнее меня. Помоги мне поднять тот камень и бросить. И тихо ответил ему что-то Иисус. Петр недовольно пожал широкими плечами, но ничего не осмелился возразить и вернулся назад со словами: — Он сказал: а кто поможет Искариоту? Но вот взглянул он на Иуду, который, задыхаясь и крепко стиснув зубы, продолжал еще обнимать упорный камень, и весело засмеялся: — Вот так больной! Посмотрите, что делает наш больной, бедный Иуда! И засмеялся сам Иуда, так неожиданно уличенный в своей лжи, и засмеялись все остальные, — даже Фома слегка раздвинул улыбкой свои прямые, нависшие на губы, серые усы. И так, дружелюбно болтая и смеясь, все двинулись в путь, и Петр, совершенно примирившийся с победителем, время от времени подталкивал его кулаком в бок и громко хохотал: — Вот так больной! Все хвалили Иуду, все признавали, что он победитель, все дружелюбно болтали с ним, но Иисус, — но Иисус и на этот раз не захотел похвалить Иуду. Молча шел он впереди, покусывая сорванную травинку; и понемногу один за другим переставали смеяться ученики и переходили к Иисусу. И в скором времени опять вышло так, что все они тесною кучкою шли впереди, а Иуда — Иуда-победитель — Иуда сильный — один плелся сзади, глотая пыль. Вот они остановились, и Иисус положил руку на плечо Петра, другой рукою указывая вдаль, где уже показался в дымке Иерусалим. И широкая, могучая спина Петра бережно приняла эту тонкую, загорелую руку. На ночлег они остановились в Вифании, в доме Лазаря. И когда все собрались для беседы, Иуда подумал, что теперь вспомнят о его победе над Петром, и сел поближе. Но ученики были молчаливы и необычно задумчивы. Образы пройденного пути: и солнце, и камень, и трава, и Христос, возлежащий в шатре, тихо плыли в голове, навевая мягкую задумчивость, рождая смутные, но сладкие грезы о каком-то вечном движении под солнцем. Сладко отдыхало утомленное тело, и все оно думало о чем-то загадочно-прекрасном и большом, — и никто не вспомнил об Иуде. Иуда вышел. Потом вернулся. Иисус говорил, и в молчании слушали его речь ученики. Неподвижно, как изваяние, сидела у ног его Мария и, закинув голову, смотрела в его лицо. Иоанн, придвинувшись близко, старался сделать так, чтобы рука его коснулась одежды учителя, но не обеспокоила его. Коснулся — и замер. И громко и сильно дышал Петр, вторя дыханием своим речи Иисуса. Искариот остановился у порога и, презрительно миновав взглядом собравшихся, весь огонь его сосредоточил на Иисусе. И по мере того как смотрел, гасло все вокруг него, одевалось тьмою и безмолвием, и только светлел Иисус с своею поднятой рукою. Но вот и он словно поднялся в воздух, словно растаял и сделался такой, как будто весь он состоял из надозерного тумана, пронизанного светом заходящей луны; и мягкая речь его звучала где-то далеко-далеко и нежно. И, вглядываясь в колеблющийся призрак, вслушиваясь в нежную мелодию далеких и призрачных слов, Иуда забрал в железные пальцы всю душу и в необъятном мраке ее, молча, начал строить что-то огромное. Медленно, в глубокой тьме, он поднимал какие-то громады, подобные горам, и плавно накладывал одна на другую; и снова поднимал, и снова накладывал; и что-то росло во мраке, ширилось беззвучно, раздвигало границы. Вот куполом почувствовал он голову свою, и в непроглядном мраке его продолжало расти огромное, и кто-то молча работал: поднимал громады, подобные горам, накладывал одну на другую и снова поднимал... И нежно звучали где-то далекие и призрачные слова. Так стоял он, загораживая дверь, огромный и черный, и говорил Иисус, и громко вторило его словам прерывистое и сильное дыхание Петра. Но вдруг Иисус смолк — резким незаконченным звуком, и Петр, точно проснувшись, восторженно воскликнул: — Господи! Тебе ведомы глаголы вечной жизни! Но Иисус молчал и пристально глядел куда-то. И когда последовали за его взором, то увидели у дверей окаменевшего Иуду с раскрытым ртом и остановившимися глазами. И, не поняв, в чем дело, засмеялись. Матфей же, начитанный в Писании, притронулся к плечу Иуды и сказал словами Соломона: — Смотрящий кротко — помилован будет, а встречающийся в воротах — стеснит других. Иуда вздрогнул и даже вскрикнул слегка от испуга; и все у него — глаза, руки и ноги — точно побежало в разные стороны, как у животного, которое внезапно увидело над собою глаза человека. Прямо к Иуде шел Иисус и слово какое-то нес на устах своих — и прошел мимо Иуды в открытую и теперь свободную дверь. Уже в середине ночи обеспокоенный Фома подошел к ложу Иуды, присел на корточки и спросил: — Ты плачешь, Иуда? — Нет. Отойди, Фома. — Отчего же ты стонешь и скрипишь зубами? Ты нездоров? Иуда помолчал, и из уст его, одно за другим, стали падать тяжелые слова, налитые тоскою и гневом. — Почему он не любит меня? Почему он любит тех? Разве я не красивее, не лучше, не сильнее их? Разве не я спас ему жизнь, пока те бежали, согнувшись, как трусливые собаки? — Мой бедный друг, ты не совсем прав. Ты вовсе не красив, и язык твой так же неприятен, как и твое лицо. Ты лжешь и злословишь постоянно, как же ты хочешь, чтобы тебя любил Иисус? Но Иуда точно не слышал его и продолжал, тяжело шевелясь в темноте: — Почему он не с Иудой, а с теми, кто его не любит? Иоанн принес ему ящерицу — я принес бы ему ядовитую змею. Петр бросал камни — я гору бы повернул для него! Но что такое ядовитая змея? Вот вырван у нее зуб, и ожерельем ложится она вокруг шеи. Но что такое гора, которую можно срыть руками и ногами потоптать? Я дал бы ему Иуду, смелого, прекрасного Иуду! А теперь он погибнет, и вместе с ним погибнет и Иуда. — Ты что-то странное говоришь, Иуда! — Сухая смоковница, которую нужно порубить секирою, — ведь это я, это обо мне он сказал. Почему же он не рубит? он не смеет, Фома. Я его знаю: он боится Иуды! Он прячется от смелого, сильного, прекрасного Иуды! Он любит глупых, предателей, лжецов. Ты лжец, Фома, ты слыхал об этом? Фома очень удивился и хотел возражать, но подумал, что Иуда просто бранится, и только покачал в темноте головою. И еще сильнее затосковал Иуда; он стонал, скрежетал зубами, и слышно было, как беспокойно движется под покрывалом все его большое тело. — Что так болит у Иуды? Кто приложил огонь к его телу? Он сына своего отдает собакам! Он дочь свою отдает разбойникам на поругание, невесту свою — на непотребство. Но разве не нежное сердце у Иуды? Уйди, Фома, уйди, глупый. Пусть один останется сильный, смелый, прекрасный Иуда!Леонид Андреев относится к писателям, чье творчество порождает разночтения, не снимаемые временем.
Одно из самых спорных произведений писателя — повесть Иуда Искариот и другие. Спорных — не только потому, что трактовки его полемичны по отношению друг к другу, но и потому, что, на мой взгляд, все в той или иной степени неубедительны, фрагментарны.
История непонимания повести Л. Андреева началась с момента ее выхода в свет и была предсказана Горьким: «Вещь, которая будет понята немногими и сделает сильный шум»./1/ Современники Л. Андреева сосредоточили внимание на мастерстве автора, расхождении с Евангелием и особенностях психологии центрального героя. Большинство исследователей нашего времени сводят содержание повести к осуждению или оправданию автором предательства Иуды.
На фоне сложившейся традиции интерпретировать повесть сугубо в нравственно-психологическом аспекте выделяются трактовки, предложенные С. П. Ильевым и Л. А. Колобаевой/2/, в основу которых положено понимание авторами философско-этического характера проблематики произведения. Но и они представляются мне субъективными, в полной мере не подтвержденными текстом.Философская повесть Андреева — о громадной роли творческого свободного разума в судьбах мира, о том, что самая великая идея без творческого участия человека бессильна, и о трагической субстанции творчества как такового.
Основная сюжетная оппозиция повести Л. Андреева: Христос с «верными» ему учениками и Иуда — носит, как это и свойственно философскому метажанру, субстанциальный характер. Перед нами два мира с принципиально разными жизненными установками: в первом случае — на веру и авторитет, во втором — на свободный, творческий разум. Восприятию сюжетообразующей оппозиции как субстанциальной способствуют заложенные автором в образы, составляющие оппозицию, культурные архетипы.
В изображении Иуды узнаваем архетип Хаоса, маркированный автором с помощью ярко выраженной экспрессионистской (т. е. откровенно условной и жестко концептуализированной) образности. Она неоднократно находит воплощение в описании головы и лица Иуды, как бы разделенных на несколько несогласных, спорящих друг с другом частей/4/, фигуры Иуды, то уподобляющей его серой груде, из которой вдруг высовывались руки и ноги (27), то вызывающей впечатление, что Иуда имел «не две ноги, как у всех людей, а целый десяток» (25). «Иуда вздрогнул… и все у него — глаза, руки и ноги — точно побежало в разные стороны…» (20). Иисус освещает молнией своего взора «чудовищную груду насторожившихся теней, что была душой Искариота» (45).
В этих и других зарисовках облика Иуды настойчиво повторяются закрепленные культурным сознанием за хаосом мотивы беспорядка, неоформленности, переменчивости, противоречивости, опасности, тайны, доисторической древности. Древний мифологический Хаос проступает в ночной тьме, которая обычно скрывает Иуду, в повторяемых аналогиях Иуды с рептилиями, скорпионом, осьминогом.
Последний, воспринимаемый учениками как двойник Иуды, напоминает об исходном водном Хаосе, когда суша еще не отделилась от воды, и одновременно являет собой образ мифологического чудовища, населяющего мир во времена Хаоса. «Пристально глядя на огонь костра… протягивая к огню длинные шевелящиеся руки, весь бесформенный в путанице рук и ног, дрожащих теней и света, Искариот бормотал жалобно и хрипло: — Как холодно! Боже мой, как холодно! Так, вероятно, когда уезжают ночью рыбаки, оставив на берегу тлеющий костер, из темной глубины моря вылезает нечто, подползает к огню, смотрит на него пристально и дико, тянется к нему всеми членами своими…» (45).
Иуда не отрицает своей связи с демоническими силами Хаоса — Сатаной, дьяволом. Непредсказуемость, загадочность Хаоса, потаенная работа стихийных сил, незримо готовящая их грозный выброс, являет себя в Иуде непроницаемостью его мыслей для окружающих. Даже Иисус не может проникнуть в «бездонную глубину» его души (45). Неслучайно также, в плане ассоциации с Хаосом, с Иудой сопрягаются образы гор, глубоких каменистых оврагов. Иуда то отстает от всей группы учеников, то отходит в сторону, скатывается с обрыва, обдираясь о камни, исчезает из виду — пространство изрезанное, лежащее в разных плоскостях, Иуда движется зигзагообразно.
Пространство, в которое вписан Иуда, варьирует тесно связанный с Хаосом в античном сознании образ страшной бездны, мрачных глубин аида, пещеры. «Повернулся, точно ища удобного положения, приложил руки, ладонь с ладонью, к серому камню и тяжело прислонился к ним головою. (…) И впереди его, и сзади, и со всех сторон поднимались стены оврага, острой линией обрезая края синего неба; и всюду, впиваясь в землю, высились огромные серые камни… И на опрокинутый, обрубленный череп похож был этот дико-пустынный овраг…» (16). Наконец, автор прямо дает ключевое слово к архетипическому содержанию образа Иуды: «…дрогнул и пришел в движение весь этот чудовищный хаос» (43).
В описании же Иисуса с его учениками оживают все основные атрибуты архетипа Космоса: упорядоченность, определенность, гармония, божественное присутствие, красота. Соответственно семантизированна пространственная организация мира Христа с апостолами: Христос всегда в центре — в окружении учеников или впереди их, задает направление движению. Мир Иисуса и его учеников строго иерархизирован и потому «ясен», «прозрачен», покоен, понятен.
Фигуры апостолов чаще всего предстают читателю в свете солнечных лучей. Каждый из учеников — сложившийся цельный характер. В их отношении друг к другу и Христу царит согласие, в согласии находится и каждый с самим собой. Его не поколебало даже распятие Христа. Здесь нет места загадке, как и индивидуальной работе бьющейся в противоречиях и поиске мысли. «…Фома… смотрел так прямо своими прозрачными и ясными глазами, сквозь которые, как сквозь финикийское стекло, было видно стену позади его и привязанного к ней понурого осла» (13). Каждый верен себе в любом слове и действии, Иисусу ведомы будущие поступки учеников.
Своеобразной эмблемой Космоса выглядит в повести изображение беседы Иисуса с учениками в Вифании, в доме Лазаря: «Иисус говорил, и в молчании слушали его речь ученики. Неподвижно, как изваяние, сидела у ног его Мария и, закинув голову, смотрела в его лицо. Иоанн, придвинувшись близко, старался сделать так, чтобы рука его коснулась одежды учителя, но не обеспокоила его. Коснулся — и замер. И громко и сильно дышал Петр, вторя дыханием своим речи Иисуса» (19).
Важному космогоническому акту — разделению Земли и Неба и подьему Неба над Землей — соответствует следующий кадр картины: «…все вокруг… одевалось тьмою и безмолвием, и только светлел Иисус со своею поднятой рукою. Но вот и он словно поднялся в воздух, словно растаял и сделался такой, как будто весь состоял из надозерного тумана…» (19).
Но в авторской концепции повести архетипические параллели получают нетрадиционный смысл. В мифологическом и культурном сознании творение чаще связано с упорядочиванием и вместе — с Космосом, и гораздо реже Хаос получает положительную оценку. Андреев развивает романтическую трактовку амбивалентного Хаоса, чья разрушительная сила одновременно являет собой могучую жизненную энергию, ищущую возможность отлиться в новые формы. Она уходит корнями в одну из античных концепций Хаоса как нечто живого и животворного, основы мировой жизни, и древнееврейскую традицию видеть в Хаосе богоборческое начало.
Русское культурное сознание начала ХХ века часто акцентирует в идее Хаоса творческое начало (В. Соловьев, Блок, Брюсов, Л. Шестов) — «темный корень мирового бытия»./5/ И в Иуде Андреева Хаос заявляет о себе могучей силой субъективности, проявляющейся в блестящей логике и дерзкой творческой мысли, сокрушительной воле и жертвенной любви свободного бунтаря.
Неслучайно автор повести описывает процесс рождения замысла Иуды в образах Хаоса, соединяющего «ужас и мечты» героя (53). Задумавшийся Иуда ничем не отличается от камней, которые «думали — тяжело, безгранично, упорно ». Он сидит «не шевелясь… неподвижный и серый, как сам серый камень», а камни в этом бездне-овраге выглядят — «словно прошел здесь когда-то каменный дождь и в бесконечной думе застыли его тяжелые капли. (…) …и каждый камень в нем был как застывшая мысль …» (16) (Здесь и ниже подчеркнуто мною.— Р. С.).
В этой связи отношение автора к Иуде в повести Андреева принципиально отличается от отношения евангелистов и признанных авторов богословских сочинений (Д. Ф. Штрауса, Э. Ренана, Ф. В. Фаррары, Ф. Мориака) — как оценкой его роли в истории человечества, так и самой проблематикой его образа.
Противостояние Иуды Христу и будущим апостолам не идентично подсказываемой Библией антитезе зло — добро. Как и для других учеников, для Иуды Иисус — нравственный Абсолют, тот, кого он «в тоске и муках искал… всю… жизнь, искал и нашел!» (39). Но андреевский Иисус надеется, что зло будет побеждено верой человечества в его Слово и не желает принимать в расчет реальность. Поведение Иуды продиктовано знанием реальной сложной природы человека, знанием, сформированным и проверенным его трезвым и бесстрашным разумом.
В повести постоянно подчеркивается глубокий и мятежный ум Иуды, склонный к бесконечному пересмотру выводов, накоплению опыта. За ним в среде учеников закреплено прозвище «умного», он постоянно «быстро двигает по сторонам» «живым и зорким глазом», неустанно задается вопросом: кто прав? — учит Марию помнить прошлое для будущего. Его «предательство», как он его задумывает,— последняя отчаянная попытка прервать сон разума, в котором пребывает человечество, разбудить его сознание. И при этом образ Иуды вовсе не символизирует собой голое и бездушное рацио.
Внутренняя борьба Иуды с собой, мучительные сомнения в своей правоте, упрямая алогичная надежда на то, что люди прозреют и распятие окажется ненужным, порождены любовью к Христу и преданностью его учению. Однако слепой вере как двигателю нравственного и исторического прогресса и доказательству верности Иуда противопоставляет духовную работу раскрепощенной мысли, творческое самосознание свободной личности, способной взять на себя всю ответственность за нестандартное решение. В своих глазах он единственный сподвижник Иисуса и верный ученик, тогда как в буквальном следовании остальных учеников Слову Учителя он видит малодушие, трусость, тупость, в их поведении — истинное предательство.
Субъектная организация ее специфична и непроста. Широкое использование Андреевым стилизации и несобственно-прямой речи приводит к размытости и подвижности границ сознания персонажей и повествователя. Субъекты сознания оказываются часто не оформлены как субъекты речи. Однако, при внимательном рассмотрении, каждый субъект сознания, включая повествователя, имеет свой стилистический портрет, который и позволяет его идентифицировать. Позиция художественного автора на уровне субъектной организации произведения более всего находит выражение в сознании повествователя./6/
Стилистический рисунок сознания повествователя в повести Л. Андреева соответствует нормам книжной речи, часто — художественной, отличается поэтической лексикой, усложненным синтаксисом, тропами, патетической интонацией и обладает самым высоким потенциалом обобщения. Куски текста, принадлежавшие повествователю, несут повышенную концептуальную нагрузку. Так, повествователь выступает субъектом сознания в приведенной выше эмблематической картине Космоса Христа и в изображении Иуды — творца нового проекта человеческой истории.
Один из таких «духовных» портретов Иуды также цитирован выше. Повествователем маркируется и жертвенная преданность Иуды Иисусу: «…и зажглась в его сердце смертельная скорбь, подобная той, которую испытал перед этим Христос. Вытянувшись в сотню громко звенящих, рыдающих струн, он быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку. Так тихо, так нежно, с такой мучительной любовью, что, будь Иисус цветком на тоненьком стебельке, он не колыхнул бы его этим поцелуем и жемчужной росы не сронил бы с чистых лепестков» (43). В поле сознания повествователя лежит и вывод о равновеликой роли Иисуса и Иуды в повороте истории — Бога и человека, повязанных общей мукой: «…и среди всей этой толпы были только они двое, неразлучные до самой смерти, дико связанные общностью страданий… Из одного кубка страданий, как братья, пили они оба…» (45).
Стилистика сознания повествователя в повести имеет точки пересечения с сознанием Иуды. Правда, сознание Иуды воплощено средствами разговорного стиля, но их объединяет повышенная экспрессивность и образность, хотя и разная по своему характеру: сознанию Иуды более свойственны ирония и сарказм, повествователю — патетика. Стилистическая близость повествователя и Иуды как субъектов сознания возрастает по мере приближения к развязке. Ирония и насмешки в речи Иуды уступают место патетике, слово Иуды в конце повести звучит серьезно, порою пророчески, повышается его концептуальность.
В голосе же повествователя порою появляется ирония. В стилистическом сближении голосов Иуды и повествователя находит выражение определенная нравственная общность их позиций. Вообще отталкивающе уродливым, лживым, бесчестным Иуда увиден в повести глазами персонажей: учеников, соседей, Анны и других членов Синедриона, солдат, Понтия Пилата, хотя формально субъектом речи может оказаться повествователь. Но только — речи! Как субъект сознания (наиболее приближенного сознанию автора) повествователь никогда не выступает антагонистом Иуды.
Голос повествователя врезается диссонансом в хор общего неприятия Иуды, вводя иное восприятие и другой масштаб измерения Иуды и его деяния. Такой первой значительной «вырезкой» сознания повествователя звучит фраза «И вот пришел Иуда». Она выделена стилистически на фоне преобладающего разговорного стиля, передающего дурную народную молву об Иуде, и графически: две трети строки после этой фразы остается пустой.
За ней следует большой отрезок текста, снова содержащий резко отрицательную характеристику Иуды, формально принадлежащую повествователю. Но он передает восприятие Иуды учениками, подготовленное слухами о нем. О смене субъекта сознания свидетельствует смена стилевой тональности (библейская афористичность и патетика уступают место лексике, синтаксису и интонации разговорной речи) и прямые указания автора.
«Пришел он, низко кланяясь, выгибая спину осторожно и пугливо вытягивая вперед свою безобразную бугроватую голову — как раз такой, каким представляли его знающие . Он был худощав, хорошего роста… и достаточно крепок силою был он, по-видимому , но зачем-то притворялся хилым и болезненным и голос имел переменчивый: то мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины, ругающей мужа… (…) Двоилось так же и лицо у Иуды… (…) Даже люди, совсем лишенные проницательности, ясно понимали, глядя на Искариота, что такой человек не может принести добра, а Иисус приблизил его и даже рядом с собою — рядом с собою посадил Иуду» (5).
В средину приведенного отрывка автором помещено предложение, опущенное нами: «Короткие рыжие волосы не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа: …он явственно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу: за таким черепом не может быть тишины и согласия, за таким черепом всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв».
Обратим внимание на это предложение. У него один субъект речи, но два субъекта сознания. Восприятие Иуды учениками в последней части предложения сменяется восприятием повествователя. На это указывает нарастающее уже со второй части предложения изменение стилевого регистра и графическое расчленение предложения путем двоеточия. И повествователь, это отчетливо видно, в качестве субъекта сознания противопоставляет свой взгляд на Иуду распространенному обывательскому: взгляд повествователя отличается от обывательского признанием значительности фигуры Иуды и уважением к его личности — творца, искателя истины.
В дальнейшем повествователь не раз выявляет общность своей точки зрения на происходящее с точкой зрения Иуды. В глазах Иуды не он, а апостолы — предатели, трусы, ничтожества, которым нет оправдания. Обвинение Иуды получает обоснование во внешне беспристрастном изображении апостолов повествователем, где отсутствует несобственно-прямая речь и, следовательно, повествователь максимально близок автору: «Солдаты распихивали учеников, а те вновь собирались и тупо лезли под ноги… Вот один из них, насупив брови, двинулся к кричавшему Иоанну; другой грубо столкнул с своего плеча руку Фомы… и к самым прямым и прозрачным глазам его поднес огромный кулак,— и побежал Иоанн, и побежали Фома и Иаков, и все ученики, сколько ни было их здесь, оставив Иисуса, бежали» (44).
Иуда издевается над духовной косностью «верных» учеников, с яростью и слезами обрушивается на их догматизм с его гибельными для человечества последствиями. Завершенность, неподвижность, безжизненность модели «ученичества», которую являет отношение будущих апостолов к Христу, подчеркивает и повествователь в цитируемом выше описании беседы Иисуса с учениками в Вифании. Этот евангельский эпизод бесконечное число раз приводится и комментируется в богословской и научной литературе, но так, что в центре внимания, как и в Евангелиях, всегда оказываются действия (именно действия!) Марии: приходит, приступает к Христу, приносит сосуд с миром, становится позади у ног Его, плачет, возливает миро Ему на голову, обливает ноги Его слезами, отирает волосами, целует Его, мажет миром, разбивает сосуд.
При этом некоторые ученики ропщут. В повести же Андреева повествователь открывает нашим глазам подчеркнуто статичную картину. Эмблематический характер изображения достигается уподоблением Христа в окружении учеников скульптурной группе, и эта аналогия намеренно акцентируется: «Неподвижно, как изваяние… Коснулся — и замер» (19).
В ряде случаев сознание Иуды и сознание повествователя, в изображении Андреева, совмещены, и это наложение приходится на принципиально значимые куски текста. Именно такое воплощение получает в повести Христос как символ освященного, высшего строя сознания и бытия, но надматериального, внетелесного и потому — «призрачного». На ночлеге в Вифании Иисус дан автором в восприятии Иуды: «Искариот остановился у порога и, презрительно миновав взглядом собравшихся, весь огонь его сосредоточил на Иисусе. И по мере того как смотрел … гасло все вокруг него, одевалось тьмою и безмолвием, и только светлел Иисус с своею поднятой рукою.
Но вот и он словно поднялся в воздух, словно растаял и сделался такой, как будто весь он состоял из надозерного тумана, пронизанного светом заходящей луны; и мягкая речь его звучала где-то далеко-далеко и нежно. И, вглядываясь в колеблющийся призрак, вслушавшись в нежную мелодию далеких и призрачных слов, Иуда…» (19). Но лирический пафос и поэтическая стилистика описания увиденного Иудой, хотя и объяснимы психологически любовью к Иисусу, гораздо более свойственны в повести сознанию повествователя.
Цитируемый кусок текста стилистически идентичен предшествующему ему эмблематическому изображению сидящих вокруг Христа учеников, данному в восприятии повествователя. Автор подчеркивает, что Иуда увидеть так эту сцену не мог: «Искариот остановился у порога и, презрительно миновав взглядом собравшихся… ». О том, что «призраком» увидел Христа не только Иуда, но и повествователь, свидетельствует также семантическая близость образов, с которыми Христос ассоциируется в восприятии Иуды и, чуть выше, в восприятии учеников, о котором могло быть известно только повествователю, но не Иуде. Сравните: «…и мягкая речь его звучала где-то далеко-далеко и нежно. И, вглядываясь в колеблющийся призрак, вслушиваясь в нежную мелодию далеких и призрачных слов, Иуда…» (19). «…ученики были молчаливы и необычайно задумчивы. Образы пройденного пути: и солнце, и камень, и трава, и Христос, возлежащий в центре, тихо плыли в голове, навевая мягкую задумчивость, рождая смутные, но сладкие грезы о каком-то вечном движении под солнцем. Сладко отдыхало утомленное тело, и все оно думало о чем-то загадочно-прекрасном и большом,— и никто не вспомнил об Иуде» (19).
Сознания повествователя и Иуды содержат и буквальные совпадения, например, в оценке отношения к Учителю «верных» учеников, освободивших себя от работы мысли. Повествователь: «…безграничная ли вера учеников в чудесную силу их учителя, сознание ли правоты своей или просто ослепление — пугливые слова Иуды встречались улыбкою…» (35). Иуда: «Слепцы , что сделали вы с землею? Вы погубить ее захотели…» (59). Одними и теми же словами Иуда и повествователь иронизируют над такой преданностью делу Учителя. Иуда: «Любимый ученик! Разве не от тебя начнется род предателей, порода малодушных и лжецов?» (59).
Повествователь: "Ученики Иисуса сидели в грустном молчании и прислушивались к тому, что делается снаружи дома. Еще была опасность… Возле Иоанна, которому, как любимому ученику Иисуса, была особенно тяжела смерть его, сидели Мария Магдалина и Матфей и вполголоса утешали его… Матфей же наставительно говорил словами Соломона: «Долготерпеливый лучше храброго…» (57). Повествователь совпадает с Иудой и в признании за его чудовищным поступком высокой целесообразности — обеспечении учению Христа всемирной победы. «Осанна! Осанна!» — кричит сердце Искариота. И торжественной осанной победившему христианству звучит в заключении повести слово повествователя о Предателе Иуде. Но предательство в нем только факт, зафиксированный эмпирическим сознанием свидетелей.
Повествователь же несет читателю весть о другом. Его ликующая интонация, результат осмысления происшедшего в ретроспективе мировой истории, содержит информацию о несравненно более значимых для человечества вещах — наступлении новой эры. (Вспомним, что отнюдь не предательство видел в своем поведении и сам Иуда: «Опустив руки, Фома удивленно спросил: „…Если это не предательство, то что же тогда предательство? — Другое, другое,— торопливо сказал Иуда“. (49)/7/
Концепция Иуды — творца новой духовной реальности утверждается в повести Андреева и средствами ее объектной организации.
В основе композиции произведения противопоставление двух типов сознания, основанных на вере большинства и творчестве свободной личности. Косность и бесплодность сознания первого типа находит воплощение в однозначной, бедной речи „верных“ учеников. Речь же Иуды изобилует парадоксами, намеками, символами. Она часть вероятностного мира-хаоса Иуды, всегда допускающего возможность непредсказуемого поворота событий. И не случайно в речи Иуды повторяется синтаксическая конструкция допуска („А что если…“): знак игры, эксперимента, поиска мысли,— совершенно чуждая речи как Христа, так и апостолов.
Дискредитации апостолов служат метафоры-иносказания. Такое иносказание, например, содержится в картине состязания апостолов в силе. Этого эпизода нет в Евангелии, и он значим в тексте повести. „Напрягаясь, они (Петр и Филипп) отдирали от земли старый, обросший камень, поднимали его высоко обеими руками и пускали по склону. Тяжелый, он ударялся коротко и тупо и на мгновение задумывался; потом нерешительно делал первый скачок — и с каждым прикосновением к земле, беря от нее быстроту и крепость, становился легкий, свирепый, всесокрущающий. Уже не прыгал, а летел он с оскаленными зубами, и воздух, свистя, пропускал его тупую, круглую тушу“ (17).
Повышенное, концептуальное значение этой картине придают неоднократные ассоциации с камнем самого Петра. Его второе имя — камень, и оно настойчиво повторяется в повести именно как имя. С камнем повествователь, хотя и опосредованно, сравнивает произносимые Петром слова („они звучали так твердо …“ — 6), хохот, который Петр „бросает на головы учеников“, и его голос („он кругло перекатывался …“ — 6). При первом появлении Иуды Петр „взглянул на Иисуса, быстро, как камень, оторванный от горы , двинулся к Иуде…“ (6). В контексте всех этих ассоциаций нельзя не увидеть в образе тупого, лишенного своей воли, несущего в себе потенцию разрушения камне символ неприемлемой для автора модели жизни „верных“ учеников, в которой отсутствуют свобода и творчество.
В тексте повести есть ряд аллюзий на Достоевского, Горького, Бунина, которые поднимают Иуду с уровня жалкого корыстолюбца и обиженного ревнивца, каким он традиционно существует в памяти рядового читателя и интерпретациях исследователей, на высоту героя идеи. После получения от Анны тридцати сребренников, подобно Раскольникову, „деньги Иуда не отнес домой, но… спрятал их под камнем“ (32).
В споре Петра, Иоанна и Иуды за первенство в царствии небесном „Иисус медленно опустил взоры“ (28), и его жест невмешательства и молчание напоминают читателю о поведении Христа в разговоре с Великим Инквизитором. Реакция лишенного воображения Иоанна на выдумки Иуды („Иоанн… тихо спросил Петра Симонова, своего друга: -Тебе не наскучила эта ложь?“ — 6) звучит аллюзией на возмущение „тупых, как кирпичи“, Бубнова и Барона рассказами Луки в пьесе Горького На дне („Вот — Лука, …много он врет… и без всякой пользы для себя… (…) Зачем бы ему?“ „Старик — шарлатан…“)./8/
Кроме того, Иуда, обдумывающий свой план борьбы за победу Христа, в изображении Андреева чрезвычайно близок бунинскому Каину, строителю Баальбека, Храма солнца. Сравним. Андреев: „…начал строить что-то огромное. Медленно, в глубокой тьме, он поднимал какие-то громады, подобные горам, и плавно накладывал одна на другую; и снова поднимал, и снова накладывал; и что-то росло во мраке, ширилось беззвучно, раздвигало границы“ (20). Бунин:
Род приходит, уходит,
А земля пребывает вовек…
Нет, он строит, возводит
Храм бессмертных племен — Баальбек.
Он — убийца, проклятый,
Но из рая он дерзко шагнул.
Страхом Смерти объятый,
Все же первый в лицо ей взглянул.
Но и в тьме он восславит
Только Знание, Разум и Свет -
Башню солнца поставит,
Вдавит в землю незыблемый след.
Он спешит, он швыряет,
Он скалу на скалу громоздит./9/
Новая концепция Иуды раскрывается и в сюжете произведения: отборе автором событий, их развитии, расположении, художественном времени и пространстве. В ночь распятия Христа „верные“ ученики Иисуса едят и спят и аргументируют свое право на спокойствие верностью слову Учителя. Они исключили себя из течения событий. Дерзкий же вызов, который Иуда бросает миру, его смятение, душевная борьба, надежда, ярость и, наконец, самоубийство направляют движение времени и логику исторического процесса. Согласно сюжету произведения, именно им, Иудой Искариотом, его усилиями, предвидением и самоотречением во имя любви („Целованием любви предаем мы тебя“.— 43) обеспечена победа нового учения.
Иуда знает свой народ не хуже Анны: потребность поклоняться стимулируется возможностью кого-то ненавидеть (если чуть-чуть перефразировать сформулированную Иудой суть переворотов, то „жертва там, где палач и предатель“ — 58). И он принимает на себя необходимую в проектируемом действе роль врага и дает ему — себе! — понятное массе название предателя. Он сам первый произнес для всех свое новое позорное имя („рассказал, что он, Иуда, человек благочестивый и в ученики к Иисусу Назарею вступил с единственной целью уличить обманщика и предать его в руки закона“.— 28) и верно рассчитал его безотказное действие, так что даже старый Анна позволил завлечь себя в ловушку („Ты обижен ими?“ — 28). В этой связи особое значение приобретает написание автором слова „предатель“ в заключении повести с заглавной буквы — как неавторского, чужого в речи повествователя, слова-цитаты из сознания масс.
Мировой масштаб победы Иуды над косными силами жизни подчеркивается пространственно-временной организацией произведения, свойственной философскому метажанру. Благодаря мифологическим и литературным параллелям (Библия, античность, Гете, Достоевский, Пушкин, Тютчев, Бунин, Горький и др.), художественное время повести охватывает все время существования Земли. Оно беспредельно отодвинуто в прошлое и одновременно спроецировано в безграничное будущее — как историческое („…и как конца нет у времени, так не будет конца рассказам о предательстве Иуды…“ — 61), так и мифологическое (второе пришествие Мессии: „…долго еще будут плакать… все матери земли. Дотоле, пока не придем мы вместе с Иисусом и не разрушим смерть“.— 53). Оно — вечно длящееся настоящее время Библии и принадлежит Иуде, т. к. сотворено его усилиями („Теперь все время принадлежит ему, и идет он неторопливо…“ — 53).
Иуде в конце повести принадлежит и вся новая, уже христианская, Земля: „Теперь вся земля принадлежит ему…“ (53). „Вот останавливается он и с холодным вниманием осматривает новую, маленькую землю“ (54). Образы измененного времени и пространства даны в восприятии Иуды, но стилистически его сознание здесь, в конце повести, как об этом уже говорилось выше, трудно отличить от сознания повествователя — они совпадают. Непосредственно в заключении повести это же видение пространства и времени формулирует повествователь („Узнала о ней каменистая Иудея, и зеленая Галилея… и до одного моря и до другого, которое еще дальше, долетела весть о смерти Предателя… и у всех народов, какие были, какие есть…“ — 61). Предельный масштаб укрупнения художественного времени и пространства (вечность, земной шар) придает событиям характер бытийных и сообщает им значение должного.
Повествователь завершает повесть проклятием Иуде. Но проклятие Иуде неотделимо у Андреева от осанны Христу, торжество христианской идеи — от предательства Искариота, сумевшего заставить человечество увидеть живого Бога. И неслучайно после распятия Христа даже „твердый“ Петр чувствует „в Иуде кого-то, кто может приказывать“ (59).
Такой смысл сюжетного движения авторской мысли в повести Андреева мог показаться современникам писателя не столь уж шокирующим, если учесть, что русское культурное общество знало творчество Оскара Уайльда, давшего еще в 1894 году близкую трактовку гибели Христа. В стихотворении в прозе Учитель Уайльд рассказывает о прекрасном юноше, горько плачущем в Долине Отчаяния на могиле праведника.
Своему утешителю юноша объясняет: „Это не о нем проливаю я слезы, но о себе самом. И я претворял воду в вино, и я исцелял прокаженных, и я возвращал зрение слепым. Я ходил по водам и из живущих в пещерах я изгонял бесов. И я насыщал голодных в пустынях, где не было пищи, и я воздвигал мертвых из их тесных обителей, и по моему повелению на глазах у великого множества людей иссохла бесплодная смоковница. Все, что творил этот человек, творил и я. И все же меня не распяли“./10/
О симпатиях Л. Андреева к О. Уайльду свидетельствуют воспоминания В. В. Вересаева./11/
Андреевская концепция Иуды не позволяет согласиться с выводом автора одной из самых серьезных интерпретаций повести последнего времени, что смысл произведения „в однозначном заключении о глобальном бессилии человека“./12/ Повесть действительно „задает вопрос, как пишет исследователь, на что способен человек“, но и отвечает иначе. Уже вопль Иуды об отсутствии человека на земле потому столь гневен, что, вопреки распространенному мнению, Иуде свойственно представление о высоком предназначении человека („-Разве это люди: — горько жаловался он на учеников… -Это же не люди ! (…) Разве я когда-нибудь говорил о людях дурно? — удивлялся Иуда. -Ну да, я говорил о них дурно, но разве не могли бы они быть немного лучше?“ — 36).
И это представление о сущностных возможностях человека, в принципе, не было поколеблено недостойным поведением окружающих: иначе со стороны Иуды звучала бы не яростная отповедь, а плач. Но главное — сам Иуда. Ведь он, Иуда Искариот, и есть Человек со всей его сложностью, сумятицей мыслей и чувств, слабостью, но победивший „все силы земли“, которые мешали „правде“. Правда, самому Иуде, как об этом говорится в Евангелии, лучше бы не родиться. Победа его „ужасна“, а участь „жестока“, по определению автора.
Иуда Андреева — классический трагический герой, со всем набором положенных ему признаков: противоречием в душе, чувством вины, страданием и искуплением, незаурядным масштабом личности, героической активностью, бросающей вызов судьбе. В парадигму образа Иуды в повести Андреева входит мотив неотвратимости, всегда связанный с субстанциальными величинами. „Господи! — сказал он. -Господи! (…) Потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами и тяжело задумался… похожий на человека, который прислушивается. и так долго стоял он, тяжелый, решительный и всему чужой, как сама судьба “ (33).
„Безмолвным и строгим, как смерть в своем величии, стоял Иуда из Кариота…“ (43). А трагический герой велик — вопреки всему. И автор, по мере приближения к развязке событий, укрупняет фигуру Иуды, акцентирует решающую роль его, Человека, в состоянии мира, настойчиво развивая тему близости Иуды и Христа, Человека и Бога. Их обоих окружает ореол тайны и молчания, обоим нестерпимо „больно“, каждый переживает одну и ту же „смертельную скорбь“ („…и зажглась в его сердце смертельная скорбь, подобная той, которую испытал перед этим Христос“ — 43, 41). Совершив задуманное, Иуда „ступает… твердо, как повелитель, как царь …“ (53).
Вспомним, что Христос называл себя Царем Иудейским. Вектор пространства, в которое вписан Андреевым Иуда, обращен вверх, в небо, куда „призраком“ поднимается Иисус. „И, вглядываясь в колеблющийся призрак …, Иуда… начал строить что-то огромное… он поднимал какие-то громады… и плавно накладывал одна на другую ; и снова поднимал , и снова накладывал ; что-то росло во мраке. Вот куполом почувствовал он голову свою…“ (20). Осуществив свой план, Иуда видит новую, „маленькую “ землю всю „под своими ногами ; смотрит на маленькие горы… и горы чувствует под своими ногами ; смотрит на небо… — и небо и солнце чувствует под своими ногами “ (54). Смерть свою Иуда продуманно встречает „на горе, высоко над Иерусалимом“ (60), куда трудно, но упорно поднимается, подобно Христу, восходящему на Голгофу. Его глаза на мертвом лице „неотступно смотрят в небо“ (61).
Во время своих земных странствий с Учителем Иуда мучительно переживает его холодность, но после свершения того, что люди назвали „предательством“, он ощущает себя братом Иисуса, неразрывно связанным и уравненным с ним общими страданиями, целью, ролью Мессии. „Я иду к тебе,— бормочет Иуда.— Потом мы вместе с тобою, обнявшись, как братья , вернемся на землю“ (60). Братьями видит Христа и Иуду и повествователь: „…и среди всей этой толпы были только они двое, неразлучные до самой смерти, дико связанные общностью страданий,— тот, кого предали на поругание и муки, и тот, кто его предал. Из одного кубка страданий, как братья , пили они оба, преданный и предатель, и огненная влага одинаково опаляла чистые и нечистые уста“ (45). Две равные жертвы, по Андрееву, принесены человечеству Иисусом и Иудой, и их равновеликость в сюжете повести уравнивает Человека и Бога в их созидательных возможностях./13/ Неслучайно Иуда настаивает на том, что человек сам хозяин своей души („…зачем тебе душа, если ты не смеешь бросить ее в огонь, когда захочешь!“ ?58).
Принципиально для новой концепции Иуды игнорирование автором образа Бога-Отца, как известно, играющего в Евангельской версии роль инициатора всех событий. В повести Андреева Бога-Отца нет. Распятие Христа с начала и до конца продумано и осуществлено Иудой, и им взята на себя полная ответственность за свершенное. И Иисус не препятствует его замыслу, как подчинился в Евангелии решению Отца. Автор отдал Иуде-человеку роль демиурга, Бога-Отца, закрепив это роль несколько раз повторенным обращением Иуды к Иисусу: „сыночек“, „сынок“ (46, 48).
Предательство Иуды в повести Андреева — предательство по факту, но не по идее. Андреевская интерпретация Иудиного предательства вновь обнажала актуальную с ХIХ века для русского общественного сознания проблему соотношения цели и средств, казалось, закрытую Достоевским. Поэма Ивана Карамазова о Великом Инквизиторе однозначно отказывала безнравственным средствам в оправдании их какой угодно высокой целью — отказывала как от лица автора, так и Христа. Сюжет поэмы раскрывал ужасающую картину человеческого счастья по-инквизиторски. Сам Великий Инквизитор являлся на сцену после сожжения сотни еретиков. Прощальный поцелуй Христа был поцелуем сострадания лицу столь нравственно безнадежному, что возражать ему Христос считал бессмысленным. Тихий и кроткий его поцелуй был беспощадным приговором Старцу.
В отличие от Великого Инквизитора, Иуда верит в Иисуса. Великий Инквизитор грозит Христу костром за то, что он пришел, Иуда же клянется, что даже в аду будет готовить пришествие Христа на землю. Великий Инквизитор принял решение „вести людей уже сознательно к смерти и разрушению“./14/ Предательство Иуды преследует цель прийти „вместе с Иисусом“ на землю и „разрушить смерть“.
Сюжет повести Андреева несет в себе историческое оправдание Иудиному предательству. И молчание андреевского Христа иное, чем молчание Христа Достоевского. Место кротости и сострадания в нем занял вызов — реакция на равного. Создается впечатление, что Христос едва ли не провоцирует Иуду на действие. „Все хвалили Иуду, все признавали, что он победитель, все дружелюбно болтали с ним, но Иисус,— но Иисус и на этот раз не захотел похвалить Иуду…“ (19).
Подобно самому Иуде и повествователю, в отличие от других учеников, Христос видит в Иуде творца, созидателя, и автор это подчеркивает: „…Иуда забрал в железные пальцы всю душу и… молча, начал строить что-то огромное. Медленно, в глубокой тьме, он поднимал какие-то громады, подобные горам, и плавно накладывал одна на другую… и что-то росло во мраке… ширилось беззвучно, раздвигало границы. (…) Так стоял он, загораживая дверь… и говорил Иисус… Но вдруг Иисус смолк… (…) И когда последовали за его взором , то увидели… Иуду “ (20). молчании андреевского Иисуса, понявшего замысел Иуды, кроется глубокое раздумье („…Иисус не захотел похвалить Иуду. Молча шел он впереди, покусывая сорванную травинку…“ — 19) и даже смятение („Но вдруг Иисус смолк — резким незаконченным звуком… (…) И когда последовали за его взором, то увидели… Иуду…“ (20). „Прямо к Иуде шел Иисус и слово какое-то нес на устах своих — и прошел мимо Иуды…“ (20).
Молчание прикрывает какую-то неясность реакции Христа на замысел Иуды — неясность для Иуды, для читателя. Но, может быть, и для самого Христа? Эта неясность позволяет предположить и возможность потаенного согласия с Иудой (особенно в силу хотя бы отдаленной аналогии реакции евангельского Христа на решение Бога-Отца). „-Ты знаешь, куда иду я, господи? Я иду предать тебя в руки твоих врагов. И было долгое молчание… — Ты молчишь, господи? Ты приказываешь мне идти? И снова молчание. -Позволь мне остаться. Но ты не можешь? Или не смеешь? Или не хочешь? “ (39).
Но молчание может одновременно означать и возможность несогласия с Иудой, вернее, невозможность согласия, ибо факт предательства любви, даже во имя любви же („любовью распятая любовь“ — 43), при всей его исторической целесообразности остается для автора и Христа несопрягаем с нравственной и эстетической сущностью жизни („…ты не можешь? Или не смеешь?“). Не случайно Христос „освещает молнией своего взора“ „чудовищную груду теней, что была душой Искариота“ и ее „чудовищный “ хаос. Труп Иуды, в восприятии повествователя, похож на „чудовищный “ плод». Много раз в повести имя Иуды соседствует со смертью. И автор неоднократно напоминает, что творческая мысль Иуды зреет в «необъятном мраке », «непроглядном мраке », «в глубокой тьме » его души (19, 20).
Христос Андреева, как и Христос Достоевского, тоже не позволяет себе нарушить молчание, но по другой причине: не считает нравственным канонизацию никакого одного (на всех и навсегда) разрешения проблемы.
В сознании современников серебряного века вечная проблема соотношения цели и средств трансформировалась в оппозицию: творчество — мораль. Так она поставлена и в повести Андреева. Нет никаких оснований абсолютизировать в русском общественном, философском и художественном сознании начала ХХ века чувства бессилия, обреченности и отчаяния личности перед вечностью и историей, как это часто делают современные исследователи. Наоборот, нельзя не заметить в философии, идеологии, искусстве этого периода, установки, подчас этапирующей, на активное творческое вмешательство человека во все сферы земной жизни и его способность изменить мир./15/ Подобная установка дает о себе знать в огромном авторитете Ницше, с его походом против морали, попытках модернизировать религию, семью, искусство, в признании за искусством теургической функции, распространении в литературе богоборческих мотивов, в популярности идеи социальных преобразований российской действительности, внимании литературной критики к герою-деятелю и др. Понятие творчества противопоставлялось морали, рабству, вообще традиции, пассивности и выступало в тесной связке с представлениями о свободе, новаторстве, любви и жизни, индивидуальности.
Сама субстанция творчества, традиционно рассматриваемая мировой культурой чаще всего в трагическом ключе, в культурном сознании серебряного века обнаруживала тенденцию трансформироваться в героическую. Возьмем для иллюстрации высказывания двух разительно несхожих своей творческой индивидуальностью и мироотношением представителей русской культуры этого времени — М. Горького и Л. Шестова. В 1904 г. Горький писал Л. Андрееву: «…несмотря на знание будущей гибели… — он (человек) все работает, все творит и не для того творит, чтобы отвратить эту гибель бесследную, а просто из какого-то гордого упрямства. „Да, я погибну, я погибну бесследно, но прежде я построю храмы и создам великие творения. Да, я знаю и они погибнут бесследно, но я создам их все-таки и да — я так хочу!“ Вот человеческий голос»./16/
В книге Л. Шестова Апофеоз беспочвенничества , вышедшей годом позже, читаем: «Природа повелительно требует от каждого из нас индивидуального творчества. (…) Да почему бы в самом деле каждому взрослому человеку не быть творцом, не жить за свой страх и не иметь собственного опыта? (…) Хочет человек или не хочет, рано или поздно придется ему признать непригодность всякого рода шаблонов и начать творить самому. И разве… это уже так ужасно? Нет общеобязательных суждений — обойдемся необщеобязательными./17/ „…первое и существенное условие жизни — это беззаконие. Законы — укрепляющий сон. Беззаконие — творческая деятельность“./18/
На фоне тенденции героизировать творческий акт Андреев возвращается к концепции трагической природы творчества, выявляющейся в его отношении к морали. В изображении Андреевым предательства Иуды Искариота оживают хорошо известные культурному читателю романтические мотивы душевного смятения, безумия, отверженности и гибели творца, окружающей его тайны, его инфернальности.
В отличие от предательства апостолов, принадлежащего эмпирике жизни (оно даже не было замечено очевидцами событий), предательство Иуды помещено автором в сферу субстанциального. Изображение предательства Иуды в повести Андреева несет в себе все признаки трагедии, зафиксированные известными эстетическими системами Гегеля, Шеллинга, Фишера, Кьеркегора, Шопенгауэра, Ницше.
Среди них — гибель героя как следствие его вины, но не отрицания того принципа, во имя которого он погибает, и как знак победы „моральной субстанции в целом“; противоречие между стремлением к свободе и необходимостью устойчивости целого при равной их оправданности; сила и определенность характера героя, который в трагедии нового времени заменяет судьбу; историческая оправданность вины героя и резиньяция героя как следствие просветления страданием; ценность самосознающей рефлективной субъективности героя в ситуации нравственного выбора; борьба аполлоновского и дионисийского начала и др.
Перечисленные особенности трагедии маркированы разными эстетическими системами, подчас отрицающими друг друга; в повести же Андреева они служат одному целому, и их синтез характерен для творческого метода писателя. Но трагическая коллизия не предполагает однозначной нравственной оценки — оправдания или обвинения. Ей присуща иная система определений (величественное, значительное, памятное), которые подчеркивают большой масштаб событий, составляющих трагическую коллизию, и особую силу их воздействия на судьбы мира.
Трагическая коллизия, коей предстает перед читателем предательство Иуды Искариота в повести Андреева, не пример для подражания и не урок предостережения, она в сфере не действия, а внутренней работы духа, вечный предмет осмысления во имя самопознания человека. Неслучайно сам автор произведения много раз напоминал: „Я человек жизни внутренней, душевной, но не человек действия“./19/ „По натуре я не революционер… вообще в действии не гожусь ни к чему. С другой стороны, люблю в тишине думать, и в области мысли моей задачи мои, как они мне представляются, революционные. Мне еще очень много хочется сказать — о жизни и о боге, которого я ищу“./20/
_____________
Примечания
/1/ Архив А. М. Горького , Т. IХ. М., 1966. С. 23.
/2/ Ильев С. П. Проза Л. Н. Андреева эпохи первой русской революции . Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Одесса, 1973. С. 12-14; Колобаева Л. А. М., 1990. С. 141-144.
/3/ См.: Спивак Р. Русская философская лирика. Проблемы типологии жанров . Красноярск, 1985. С. 4-71; Спивак Р. Архитектоническая форма в работах М. Бахтина и понятие метажанра // Bakhtin and the Humanities . Ljubljana, 1997. С. 125-135.
/4/ Как указывает А. Ф. Лосев, в античной философии Хаос понимается как беспорядочное состояние материи. У Овидия образ Хаоса встречается в виде двуликого Януса (Мифы народов мира . Т. 2. М., 1982. С. 580). Ср.: „… и тут Фома впервые смутно почувствовал, что у Иуды из Кариота — два лица“. Андреев Л. Повести и рассказы : В 2 т. Т. 2. М., 1971. С. 17. В дальнейшем цитируем по этому изданию с указанием страницы в тексте.
/5/ Соловьев В. С. Поэзия Ф. И. Тютчева // Он же. Литературная критика . М., 1990. С. 112. См. там же: „Это присутствие хаотического, иррационального начала в глубине бытия сообщает различным явлениям природы ту свободу и силу, без которых не было бы и самой жизни и красоты“ (С. 114). См. также о Хаосе в трудах Л. Шестова: „На самом деле хаос есть отсутствие всякого порядка, значит, и того, который исключает возможность жизни. (…) …в жизни… где царит порядок, встречаются трудности… абсолютно неприемлемые. И тот, кто знает эти трудности, не побоится попытать счастья с идеей хаоса. И, пожалуй, убедится, что зло не от хаоса, а от космоса…“ (Шестов Л. Соч .: В 2 т. Т. 2. М., 1993. С. 233.
/6/ См.: Корман Б. О. Практикум по изучению художественного произведения . Ижевск, 1977. С. 27.
/7/ Л. Андреев говорил Горькому: „Ты когда-нибудь думал о разнообразии мотивов предательства? Они — бесконечно разнообразны. У Азефа была своя философия…“ (Литературное наследство . Т. 72. Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка . М., 1965. С. 396.
/8/ Горький М. Полн. собр. соч.: В 25 т. Т. 7. М., 1970. С. 153, 172.
/9/ Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. М.: Худ. лит., 1965. С. 557.
/10/ Уайльд О. Полн. собр. соч. ; 4 т. Т. 2. СПб.: Изд-во т-ва А. Ф. Маркс, 1912. С. 216.
/11/ Вересаев В. В. Воспоминания . М. -Л., 1946. С. 449.
/12/ Колобаева Л. А. Концепция личности в русской литературе рубежа ХIХ-ХХ вв. М.: Изд-во МГУ, 1990. С. 144.
/13/ Такая интерпретация авторской концепции получает опору в различных высказываниях самого Андреева: „Как ни разнятся мои взгляды со взглядами Вересаева и других, у нас есть один общий пункт, отказаться от которого значит на всей нашей деятельности поставить крест. Это — царство человека должно быть на земле. Отсюда призывы к богу нам враждебны“ (Андреев — А. Миролюбову, 1904 г. Лит. архив , 5 М. -Л., 1960. С. 110). „Знаешь, что больше всего я сейчас люблю? Разум. Ему честь и хвала, ему все будущее и вся моя работа“ (Андреев — Горькому, 1904 г. Литерат. наследство . С. 236). „Ты проклинаешь то самое сектантство, которое в народе всегда было при самых уродливых формах только волею к творчеству и свободе, немеркнущим бунтарством…“ (Андреев — Горькому, 1912 г. Литерат. наследство . С. 334).
/14/ Достоевский Ф. М. Собр. соч .: В 15 т. Т. 9. Л.: Наука , 1991. С. 295.
/15/ О становлении концепции человека — творца жизни в русской культуре начала ХХ века см.: Спивак Р. С. Исторические предпосылки усиления философского начала в русской литературе 1910-х гг. // Литературное произведение: слово и бытие . Донецк, 1977. С. 110-122.
/16/ Литературное наследство . С. 214.
/17/ Шестов Л. Избранные сочинения . М., 1993. С. 461.
/18/ Там же. С. 404.
/19/ Литературное наследство . С. 90.
/20/ Там же. С. 128.
Спивак Рита Соломоновна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Пермского государственного университета .
Публ.: „Sine arte, nihil. Сборник научных трудов в дар профессору Миливое Йовановичу“ — Редактор-составитель Корнелия Ичин. „Пятая страна“, Белград-Москва, 2002, 420 с. („Новейшие исследования русской культуры“, выпуск первый.— ISBN 5-901250-10-9)