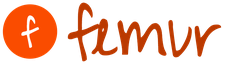Критика о творчестве А. Солженицына
Статья Валентина Распутина, посвященная 80-летию Александра Солженицына, к сожалению, поступила к нам уже после того, как был сверстан предыдущий субботний номер. Но разве она потеряла свою актуальность? Ведь значимость большого писателя определяется не юбилейными датами. Нашему читателю, без сомнения, будет интересна оценка, которую дает наш знаменитый земляк творчеству Александра Солженицына.
Как и во всякой большой литературе, в русской литературе существует несколько пород таланта. Есть порода Пушкина и Лермонтова - молодого, искрящегося, чувственного легкокрылого письма, дошедшая до Блока и Есенина; есть аксаковско-тургеневская, вобравшая в себя Лескова и Бунина, необыкновенно теплого, необыкновенно русского настроения и утраченного уже теперь острого обоняния жизни; их зачатие и вынашивание имеют какое-то глубинное, языческое происхождение, из самого нутра спрятанного в степях и лесах национального заклада. Есть и другие породы, куда встанут и Гоголь с Булгаковым, и Некрасов с Твардовским, и Достоевский, и Шолохов, и Леонов. И есть порода Державина - богатырей русской литературы, писавших мощно и гулко, мысливших всеохватно, наделенных к тому же богатырским запасом физических сил. Сюда нужно отнести Толстого и Тютчева. Здесь же в ХХ веке по праву занял свое место Солженицын.
Почти все написанное А.И. Солженицыным имело огромное звучание. Первую же работу никому тогда, в 1962 году, не известного автора читала вся страна. Читала взахлеб, с удивлением и растерянностью перед явившимся вдруг расширением жизни и литературы, перед расширением самого русского языка, зазвучавшего необычно, в самородных формах и изгибах, которые еще не ложились на бумагу. Приоткрылся незнакомый, отверженный мир, находившийся где-то за пределами нашего сознания, вырванный из нормальной жизни и заселенный на островах жизни ненормальной - тот мир, откуда вышел Иван Денисович Шухов, маленький непритязательный человек, один из тьмы тысяч. И вышел-то на день один из тьмы своих дней между жизнью и смертью. Но этого оказалось достаточно, чтобы многомиллионный читатель обомлел, признавая его и не признавая, обрушив на него лавину сострадания вместе с недоверием, вины и одновременно тревоги.
Вести, литературного характера тоже, доходили из того мира и прежде, но они были разрозненными, прерывистыми, невнятными, как в азбуке Морзе, сигналами, ключом к расшифровке которых владели по большей части побывавшие там. Иван же Денисович, в отпущенный ему день выведенный из барака на работу больным и в работе поправившийся и даже воодушевившийся, ничего от нас не потребовавший, ничем не укоривший, а только представший таким, какой он есть, оказался соразмерен нашему невинному сознанию и вошел в него без усилий. Вольно или невольно, автор поступил предусмотрительно, подготовив вкрадчивым и тароватым Шуховым, ни в чем не посягнувшим на читательское благополучие, пришествие "Архипелага ГУЛАГ". Без Шухова столкновение с ГУЛАГом было бы чересчур жестоким испытанием. Испытание - читать? "А испытание претерпевать, оказаться внутри этой страшной машины?" - вправе же мы сами себя и спросить. Да, это несопоставимые понятия, существование на разных планетах. И тем не менее испытание собственной шкурой не отменяет "переводного" испытания, испытания свидетельством. Обмеренный, исчисленный, многоголосый и неумолчный ГУЛАГ в натуральную величину и "производительность" - он и после Ивана Денисовича для многих явился чрезмерным ударом; не выдерживая его, они оставляли чтение. Не выдерживали - потому что это был удар, близкий к физическому воздействию, к восприятию пытки, выдыхаемой жертвами. Воздействие "Иваном Денисовичем" было не слабей, но другого - нравственного - порядка, вместе с болью оно давало и утешение. Чтобы прийти в себя после "Архипелага", следовало снова вернуться к "Ивану Денисовичу" и почувствовать, как мученичество от карающей силы выдавливает исцеляющее слезоточение.
Сразу после "Ивана Денисовича" - рассказы, и среди них "Матренин двор". И там и там в героях поразительная, какая-то сверхъестественная цепкость к жизни и вообще свойственная русскому человеку, но мало замечаемая, не принимаемая в расчет при взгляде на его жизнеспособность. Когда терпение подбито цепкостью, оно уже не слабоволие, с ним можно многое перемочь. Солженицын и сам, не однажды приговоренный, явил это качество в наипоследнем истяге, говоря его же словом, когда и свет мерк в глазах, снова и снова подниматься на ноги. Л.Н. Толстой словно бы и родился в пеленках великим. А.И. Солженицыну к своему величию пришлось продираться слишком издалека. "Не убьет, так пробьется" - вот это для него, для русского человека! - и давай его бить-колотить по всем ухабам, и давай его охаживать из-за каждого угла, и давай его на такую дыбу, что и небо с овчинку! Вот по такой дороге и шел к своему признанию Александр Исаевич. Выжил, научился держать удар, приобрел науку разбираться, что чего стоит, - после этого полной мерой дары во все "емкости", никаких норм.
"Матренин двор" заканчивается словами, которые почти сорок лет остаются на наших устах:
"Все мы жили рядом с ней (с Матреной Васильевной. - В.Р.) и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит ни село. Ни город. Ни вся земля наша".
Едва ли верно, как не однажды высказывалось, будто вся "деревенская" литература вышла из "Матрениного двора". Но вторым своим слоем, слоем моих сверстников, она в нем побывала. И уж не мыслила потом, как можно, говоря о своей колыбели - о деревне, обойтись без праведника, сродни Матрене Васильевне. Их и искать не требовалось - их нужно было только рассмотреть и вспомнить. И тотчас затеплялась в душе свечечка, под которой так сладко и отрадно было составлять житие каждой нашей тихой родины, и вставали они, старухи и старики, жившие по правде, друг после дружки в какой-то единый строй вечной подпоры нашей земле.
Кроме этой заповеди - жить по правде, - другого наследства у нас остается все меньше. А этим - пренебрегаем.
У крупных фигур свой масштаб деятельности и подъемной силы. Не поддается понимаю, как сумел Солженицын еще до изгнания, в весьма стесненных условиях, собрать, обработать и ввести в русло книги все то огромное и сжигающее, составившее "Архипелаг ГУЛАГ"! И откуда брались силы уже в Вермонте совладать с горой материала, надо думать, нескольких архивных помещений для "Красного колеса"! Успевая при этом вести еще публицистическое путеводство для России и Запада, успевая составлять и редактировать две многотомные библиотечные серии по новейшей русской истории! Тут годится только одно сравнение - с "Войной и миром" и Толстым. Солженицына с Толстым роднит многое. Одинаковая глыбастость фигур, огромная воля и энергия, эпическое мышление, потребность как у одного, так и у другого через шестьдесят примерно лет отстояния от исторических событий обратиться к закладным судьбоносным векам начала своего века. Это какое-то мистическое совпадение. Огромная популярность в мире, гулкость статей, звучание на всех материках. Один отлучен от церкви, другой от Родины. Помощь голодающим и помощь политзаключенным, затем литературе. Оба - великие бунтари, но Толстой создал свое бунтарство "на ровном месте", в условиях личного и отеческого (относительно, конечно) благополучия, Солженицын весь вышел из бунтарства, его в нем взрастила система. Солженицына судьба резко бросала с одной крутизны на другую, у Толстого биография после кавказской кампании взяла тихую гавань в Ясной Поляне и вся ушла в сочинительство и духовную жизнь. Но и после этого: повороты, приближающие их друг к другу. Солженицын в Америке погружается в затворничество, Толстой перед смертью совершает совсем не старческий поступок вечного бунтаря - свой знаменитый уход из Ясной Поляны.
И самое главное: "Лев Толстой как зеркало русской революции" и Александр Солженицын как зеркало русской контрреволюции спустя семьдесят лет после революции.
Редкий человек, ставя перед собой непосильную цель, доживает до победы. Александру Исаевичу такое выпало. Объявив войну могущественной системе, на родине призывая подданных этой системы жить не по лжи, а в изгнании постоянно призывая Запад усиливать давление на коммунизм, едва ли Солженицын мог рассчитывать при жизни на что-либо еще, кроме идеологического ослабления и отступления коммунизма на более мягкие позиции. Случилось, однако, большее и, как вскоре выяснилось, худшее: система рухнула. История любит сильные и быстрые ходы, на обоснование которых затем приносятся огромные жертвы. Так было в 1917-м году, так произошло и на этот раз.
Боясь именно такого исхода в будущем, Солженицын не однажды предупреждал: "... но вдруг отвались завтра партийная бюрократия... и разгрохают наши остатки еще в одном феврале, в еще одном развале" ("Наши плюралисты", 1982 г.). А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла еще только снизиться. Пожалуй, внезапное введение ее сейчас было бы лишь новым горевым повторением 1917 года" ("Письмо вождям Советского Союза", 1973 г.).
По часам русской переломной жизни, ход которых Солженицын хорошо изучил, трудно было ошибиться: как за Февралем неминуемо последовал Октябрь, так и на место слетевшейся к власти образованщины, мелкой, подлой и жуликоватой, не способной к управлению, придут хищники высокого полета и обустроят государство под себя. Все это было и предвидено Солженицыным, и сказано, но бунтарь, жаждавший окончательной победы над старым противником, говорил в нем сильнее и заглушил голос провидца. "Красное колесо", прокатившееся от начала и до конца века, лопнуло... но если бы красным был в нем только обод, который можно срочно и безболезненно заменить и двигаться дальше!.. Нет, обод сросся и с осью, и со ступицей, то есть со всем отечественным ходом, с национальным телом - и рвать-то с бешенством и яростью принялись его, тело... и до сих пор рвут, густо вымазанные кровью.
Но сказанное надолго опасть и умолкнуть с переменой власти не могло. И ничего удивительного, что многое из относящегося к одной системе, само собой переадресовалось теперь на другую и даже получило усиление - вместе с усилением наших несчастий. Так и должно быть: правосудие борется с преступлением против национальной России, и новое знамя, выставленное злоумышленниками, честного судью не смутит.
"Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь - его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несет и кричит: "Я - Насилие! Разойдитесь, расступитесь - раздавлю!" Но насилие быстро стареет, немного лет - оно уже не уверенно в себе и, чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, непременно вызывает к себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а Ложь может держаться только насилием" (Жить не по лжи").
"Против многого в мире может выстоять ложь - но только не против искусства. А едва развеяна будет ложь, отвратительно откроется нагота насилия - и насилие дряхлое падет" (Нобелевская лекция).
Нет, это не перелицованный Солженицын - все тот же, клеймящий зло, какие бы ипостаси оно не принимало.
А вот это совсем любопытно - несмотря на некоторые старые обозначения:
"Один американский дипломат воскликнул недавно: "Пусть на русском сердце Брежнева работает американский стимулятор!" Ошибка, надо было сказать: "на советском". Не одним происхождением определяется национальность, но душою, но направлением преданности. Сердце Брежнева, попускающего губить свой народ в пользу международных авантюр, не русское" ("Чем грозит Америке плохое понимание России").
В точку.
Возвращение Александра Исаевича на многострадальную Родину, начавшееся четыре года назад, окончательно завершилось только недавно, с выходом книги "Россия в обвале" (издательство "Русский путь"), теперь можно сказать, что после 20-летнего отсутствия Солженицын снова врос в Россию и занял по принадлежащему ему нравственному влиянию, а с ним отныне совпадает и угадывание почвенных токов, первое место в России, избрав его в отдалении от всех политических партий, на перекрестке дорог, ведущих в глубинку, где остается надежда на народовластие, которое понимает он под земством. Опять же: не со всем и в последней книге можно согласиться безоговорочно. Но это отдельный разговор. Это отдельное размышление, и оно снова не обошлось бы без Толстого, который, конечно же, не добивался ни Февраля, ни Октября, но своими громогласными отрицаниями основ современной ему монархической жизни невольно подставил им плечо. Это размышление о подготавливании словно бы самим народом и словно бы вперекор своим ближайшим интересам великих нравственных авторитетов, чье влияние и учение согласуется с дальней перспективой отечественной судьбы.
80-летний юбилей А.И. Солженицына - толчок для многих серьезных размышлений о крестном пути России. Они, разумеется, каждодневны, с ними мы засыпаем и с ними просыпаемся. Но вот наступает однажды день, как этот, приподнятый над роковой обыденностью, в которую засасывает нас все больше и больше, - и тогда все видится крупней и значительней. Если рожает русская земля таких людей - стало быть, по-прежнему она корениста, и никаким злодейством, никаким попущением так скоро в пыль ее не истолочь. Если после всех трепок, учиненных ей непогодой, сумела лишь усилиться и обогатиться на поросль - отчего ж не усилиться и ей и не обратить со временем невзгоды свои в опыт и мудрость?! Есть люди, в ком современники и потомки видят родительство земли большим, чем отца с матерью.
Оттого и звучит она так: Родина, Отечество!
ВАСИЛИЙШАХОВ
АНТИ-СОЛЖЕНИЦЫН: ЕСЕНИН И РАСПУТИН
Валентин Иванович Распутин в Рязани…Пока ещё нет такого исследования, но оно готовится… Валентина Ивановича пригласили на родину русского гения, чтобы вручить ему ПОЧЁТНЫЙЕСЕНИНСКИЙ ЗНАК… Правительство Рязанской области и Союз писателейРоссии учредили в 1990-ые премию имени Сергея Александровича Есенина…
…Личный архив (по материалам «Рязанской Энциклопедии», «Липецкой Энциклопедии»)…
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ КАКОВКИН, уроженец деревниНовоселье Добровского района Липецкой (ранее - Рязанской) области. Учился в Трубетченской средней школе, в школе рабочей молодёжи города Липецка. Окончил Воронежский университет, Московскую высшую партшколу. Работал редактором районной газеты в Тульской области, собственным корреспондентом ТАСС по Удмуртской АССР, по Рячзанской области. Учредитель патриотических организаций «Земля Рязанская», Фонд 900-летие Рязани, Межрегиональный фонд С.А. Есенина. Был председателем Комитета по Всероссийским Есенинским премиям. Их лауреатами стали выдающийся русский композитор Г.В. Свиридов, известные поэты И.В.Лысцов, Ю.П. Кузнецов, С.Ю. Куняев, выдающийся дирижер В.И. Федосеев, популяризаторы есенинского творчества Б.М.Шальнев, Т.И. Смертина, В.И. Синельников, В.В.Шахов.
А.Н. Каковкин - один из учредителей, зам. главного редактора всероссийского литературно-художественного и публицистического журнала Союза писателей России «ЧАС РОССИИ».
Валентин Иванович Распутин в Рязани… Рязанский Кремль… Анатолий Николаевич Каковкин, Борис Михайлович Шальнев, Владимир Иванович Астахов, Василий Васильевич Шахов выступают в роли «экскурсоводов»…
Рязанская Есениниана живо интересует Валентина Ивановича… «ХОЖДЕНИЕ В РЯЗАНЬ» - поэма Евгения Долматовского… «Куда вы, бронзовый поэт с небесными глазами?..…Вы не бывали столько лет на родине - в Рязани. Там дни поэзии как раз. Ну как они пройдут без вас?.. Чужды для этого момента и поезд, и автомобиль. Здесь нужен серый волк с царевной, ковёр, который самолёт…Над Трубежем, рекою древней, Есенин бронзовый идёт. Идёт по улицам Рязани её почётный гражданин. Плакат о пятилетнем плане по ветру плещется над ним…»
Сергей Есенин в духовном мире нашего современника… Есенинские уроки в школе… Есенин всегда и сегодня… Есенинское слово для «физиков» и «лириков»…
Ранняя осень в Подмосковье и на Рязанщине. Просветлённые, сквозистые березняки. Радужная позёмка опавшей листвы в дубравах, рощах и перелесках. Сентябрьские листопады. Журавлиные прощальные клики с поднебесья. Умиротворенный шум пустеющего бора. Всполохи калиновых гроздьев, пламя рябиновых костров.
Есенинские дни поэзии. Есенинские чтения… Конкурсы юных чтецов-декламаторов, юных художников-иллюстраторов, юных любителей песенного слова.
Есенин как личность, мыслитель, художник - в центре особзаинтересованного внимания поэтов, прозаиков, драматургов, публицистов, музыкантов, живописцев, культурологов, искусствоведов, кинематографистов. О «загадках» и «тайнах» Есенина страстно дискутируют и полемизируют «физики» и «лирики» ХХ-ХХ1 столетий.
…Можно было бы издать уникальный альбом «У ПАМЯТНИКА ЕСЕНИНУ В РЯЗАНСКОМ КРЕМЛЕ»… Валентин Иванович Распутин…Участники международных Есенинских форумов…Пётр Юшин, Юрий Прокушев, Пётр Проскурин, Василий Фёдоров, Владимир Фёдоров, Николай Рыленков, Виктор Боков, Михаил Дудин… Когда сегодня лукавые антисоветчики-ленинопадцыглаголят о скудности литературы социалистического реализма, то они фактически «сбрасывают с корабля» социалистической культуры вот этих воистину талантливых людей: Николай Тихонов, Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев,Сергей Викулов, Владимир Цыбин, Николай Доризо, Лариса Васильева, Юстинас Марцинкявичюс…Есенин всегда и сегодня… Есенинская Рязанщина… «Русь моя, Рязань моя, Россия, отсветы берёзовой коры… Я люблю тебя с времён Батыя, с давней незапамятной поры. Я люблю тебя светло и свято. Ты навек смутила мой покой удалью Евпатья Коловрата, вечною есенинской строкой» (Сергей Островой).
2.
«Это гораздо больше, чем классовые расхождения в 1917 году».
«…Повалили Отечество и, как хищники, набросились на него - картина отвратительная, невиданная!
Двадцать лет назад мировое государство с единым правительством, единой экономикой и единой верой могло еще считаться химерой. После крушения СССР и прихода в России к власти демократической шпаны, с восторгом докладывавшей американскому президенту об успехах разрушения, мир в несколько лет продвинулся в своих мондиалистских усилиях дальше, чем за многие предыдущие столетия. Пал бастион, которым держались национальное разнообразие и самобытные судьбы. После открытия Америки и устроения там могучего космополитического государства прорыв в Россию стал главным событием второй половины прошлого столетия. Это слишком важная победа, чтобы ее захотели отдать обратно. Сейчас Запад еще прислушивается: что происходит в недрах нашей страны? - а через два-три года с нами начнут поступать так же, как с Ираком и Фолклендскими островами.
- Объявлять конкурс на национальную идею - все равно что объявлять конкурс на мать родную. Это абсурд, который может прийти в голову только сознательным путаникам, взявшимся наводить тень на плетень. Вообще «верховные» поиски объединительной идеи шиты белыми нитками и имеют целью не что иное, как сохранение своей власти, приведение к присяге ей всей России. Этого никогда не будет. Сегодня заканчивается расслоение России не только на богатых и бедных, но и на окончательно принявших теперешний вертеп и окончательно его не принявших . Это гораздо больше, чем классовые расхождения в 1917 году …»Валентин Иванович Р а с п у т и н.
«ЭТО ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ КЛАССОВЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ В 1917 ГОДУ»… -
В преддверии 100-летия Великих Событий этот философско-методологический, историко-цивилизационный вывод Валентина Иванович Распутина звучит с особой весомостью, убедительностью. В этих распутинских словах - и тревожное провидчество, и предостережение.
Заветы и ответы: МОЖНО ЛИ НАДЕЯТЬСЯ НА МОЛОДЕЖЬ?
У меня впечатление, что молодежь-то как раз не «вышла» из России. Вопреки всему, что на нее обрушилось. Окажись она полностью отравленной и отчужденной от отеческого духа, в этом не было бы ничего удивительного, потому что от начала «перестройки» она вырастала в атмосфере поношения всего родного и оставлена была как государственным попечением, так и попечением старших поколений, которые разбирались между собой и своими партийными интересами.
Из чего я делаю эти выводы? Из встреч с молодежью в студенческих и школьных аудиториях, из разговоров с ними, из наблюдений, из того, что молодые пошли в храмы, что в вузах опять конкурсы - и не только от лукавого желания избежать армии, что все заметней они в библиотеках. Знаете, кто больше всего потребляет «грязную» литературу и прилипает к «грязным» экранам? Люди, близкие к среднему возрасту, которым от тридцати до сорока. Они почему-то не умеют отстоять свою личностность. А более молодые принимают национальный позор России ближе к сердцу, в них пока нетвердо, интуитивно, но все-таки выговаривается чувство любви к своему многострадальному Отечеству .
Молодежь теперь совсем иная, чем были мы, более шумная, открытая, энергичная, с жаждой шире познать мир, и эту инакость мы принимаем порой за чужесть. Нет, она чувствительна к несправедливости, а этого добра у нас- за глаза, что, возможно, воспитывает ее лучше патриотических лекций. Она не может не видеть, до каких мерзостей доходят «воспитатели» из телевидения, и они помогают ей осознать свое место в жизни. Молодые не взяли на себя общественной роли, как во многих странах мира в период общественных потрясений, но это и хорошо, что студенчество не поддалось на провокацию, когда вокруг него вилась армия агитаторов за «свободу».
Еще раз повторю: сбитых с толку и отравленных, отъятых от родного духа немало. Даже много. Но немало и спасшихся и спасающихся, причем самостоятельно, почти без всякой нашей поддержки. Должно быть, при поддержке прежних поколений, прославивших Россию.
ЗАВЕТЫИ ОТВЕТЫ: О РУССКОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ
И «ФАШИЗМЕ»
Подменять национальную идею фашизмом могут лишь люди злонамеренные, заинтересованные в окончательной гибели России. Народная идеология не может быть фашистской, тут сознательное передергивание карт, и далеко не безобидное для народа. Надо ли о нем, о народе, заботиться, опускаться даже до ложных поклонов перед ним, если он, за исключением небольшого просвещенного меньшинства, фашиствующий? Шкуру с него вон! Но знают ли господа, заправляющие политической кухней, насколько опасно блюдо, изготовлением которого они постоянно заняты, - национальное унижение?
Кричат: на галеры его, этот народ, если он перестает плясать под дудку политической режиссуры, если он, такой-рассякой, не понимает, для чего он существует! А потом и совсем от него избавиться. Методы массовой стерилизации, или как это еще называется, есть, история ими полна. А в Россию на его место «цивилизованный» народ из Европы, Турции, Китая, Кореи. Хватит дикость разводить! У Достоевского есть как нельзя лучше подходящие нашему моменту слова:
«Как же быть? Стать русским во-первых и прежде всего . Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу все изменится. Стать русским - значит перестать презирать народ свой ... Мы и на вид тогда станем совсем другие. Став самими собой, мы получим наконец облик человеческий, а не обезьяний».
Национальная униженность - это ведь не только предательство национальных интересов в политике и экономике и не только поношение русского имени с экранов телевидения и со страниц журналов и газет, но и вся обстановка, в том числе бытовая, в которой властвует, с одной стороны, презрение, с другой, уже с нашей,- забвение. Это и издевательство над народными обычаями, и осквернение святынь, и чужие фасоны ума и одежды, и вывески, объявления на чужом языке, и вытеснение отечественного искусства западным ширпотребом самого низкого пошиба, и оголтелая (вот уж к месту слово!) порнография, и чужие нравы, чужие манеры, чужие подметки - всё чужое, будто ничего у нас своего не было.
Я не могу, не умею быть нетерпимым к любому национальному чувству, если оно не диктует себя всем, так почему же считается преступлением мое национальное и патриотическое чувство ? Господь, создавая народы, каждому вручил свой голос, свое лицо и обряд - так и давайте, не мешая, а только обогащая друг друга, пользоваться ими во имя исполнения данных нам заветов.
Природа фашизма такова, что это естественное стремление защитить себя от перерождения и подчинения чужому приводит к уродливому искажению своего. Фашизм вырабатывает фанатизм и под видом сильной национальной власти способен на все. В том числе и превратиться в чудовище Третьего рейха, в образе которого он сегодня и воспринимается. Вот этим и пользуются сознательные путаники, оседлавшие российскую идеологию. Вся она, эта идеология, кроится под обвинительное заключение против того самого простака, который по навету вора берется под стражу как злоумышленник и преступник.
Истинные преступники не могут не понимать, что неслыханное в мире ограбление в считанные годы богатейшей страны, глумление над святынями, над историей, над самим русским именем способны вызвать ущемленное чувство национального достоинства, требующее действия. Это неизбежная реакция, так было, так будет. Но и остановиться преступники не в состоянии, слишком преуспели в своем ремесле грабежа, слишком зарвались, слишком много поставлено на карту. Наглость и страх диктуют тактику - только вперед! Ущемленное чувство национального достоинства после Версаля и итогов первой мировой войны явилось в Германии питательной средой для зарождения фашизма. Россия сегодня пострадала сильней, поражение ее унизительней, обида должна быть больше - вроде бы все необходимые условия для вынашивания фашизма. Ну и подсунуть ей это чудовище, и завопить на весь мир об его опасности! Знают прекрасно, что здесь совсем другой народ - начисто лишенный чувства превосходства, не заносчивый, не способный к муштре, непритязательный , а теперь еще и с ослабленной волей. Знают, но на это и расчет: чем наглей обвинения, тем противней от них отмываться. Чтобы в «этой» стране всё оставалось на своих местах, образ побежденного, в сравнении с благородным ликом победителя, должен иметь самое страшное, самое отталкивающее выражение.
И пошло-поехало: всякое национальное действие, необходимое для дыхания, будь то культурное, духовное, гражданское шевеление, - непременно «наци», окраска фашизма. Православная икона - «наци», русский язык - «наци», народная песня - «наци». Истерично, напористо, злобно-вдохновенно - и беспрерывно.
Русский человек оказался в изоляции от своих учителей, его сознание и душу развращают и убивают вот уже более двадцати лет, но чутье-то, чутье-то, если не разумный и независимый взгляд!.. У нас в крови это всегда было - издали распознавать злодейство. Как можно верить тем либеральным журналистам, которые убеждают русских в существовании русского фашизма?.. Народ на мякине не проведешь. Визг, поднятый вокруг «русского фашизма» и антисемитизма, неприличен, он сам выдает себя с головой. Будь действительно опасность фашизма, реакция должна бы быть серьезней, как накануне второй мировой войны. Тут и детектора лжи не надо, так видать. Опасность-то, кстати, есть, но с какой стороны - вот тут надо всматриваться зорче.
Под экономической разрухой, несмотря на огромные потери, мы выстояли, под нравственной разрухой выстояли, сопротивление нарастает. Ну так «русским фашизмом» его по голове, русского человека, как контрольным выстрелом в затылок. Чтобы, мол, спасти мир от смертельной опасности. «Цивилизаторы» раз за разом спасают мир от смертельной опасности, которая исходит почему-то от самых обессиленных экономической блокадой и бомбардировками - от иракцев, сербов... И вот теперь очередь России. Это закон хищников, уголовщины - добивай раненых, больных, изможденных, виноватых лишь в том, что они не признают свободу на поводке.
ЕСЕНИНСРУССКОГОКРЫЛЕЧКАСТАРТОВАЛ…
Сергей Викулов
Да, я стартовал от крылечка! И этим, мой недруг, горжусь!
Крылечко, да русская печка, да сани, да в бляшках уздечка -
сама изначальная Русь.
Расправив могутные плечи и смутных желаний полна,
на небо и землю с крылечек веками глядела она. Поскольку была избяною
и сплошь земляною была, поскольку, добавлю, иноюпока она быть не могла.
Замученной ей, но живучей,как сын, загляну в старину,
ни лапти её, ни онучи вовек не поставлю в вину!
Напротив, я буду всё боле дивиться, - изыдь, сатана! - как в этой жестокой недоле
душой не зачахла она. Как в ней совместились счастливо - и в этом её высота! -
незлобивость и совестливость, достоинство и прямота! Земля, над которою
вместе с конягой пластался мужик, его не учила ни лести (пусть лучше отсохнет язык!),
ни лжи, ни торгашеству... Не был он мастер купить и продать. Умел он - свидетелем небо -
насытиться квасом да хлебом и нищему корку подать.
Забитого, долготерпеньем корить ты его погоди. Запомни, что точка кипенья
высокая в русской груди! И право, тебе забывать бы не след, говоря о былом,
кто рушил с Емелькой усадьбы, со Стенькою шёл напролом.
Кто, чашу терпения выпив, по Зимнему вдарил плечом... И гнев тот
октябрьский Великим историей был наречён! И рухнуло рабство!
И с трескомкругом послетали замки... И к гневу тому, как известно,
причастны в лаптях мужики! Громили они супостата,рубили, оставив дела...
Выходит,крылечко для старта -площадка не так уж мала...
Не так и плоха она, к слову(как ты мне о том напевал!):
мой тёзка русоголовый -Есенин -с неё ж стартовал!
…Поэму «В приокском селе под Рязанью…» АЛЕКСАНДР ФИЛАТОВ посвятил Татьяне Фёдоровне Есенина. Произведение это - своеобразное слово о Матери, восходящее к фольклору, сказание о той, кому был обязан жизнью великий сын земли русской. Один из персонажей - сатирический; это американский делец Джон, пытавшийся переманить старушку за океан, прельстив роскошью и богатством. Джон как бы «сродни» прощелыге Пересветову («О, как они, нехристи, схожи!» - гневно думает мать поэта. - «Пусть сердце остынет немного. «Серёжа, сынок мой родной, Дай силы дойти до порога. Я знаю - ты рядом со мной». Платок отряхнула дарёный, Ослабила узел тугой, Блеснула глазами на Джона И дверь распахнула ногой. В углу загремела посуда, Погас огонёк у икон. - А ну, убирайся отсюда, Иди по-хорошему, Джон! Петляй своей тропкой убогой И там, у себя, куролесь. А русскую землю не трогай И в русскую душу не лезь!»…
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВ, стремясь осмыслить давний спор вокруг имени лирика, полемически спрашивает: «Я думаю, за что его ругали, за что критиковали столько лет? Кому, какой экстравагантной швали не по душе был истинный поэт?Активные участники навета Ему навешивали ярлыки мужицкого скандального поэта…».
О ПОДЛИННОМ ПАТРИОТИЗМЕ
Зачем патриотизм? А зачем любовь к матери, святое на всю жизнь к ней чувство? Она тебя родила, поставила на ноги, пустила в жизнь - ну и достаточно с нее, дальше каждый сам по себе. На благословенном Западе почти так и делается, оставляя во взрослости вместо чувства кой-какие обязанности.
Любовь к Родине - то же, что чувство к матери , вечная благодарность ей и вечная тяга к самому близкому существу на свете. Родина дала нам всё, что мы имеем, каждую клеточку нашего тела, каждую родинку и каждый изгиб мысли. Мне не однажды приходилось говорить о патриотизме, поэтому повторяться не стану. Напомню лишь, что патриотизм - это не только постоянное ощущение неизбывной и кровной связи со своей землей, но прежде всего долг перед нею , радение за ее духовное, моральное и физическое благополучие, сверение, как сверяют часы, своего сердца с ее страданиями и радостями. Человек в Родине - словно в огромной семейной раме, где предки взыскуют за жизнь и поступки потомков и где крупно начертаны заповеди рода. Без Родины он - духовный оборвыш, любым ветром может его подхватить и понести в любую сторону. Вот почему безродство старается весь мир сделать подобным себе, чтобы им легче было управлять с помощью денег, оружия и лжи. Знаете, больше скажу: человек, имеющий в сердце своем Родину, не запутается, не опустится, не озвереет, ибо она найдет способ, как наставить на путь истинный и помочь. Она и силу, и веру даст.
Кто же в таком случае ненавистники патриотизма? Или те, кто не признает никакого другого рода, кроме своего, или легионеры нового мирового порядка - порядка обезличивания человека и унификации всего и вся, а для этих целей патриотизм, конечно же, помеха.
Мы, к сожалению, неверно понимаем воспитание патриотизма, принимая его иной раз за идеологическую приставку. От речей на политическом митинге, даже самых правильных, это чувство не может быть прочным, а вот от народной песни, от Пушкина и Тютчева, Достоевского и Шмелева и в засушенной душе способны появиться благодатно-благодарные ростки .
Родина - это прежде всего духовная земля, в которой соединяются прошлое и будущее твоего народа, а уж потом «территория». Слишком многое в этом звуке!.. Есть у человека Родина - он любит и защищает всё доброе и слабое на свете, нет - все ненавидит и все готов разрушить. Это нравственная и духовная скрепляющая, смысл жизни, от рожденья и до смерти согревающее нас тепло. Я верю: и там, за порогом жизни, согревающее - живем же мы в своих детях и внуках бесконечно. Бесконечно, пока есть Родина. Вне ее эта связь прерывается, память слабеет, родство теряется.
Для меня Родина- это прежде всего Ангара, Иркутск, Байкал. Но это и Москва, которую никому отдавать нельзя. Москва собирала Россию . Нельзя представить Родину без Троице-Сергиевой Лавры, Оптиной пустыни, Валаама, без поля Куликова и Бородинского поля, без многочисленных полей Великой Отечественной...
Родина больше нас. Сильней нас. Добрей нас. Сегодня ее судьба вручена нам - будем же ее достойны .
ЧТО ПРОИСХОДИТ С НАМИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
Кажется, нет никаких оснований для веры, но я верю, что Запад Россию не получит . Всех патриотов в гроб не загнать, их становится все больше. А если бы и загнали - гробы поднялись бы стоймя и двинулись на защиту своей земли. Такого еще не бывало, но может быть.
Я верю - мы останемся самостоятельной страной, независимой, живущей своими порядками, которым тыща лет. Однако легкой жизни у России не будет никогда. Наши богатства - слишком лакомый кусок...
О ЛИТЕРАТУРЕ: МЫСЛИ ВСЛУХ
Я понимаю себя и всегда понимал все-таки как писателя русского. Советское имеет две характеристики - идеологическую и историческую. Была петровская эпоха, была николаевская, и люди, жившие в них, естественно, были представителями этих эпох. Никому из них и в голову не могло прийти отказываться от своей эпохи. Точно так же и мы, жившие и творившие в советское время, считались писателями советского периода. Но идеологически русский писатель, как правило, стоял на позиции возвращения национальной и исторической России, если уж он совсем не был зашорен партийно.
Литература в советское время, думаю, без всякого преувеличения могла считаться лучшей в мире. Но она потому и была лучшей, что для преодоления идеологического теснения ей приходилось предъявлять всю художественную мощь вместе с духоподъемной силой возрождающегося национального бытия. Литературе, как и всякой жизненной силе, чтобы быть яркой, мускулистой, требуется сопротивление материала. Это не обязательно цензура (хотя я всегда был за нравственную цензуру или за нравственную полицию - как угодно ее называйте); это могут быть и скрыто противостоящие механизмы, вроде общественного мнения. К примеру, нынешнего, которое вора и проститутку считает самыми уважаемыми людьми и предателю воздает почести.
Кстати, советская цензура сделала Александра Солженицына мировой величиной, а теперешнее «демократическое» мнение, укорачивая Солженицына, сделало его, что еще важнее, величиной национальной.
Нынешний сверхбыстрый и глубокий сброс интереса к книге говорит о неестественности этого явления , о каком-то словно бы испуге перед книгой. Именно этот испуг и нужно считать одной из причин резкого падения числа читателей. Главная причина здесь, конечно, - обнищание читающей России, неспособность купить книгу и подписаться на журнал. Вторая причина - общее состояние угнетенности от извержения «отравляющих веществ» под видом новых ценностей, состояние, при котором о чем-либо еще, кроме спасения, думать трудно. И третья причина - что предлагает книжный рынок. Не всякий читатель искушен в писательских именах. Вот он идет в библиотеку... В любой библиотеке вам скажут, что читают по-прежнему немало... Но все поступления последних лет - «смердяковщина», американская и отечественная, и для детей - американские комиксы.
И читатель правильно делает, когда от греха подальше он обращается к классике .
ЗАВЕТЫИ ОТВЕТЫ: ОБ УБИТЫХ ЖИВЫМИ
Этот век явился для России веком трагическим, страшным. Никакой другой народ тех ломок, потерь, напряжений, какие достались народу нашему, не выдержал бы, я уверен. Ни времена татарского ига, ни Смута XVII века ни в какое сравнение с лихолетьем России в XX веке идти не могут. Страшнее внешних ломок и утрат оказалась внутренняя переориентация человека - в вере, идеалах, нравственном духовном прямостоянии. В прежние тяжелые времена это прямостояние не менялось. Не менялось оно и в поверженных во Второй мировой войне Германии и Японии, что значительно облегчило им возвращение в число развитых стран, а ущемленное национальное чувство - ущемленное, а не проклятое и не вытравливаемое, - стало в этих странах возбудителем энергии.
Исключительно страшен психический надлом от погружения России в противоестественные, мерзостные условия, обесценивание и обесцеливание человека, опустошение, невозможность дышать смрадным воздухом. Вымирающая Россия - отсюда, от этого выброса без спасательных средств в совершенно иную, убийственную для нормального человека атмосферу. Здесь причины эпидемии самоубийств, бездомности, кочевничества, пьянства, болезней и тихих нераскрытых смертей - от ничего, под тоскливый вой души.
Ничуть не сомневаюсь, что и это предусматривалось «реформаторами» заранее. «Инакомыслящие» пошли в оппозицию, живут в постоянном сопротивлении новому порядку вещей, «инакодушные», более чувствительные к жестким и унизительным условиям, растерянные, не видящие просвета в жизни, уходят в могилу до срока.
Что касается «знакового» художественного образа для выражения нынешнего состояния России - его литература предложить не смогла. Я думаю, потому, что реальность оказалась за гранью возможностей литературы . Больше того - наступила эпоха за гранью жизни. Для нее есть единственный образ - Апокалипсис в Откровении Иоанна Богослова.
ЗАВЕТЫ И ОТВЕТЫ: О ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
***
Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.
Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко побежала
Резвая волна.
Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон
.СЕРГЕЙЕ С Е Н И Н.
Вопрос: что лучше для народной нравственности - атеистическое государство, предлагающее под своей вывеской евангельские заповеди, или государство неограниченных свобод, где не утесняется вера, но махровым цветом расцвело зло, направленное как против веры, так и вообще против нравственности?
Церковь освобождена от теснений, но отдана на растерзание всем, кому она мешает. Православие стараются расколоть, растлить и обезобразить с помощью «свобод». Этим и сейчас занимаются вовсю, против него еще больше будут стянуты все воинствующие силы.
В грязном мире, который представляет из себя сегодня Россия, сохранить в чистоте и святости нашу веру чрезвычайно трудно. Нет такого монастыря, нет такого заповедника, где бы можно было отгородиться от «мира». Но у русского человека не остается больше другой опоры, возле которой он мог бы укрепиться духом и очиститься от скверны, кроме Православия . Все остальное у него отняли или он промотал. Не дай Бог сдать это последнее. Помните, у Василия Шукшина: «Народ весь разобрался». Но тогда он еще не «разобрался». У Шукшина это было предчувствие возможного, а теперь убери или даже ослабь духовную связующую силу - и все, больше связаться нечем.
В этой связи я бы и рад согласиться с мнением, что мы превратились чуть ли не в профессиональных плакальщиков, что картина современной России не столь мрачная, как нам представляется... Рад бы, но... Достаточно поглядеть вокруг.
Вот вам жизнь моей родной деревни на реке Ангаре, теперь там Братское водохранилище. Судите сами, жизнь ли это? Пятьдесят лет назад моя Аталанка была перенесена из зоны водохранилища на елань, сюда же свезли еще пять соседних деревень. Вместо колхозов стал леспромхоз. С началом перестройки он пал смертью храбрых на рыночном фронте. В большом поселке совершенно негде стало работать. Магазин и пекарню закрыли, школа сгорела (правда, сейчас ее отстроили заново), солярку покупать не на что, электричество взблескивало ненадолго в утренние и вечерние часы. Но это еще не вся беда. Воду в «море» брать нельзя, заражено много чем, а особенно опасно - ртутью. Рыбу по этой же причине есть нельзя. Почту могут привезти раз в неделю, а могут и раз в месяц.
И если бы в таком аховом положении была одна моя деревня... Их по Ангаре, Лене, Енисею множество. Никакого сравнения не только с войной... сравнивать не с чем. И тем не менее петь отходную я бы не стал . Человек возвращается в жизнь и из состояния клинической смерти, то же самое чудо способно произойти и с государством. Конечно, это происходит в том случае, если всерьез берутся за его спасение, а не делают ложных движений.
ЯКОВ ПОЛОНСКИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
МИРЕ БУНИНА И СОЛЖЕНИЦЫНА...
…В дни, когда над ЦицерономСтал мечтать я, что в России
Сам я буду славен в ролиНеподкупного витии, —
Помнишь, ты меня из класснойУвела и указала
На разлив Оки с вершиныИсторического вала.
Этот вал, кой-где разрытый,Был твердыней земляною
В оны дни, когда рязанцыБились с дикого ордою; —
Подо мной таились клады,Надо мной стрижи звенели,
Выше — в небе, — над Рязанью, К югу лебеди летели,
А внизу виднелась будкаС алебардой, мост, да пара
Фонарей, да бабы в кичкахШли ко всенощной с базара
.
Яков Полонский. «Письма к музе» (второе).
Валентин Иванович Распутин -на Историческом валу Рязанского Кремля… Это о нём - отрочески-романтическое воспоминание автобиографического героя-повествователя Якова Петровича Полонского («…Увела и указала на разлив Оки с вершины Исторического вала. Этот вал, кой-где разрытый, был твердыней иземляною в оны дни,когда рязанцы бились с дикою ордою»).
В «Письме к музе» Яков Полонский воссоздаёт далёкое-близкое («Ты как будто знала, муза, Что, влекомы и теснимы Жизнью, временем, — с латынью Далеко бы не ушли мы…
Вечный твой Парнас, о муза, Далеко не тот, где боги Наслаждались и ревниво К бедным смертным были строги»)… «Потревоженные тени» минувшего («И, восстав от сна, ни разу Ты на девственные плечи Не набрасывала тоги, Не слыхала римской речи,
И про римский Капитолий От меня ж ты услыхала В день, когда я за урок свой
Получил четыре балла…»).
Причудливо-сентиментальное «погружение» «во времена оны» («Вместе мы росли, о муза, И когда я был ленивый Школьник, ты была малюткой Шаловливо-прихотливой.
И, уж я не знаю, право, (Хоть догадываюсь ныне), Что ты думала, когда я
Упражнял себя в латыни?»).
Предтеча Есенина, Яков Полонский… «Диалектика души» его лирического героя…(«Я мечтал уж о Пегасе. — Ты же, резвая, впрягалась Иногда в мои салазки И везла меня, и мчалась… — Мчалась по сугробам снежным Мимо бани, мимо сонных Яблонь, лип и низких ветел, Инеем посеребренных, Мимо старого колодца, Мимо старого сарая…
И пугливо сердце билось, От восторга замирая».
Лирико-психологическая биографияПолонского чем-то напоминает автобиографические жанрыЛ.Н.Толстого («Детство.Отрочество. Юность», А.Т. Аксакова («Детские годы Багрова-внука»), герценовские «Былое и думы»): «Иногда меня звала ты,
Слушать сказки бедной няни, На скамье с своею прялкой Приютившейся в чулане.
Но я рос, и вырастала Ты, волшебная малютка; Дерзко я глядел на старших, Но с тобой мне стало жутко. В дни экзаменов, бывало, Не щадя меня нимало, Ты меня терзала, муза, —Ты мне вирши диктовала»).
Рязанский отрок Полонского - предшественник мужающих на берегах Оки синеокой, Тихого Дона, Москвы-реки («В дни, когда, кой-как осилив Энеиду, я несмело За Горациевы оды Принимался, — ты мне пела Про широку степь, — манила
В лес, где зорю ты встречала, Иль поникшей скорбной тенью Меж могильных плит блуждала. Там, где над обрывом белый Монастырь и где без окон Терем Олега, — мелькал мне На ветру твой русый локон. И нигде кругом, на камнях
Римских букв не находил я Там, где мне мелькал твой локон, Там, где плакал и любил я.
В дни, когда над Цицероном Стал мечтать я, что в России Сам я буду славен в роли
Неподкупного витии…»).
,
Я молчал, — ты говорила:
«Нашу бедную Россию
Не стихи спасут, а вера
В Божий суд или в Мессию…
И не наши Цицероны,
Не Горации, — иная
Вдохновляющая сила, —
Сила правды трудовая
Обновит тот мир, в котором
Славу добывают кровью, —
Мир с могущественной ложью
И с бессильною любовью»…
—
СОЛЖЕНИЦЫНСКИЕ ПАРАДОКСЫ О ЯКОВЕ ПОЛОНСКОМ
Художественно-документальный очерк «ПРАХ ПОЭТА» начинается историко-культурологической экспозицией: «Теперь деревня Льгово, а прежде древний город Ольгов стал на высоком обрыве над Окою: русские люди в те века после воды, питьевой и бегучей, второй облюбовывали — красоту. Ингварь Игоревич, чудом
спасшийся от братних ножей, во спасенье своё поставил здесь монастырь Успенский. Через пойму и пойму в ясный день далеко отсюда видно, и за тридцать пять верст на такой же крути — колокольня высокая монастыря Иоанна Богослова».
Успенский монастырь и монастырь Иоанна Богослова…Яков Петрович Полонский особо выделял и сами монастыри, и их живописные окрестности («Оба их пощадил суеверный Батый. Это место, как своё единственное, приглядел Яков Петрович Полонский и велел похоронить себя здесь»).
Но Солженицын есть Солженицын: непременно «приправить» описываемое сарказмом («Всё нам кажется, что дух наш будет летать над могилой и озираться на тихие просторы»). Тем более, что повод для сего, как говорится, имеет место («Но
— нет куполов, и церквей нет, от каменной стены половина осталась и достроена дощаным забором с колючей проволокой, а над всей древностью
— вышки, пугала гадкие, до того знакомые, до того знакомые... В
воротах монастырских — вахта. Плакат: «За мир между народами!»
— русский рабочий держит на руках африканёнка…»).
У того же Ивана Алексеевича Бунина - принципиально иное, связанное с Яковом Полонским, тончайшим русским «диалектиком души»:
………………………………………………………………………..
Иван Бунин
В одной знакомой улице
Весенней парижской ночью шел по бульвару в сумраке от густой, свежей зелени, под которой металлически блестели фонари, чувствовал себя легко, молодо и думал:
В одной знакомой улице
Я помню старый дом
С высокой темной лестницей,
С завешенным окном...
Чудесные стихи! И как удивительно, что все это было когда-то и у меня! Москва, Пресня, глухие снежные улицы, деревянный мещанский домишко — и я, студент, какой-то тот я, в существование которого теперь уже не верится...
Там огонек таинственный
До полночи светил
...
И там светил. И мела метель, и ветер сдувал с деревянной крыши снег, дымом развевал его, и светилось вверху, в мезонине, за красной ситцевой занавеской...
Ах, что за чудо девушка,
В заветный час ночной,
Меня встречала в доме том
С распущенной косой...
И это было. Дочь какого-то дьячка в Серпухове, бросившая там свою нищую семью, уехавшая в Москву на курсы... И вот я поднимался на деревянное крылечко, занесенное снегом, дергал кольцо шуршащей проволоки, проведенной в сенцы, в сенцах жестью дребезжал звонок — и за дверью слышались быстро сбегавшие с крутой деревянной лестницы шаги, дверь отворялась — и на нее, на ее шаль и белую кофточку несло ветром, метелью... Я кидался целовать ее, обнимая от ветра, и мы бежали наверх, в морозном холоде и в темноте лестницы, в ее тоже холодную комнатку, скучно освещенную керосиновой лампочкой... Красная занавеска на окне, столик под ним с этой лампочкой, у стены железная кровать. Я бросал куда попало шинель, картуз и брал ее к себе на колени, сев на кровать, чувствуя сквозь юбочку ее тело, ее косточки... Распущенной косы не было, была заплетенная, довольно бедная русая, было простонародное лицо, прозрачное от голода, глаза тоже прозрачные, крестьянские, губы той нежности, что бывают у слабых девушек…
Автобиографический «репортёр»АлександраСолженицыналишён излишней сентиментальности; он скорее - фельетонист:
«Мы — будто ничего не понимаем. И меж бараков охраны выходной надзиратель в нижней сорочке объясняет нам: — Монастырь тут был, в мире второй. Первый в Риме, кажется. А в Москве — уже третий. Когда детская колония здесь была, так мальчишки, они ж не разбираются, все стены изгадили, иконы побили. А потом
колхоз купил обе церкви за сорок тысяч рублей — на кирпичи, хотел шестирядный коровник строить. Я тоже нанимался: пятьдесят копеек платили за целый кирпич, двадцать за половинку. Только плохо кирпичи разнимались, всё комками с цементом. Под церковью склеп открылся, архиерей лежал, сам — череп, а мантия цела. Вдвоём мы ту мантию рвали, порвать не могли»...
— А вот скажите, тут по карте получается могила Полонского, поэта. Где она?
К Полонскому не
льзя. Он
в зоне. Нельзя к нему. Да чо там смотреть?
памятник ободранный? Хотя
постой,
надзиратель поворачивается к жене.
Полонского
то вроде выкопали?
Ну. В Рязань увезли,
кивает жена с крылечка, щёлкая семячки.
Надзирателю самому смешно:
Освободился, значит…
Иван Бунин - о Якове Полонском…Александр Солженицын - «вариация» на ту же тему…
……………………………………………………………………………………………….
ОТВЕТЫИ ЗАВЕТЫ: КАК СЕЙЧАС ПОНЯТЬ РУССКИЙ НАРОД?
«Неуютная жидкая лунность…» Сергей Есенин
Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных равнин,-
Вот что видел я в резвую юность,
Что, любя, проклинал не один.
По дорогам усохшие вербы
И тележная песня колес…
Ни за что не хотел я теперь бы,
Чтоб мне слушать ее привелось.
Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.
Мне теперь по душе иное.
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.
Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.
Я не знаю, что будет со мною…
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.
И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес
.СЕРГЕЙЕ С Е Н И Н.
Мы не знаем, что происходит с народом, сейчас это самая неизвестная величина.
Албанский народ или иракский нам понятнее, чем свой. То мы заклинательно окликаем его с надеждой: народ, народ... народ не позволит, народ не стерпит.... То набрасываемся с упреками, ибо и позволяет, и терпит, и договариваемся до того, что народа уже и не существует, выродился, спился, превратился в безвольное, ни на что не способное существо.
Вот это сейчас опаснее всего - клеймить народ , унижать его сыновним проклятием, требовать от него нереального образа, который мы себе нарисовали. Его и без того беспрерывно шельмуют и оскорбляют в течение двадцати лет из всех демократических рупоров. Думаете, с него все как с гуся вода? Нет, никакое поношение даром не проходит. Откуда же взяться в нем воодушевлению, воле, сплоченности, если только и знают, что обирают его и физически, и морально.
Да и что такое сегодня народ? Никак не могу согласиться с тем, что за народ принимают все население или всего лишь простонародье. Он - коренная порода нации, рудное тело, несущее в себе главные задатки, основные ценности, врученные нации при рождении. А руда редко выходит на поверхность, она сама себя хранит до определенного часа, в который и способна взбугриться, словно под давлением формировавших веков.
Достоевским замечено: «Не люби ты меня, а полюби ты мое» , - вот что вам скажет народ, если захочет удостовериться в искренности вашей любви к нему». Вот эта жизнь в «своем», эта невидимая крепость, эта духовная и нравственная «утварь» национального бытия и есть мерило народа.
Так что осторожнее с обвинениями народу - они могут звучать не по адресу.
Народ в сравнении с населением, быть может, невелик числом, но это отборная гвардия , в решительные часы способная увлекать за собой многих. Всё, что могло купиться на доллары и обещания, - купилось; все, что могло предавать,- предало; всё, что могло согласиться на красиво-унизительную и удало-развратительную жизнь, - согласилось; всё, что могло пресмыкаться, - пресмыкается. Осталось то, что от России не оторвать и что Россию ни за какие пряники не отдаст .
Ее, эту коренную породу, я называю «второй» Россией, в отличие от «первой», принявшей чужую и срамную жизнь. Мы несравненно богаче: с нами - поле Куликово, Бородинское поле и Прохоровское, а с ними - одно только «Поле чудес».
ЕСТЬ ЛИ У НАС ПЕРСПЕКТИВЫ?
Сергей Есенин
* * *
Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.
Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.
Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.
И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.
По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.
Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!
Боюсь, года через два-три, ежели ничего не изменится, и волынка с властью, которая служит чужим интересам, будет продолжаться, то Россию силой заставят принять капиталистические «завоевания», а они к тому времени станут еще разительнее и свирепее. С Россией уже сейчас не считаются, и чем дальше, тем меньше будут считаться. Государство, сознательно убивающее самое себя, - такого в мире еще не бывало. На нее, слабеющую все больше и больше, уже заведены свои планы, свои расчеты, и потерять Россию как своего вассала, потерять ее с возвращением в самостоятельную и самодостаточную величину не захотят.
Вот мы с вами говорим, а я все думаю: для чего говорим, кого и в чем хотим убедить? Экономисты считают, что с той экономикой, которая у нас осталась, Россия уже не должна жить, и если она худо-бедно живет, то только за счет того, что проматывает наследство предыдущих поколений и расхищает наследство, которое необходимо оставить поколениям будущим. Россию обдирают как липку и «свои», и чужие - и конца этому не видно. Для Запада «разработка» России - это дар небес, неслыханное везенье, Запад теперь может поддерживать свой высокий уровень жизни еще несколько десятилетий. Ну, а домашние воры, полчищами народившиеся из каких-то загадочных личинок, тащат буквально всё, до чего дотягиваются руки, и тащить за кусок хлеба им помогают все слои населения.
Национальную идею искать не надо, она лежит на виду . Это - правительство наших, а не чужих национальных интересов, восстановление и защита традиционных ценностей, изгнание в шею всех, кто развращает и дурачит народ, опора на русское имя, которое таит в себе огромную, сейчас отвергаемую, силу, одинаковое государственное тягло для всех субъектов Федерации. Это - покончить с обезьяньим подражательством чужому образу жизни, остановить нашествие иноземной уродливой «культуры», создать порядок, который бы шел по направлению нашего исторического и духовного строения, а не коверкал его. Прав был Михаил Меньшиков, предреволюционный публицист, предупреждавший, что никогда у нас не будет свободы, пока нет национальной силы. К этому можно добавить, что никогда народ не будет доверять государству, пока им управляют изворотливые и наглые чужаки!
От этих истин стараются уйти - вот в чем суть «идейных» поисков. Политические шулеры все делают для того, чтобы коренную национальную идею, охранительную для народа, подменить чужой национальной или выхолостить нашу до безнациональной буквы.
ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ
Рязанский край… Есенинский край… Разные пути-дороги ведут к Есенину рабочих Магнитки, липецких свекловичниц, тамбовских хлеборобов, студентов из Германии, учителей с Камчатки, европейских парламентариев, ветеранов из Волгограда-Сталинграда, Петербурга-Ленинграда, пограничников-дальневосточников, моряков-мурманцев, механизаторов с Поволжья, академиков и космонавтов, полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы, участников всесоюзного литературного праздника школьников, гостей Всероссийского Есенинского праздника Поэзии…
К Есенину. На есенинскую родину. На есенинскую Рязанщину…
Несколько лет назад к участникам Всесоюзной конференции, посвященной актуальным проблемам развития советской литературы, пригласили писателя Анатолия Иванова. Состоялся волнующий, полемически заостренный разговор о роли поэтического слова в формировании нравственной позиции человека, о традициях и новаторстве.
Известный московский литературовед и критик, ветеран Великой Отечественной А.А. Мигунов, сопровождавший автора «Вечного зова», пригласил меня с собой, чтобы проводить писателя после встречи.
Алексей Андреевич представил меня.
Вы из Рязани? - оживился Иванов. Заговорили о Рязани и, конечно, о Есенине.
Вдруг писатель с озорной усмешкой спросил:
Что же вы, рязанцы, нарушили волю поэта? Памятник ему поставили…
Пришлось возразить:
- «Не ставьте памятник в Рязани мне…»Такие строки у Есенина есть, но есть и другие: «И будет памятник стоять в Рязани мне…
Писатель улыбнулся, видимо, соглашаясь.
…Валентин Иванович Распутин в Рязанском Кремле, у памятника Есенину. Как бы вырастая из земли, поэт устремляется к «несказанному, синему, нежному», к родным приокским далям, «открытым взорам». Вдохновенное лицо. Трепетные руки. Одухотворенность жеста.
Скульптор А.П. Кибальников запечатлел сына земли Рязанской, сына Руси в единстве с Родиной, народом, имеющим древнюю и славную историю.
«…А если Сергей Есенин так сильно любил свои удивительные «конопляники с широким месяцем над голубым прудом», то разве могло быть иначе? Не там ли пролегают самые толстые, вековые корни обширной нашей страны?..»
Леонид Л е о н о в.
……………………………………………………………………..
За окном вечереет,
Туманно.
Как лавина, нахлынула грусть.
Снова томик заветный достану
И к страницам его прикоснусь.
Покоряя своим откровеньем,
Излучая загадочный свет,
Разговор начинает Есенин,
Ясноглазый российский поэт.
Спит за окнами город мой,
Нальчик,
Вьётся дум бесконечная нить,
А рязанский доверчивый мальчик
Мне торопится сердце открыть.
Обозначены чётко вершины,
Отливают в ночи белизной,
И не мальчик уже,
А мужчина
Говорит откровенно со мной.
В этой искренней, доверительной исповеди Максима Геттуева (звучавшей на «Есенинских встречах ») и его лирического героя - глубокий смысл. Есенин дорог. Есенин жизненно необходим:
И тревожное,
Светлое имя
Шелестит,
Как весною трава.
Увлечённый мечтами своими,
Отыскать я надеюсь слова,
Чтоб мой край,
Величавый и милый,
Так же страстно и нежно,
Как он,
Мне воспеть!
Ведь с такою же силой
Я в родимые горы влюблён.
«Многоуважаемый Александр Исаевич. Очень благодарен вам за приглашение на встречу. К огромному моему сожалению, быть в Иркутске в дни вашего пребывания, в связи с писательским съездом, не смогу. Надеюсь на встречу позднее. Искренне, Валентин Распутин».
Это письмо он написал Солженицыну 11 июня 1994 года. В те дни Александр Исаевич вернулся на родину после двадцатилетнего изгнания, проехав через весь Дальний Восток и Сибирь. Иркутск стал четвертой остановкой на пути Солженицына в Москву, где в это время проходил IX съезд Союза писателей России. Было избрано новое правление Союза, в которое вошел и Валентин Распутин. Его имя замкнуло список ушедших из жизни писателей-деревенщиков: Василия Шукшина, Бориса Можаева, Виктора Астафьева, Владимира Солоухина, о которых не раз писал А.И. Солженицын, предпочитая называть их нравственниками.
Переписка между А. Солженицыным и В. Распутиным началась в 1994 году, и сегодня она доступна широкому кругу читателей. Письма впервые опубликованы в пятом выпуске альманаха «Солженицынские тетради». Несколько экземпляров подарены Рязанской областной библиотеке имени Горького вдовой писателя, Натальей Дмитриевной. Письма были найдены в архиве Солженицына в Троице-Лыкове. После кончины Валентина Распутина его семья передала в этот архив копии трех писем Александра Исаевича 1995–2000 годов. Они-то и стали новым свидетельством творческих и человеческих отношений двух писателей.
– Та форма, в которой вели переписку два писателя, доставила мне эстетическое удовольствие, тем более в наше время, когда люди общаются через СМС-сообщения. Каким взаимным уважением, человечностью, деликатностью отличаются письма Солженицына к Распутину и Распутина к Солженицыну! Заметьте, писатели не делали друг другу комплименты. Взаимная оценка творчества была объективной, каждый понимал, что из себя представляет собеседник, – делится мнением Александр Сафронов, доцент кафедры литературы, руководитель Научно-просветительского центра по изучению наследия А.И. Солженицына РГУ имени С.А. Есенина. – Солженицын получил в свое время Нобелевскую премию. А у Распутина ее не было. За последние десятилетия авторитет этой награды низко упал. И мне кажется, чтобы спасти ее положение и поднять престиж, премию надо было присудить Валентину Распутину.
В 2000 году писатель стал лауреатом премии А.И. Солженицына «за пронзительное выражение поэзии и трагедии народной жизни». Александр Исаевич высоко ценил литературный труд Валентина Григорьевича: «Распутин – из тех прозорливцев, которому приоткрываются слои бытия, не всем доступные и не называемые им прямыми словами… Мы не упустим и такие качества Валентина Распутина, как сосредоточенное углубление в суть вещей, чуткую совесть и ненавязчивое целомудрие, столь редкое в наши дни».
По словам кандидата филологических наук, доцента РГУ имени С.А. Есенина Регины Соколовой, Распутин и Солженицын всегда прислушивались к идее почвенников XIX века. Это движение утверждало, что почва, то есть народ, – основа социального, духовного развития России. Только народ сохраняет истинное православие, идеи добра, справедливости. В.Г. Распутин был главным идеологом современного почвенничества. Он написал «Мой манифест», в котором не согласился с поминками по русской литературе.
– Наверно, измельчала литературная критика, которая превратилась в рекламную аннотацию. Ее представители позволяли себе рассуждать так: «Нет, критику я не пишу, потому что нем», или «сто лет назад футуристы сбрасывали с парохода современности классиков, а сегодня нам сбрасывать некого». А Распутин сказал, что литература русская жива и лучшие ее представители – почвенники, потому что они считывают судьбу русского народа в очень сложное время. С этим согласился и Солженицын в одном из своих писем Распутину, – отмечает Регина Соколова.
Западная культура, большой город – вот источники влияний на духовность русского народа. Почвенники пытались противостоять эгоизму, алчности рынка, защитить людей от пошлости. Так, крестьяне в рассказе В. Распутина «Нежданно-негаданно» даже отказываются от телевизора: «Крапиву посади перед телевизором – и крапива сей же момент под обморок! А уж что там нагишом выделывают!.. Это мы, как червяки, глядим, а растения... она чувствительная. Она и «караул!» закричать не может, а то бы они все враз вскричали...»
Солженицын разделял чувства Распутина и писал ему в письме: «Делю Вашу щемящую тревогу за духовное и нравственное состояние нынешнего русского народа и само выживание его. Правители, объятые алчным властолюбием либо ненасытным обогащением, думают об этом менее всего. Не смущайтесь и тем, что Ваши общественные выступления вызывали поток политической грязной брани по закупленному эфиру, от ничтожных людей, ищущих вовсе не сохранения России, да часто и живущих вне ее. После изжитых нами грозных десятилетий – наступившее время еще по-новому мерзко и мрачно для всех нас. И уже не хватает нашего прозора в будущее, а лишь – как Бог даст. Остается только прилагать доступные нам скромные наши усилия».
Распутин говорил о Солженицыне как о справедливце, посвятил ему статьи «Жить по правде», «Он вернулся на родину как апостол» и с большим интересом следил за публицистическими работами Александра Исаевича.
По мнению В. Распутина, писатель должен стать эхом народа и «небывавшее выразить с небывалой силой, в которой будут и боль, и любовь, и прозрение, и обновленный в страданиях человек… Литература может многое, это не раз доказывалось отечественной судьбой. Может – худшее, может – лучшее, в зависимости от того, в чьих она руках. Но у национальной литературы нет и не может быть другого выбора, как до конца служить той земле, которой она была взращена».
Вероника Шелякина, Рязанские ведомости
Валентин Распутин
Жить по правде
Статья Валентина Распутина, посвященная 80-летию Александра Солженицына, к сожалению, поступила к нам уже после того, как был сверстан предыдущий субботний номер. Но разве она потеряла свою актуальность? Ведь значимость большого писателя определяется не юбилейными датами. Нашему читателю, без сомнения, будет интересна оценка, которую дает наш знаменитый земляк творчеству Александра Солженицына.
Как и во всякой большой литературе, в русской литературе существует несколько пород таланта. Есть порода Пушкина и Лермонтова — молодого, искрящегося, чувственного легкокрылого письма, дошедшая до Блока и Есенина; есть аксаковско-тургеневская, вобравшая в себя Лескова и Бунина, необыкновенно теплого, необыкновенно русского настроения и утраченного уже теперь острого обоняния жизни; их зачатие и вынашивание имеют какое-то глубинное, языческое происхождение, из самого нутра спрятанного в степях и лесах национального заклада. Есть и другие породы, куда встанут и Гоголь с Булгаковым, и Некрасов с Твардовским, и Достоевский, и Шолохов, и Леонов. И есть порода Державина - богатырей русской литературы, писавших мощно и гулко, мысливших всеохватно, наделенных к тому же богатырским запасом физических сил. Сюда нужно отнести Толстого и Тютчева. Здесь же в ХХ веке по праву занял свое место Солженицын.
Почти все написанное А.И. Солженицыным имело огромное звучание. Первую же работу никому тогда, в 1962 году, не известного автора читала вся страна. Читала взахлеб, с удивлением и растерянностью перед явившимся вдруг расширением жизни и литературы, перед расширением самого русского языка, зазвучавшего необычно, в самородных формах и изгибах, которые еще не ложились на бумагу. Приоткрылся незнакомый, отверженный мир, находившийся где-то за пределами нашего сознания, вырванный из нормальной жизни и заселенный на островах жизни ненормальной - тот мир, откуда вышел Иван Денисович Шухов, маленький непритязательный человек, один из тьмы тысяч. И вышел-то на день один из тьмы своих дней между жизнью и смертью. Но этого оказалось достаточно, чтобы многомиллионный читатель обомлел, признавая его и не признавая, обрушив на него лавину сострадания вместе с недоверием, вины и одновременно тревоги.
Вести, литературного характера тоже, доходили из того мира и прежде, но они были разрозненными, прерывистыми, невнятными, как в азбуке Морзе, сигналами, ключом к расшифровке которых владели по большей части побывавшие там. Иван же Денисович, в отпущенный ему день выведенный из барака на работу больным и в работе поправившийся и даже воодушевившийся, ничего от нас не потребовавший, ничем не укоривший, а только представший таким, какой он есть, оказался соразмерен нашему невинному сознанию и вошел в него без усилий. Вольно или невольно, автор поступил предусмотрительно, подготовив вкрадчивым и тароватым Шуховым, ни в чем не посягнувшим на читательское благополучие, пришествие «Архипелага ГУЛАГ». Без Шухова столкновение с ГУЛАГом было бы чересчур жестоким испытанием. Испытание - читать? «А испытание претерпевать, оказаться внутри этой страшной машины?» - вправе же мы сами себя и спросить. Да, это несопоставимые понятия, существование на разных планетах. И тем не менее испытание собственной шкурой не отменяет «переводного» испытания, испытания свидетельством. Обмеренный, исчисленный, многоголосый и неумолчный ГУЛАГ в натуральную величину и «производительность» - он и после Ивана Денисовича для многих явился чрезмерным ударом; не выдерживая его, они оставляли чтение. Не выдерживали - потому что это был удар, близкий к физическому воздействию, к восприятию пытки, выдыхаемой жертвами. Воздействие «Иваном Денисовичем» было не слабей, но другого - нравственного - порядка, вместе с болью оно давало и утешение. Чтобы прийти в себя после «Архипелага», следовало снова вернуться к «Ивану Денисовичу» и почувствовать, как мученичество от карающей силы выдавливает исцеляющее слезоточение.
Сразу после «Ивана Денисовича» - рассказы, и среди них «Матренин двор». И там и там в героях поразительная, какая-то сверхъестественная цепкость к жизни и вообще свойственная русскому человеку, но мало замечаемая, не принимаемая в расчет при взгляде на его жизнеспособность. Когда терпение подбито цепкостью, оно уже не слабоволие, с ним можно многое перемочь. Солженицын и сам, не однажды приговоренный, явил это качество в наипоследнем истяге, говоря его же словом, когда и свет мерк в глазах, снова и снова подниматься на ноги. Л.Н. Толстой словно бы и родился в пеленках великим. А.И. Солженицыну к своему величию пришлось продираться слишком издалека. «Не убьет, так пробьется» - вот это для него, для русского человека! - и давай его бить-колотить по всем ухабам, и давай его охаживать из-за каждого угла, и давай его на такую дыбу, что и небо с овчинку! Вот по такой дороге и шел к своему признанию Александр Исаевич. Выжил, научился держать удар, приобрел науку разбираться, что чего стоит, - после этого полной мерой дары во все «емкости», никаких норм.
«Матренин двор» заканчивается словами, которые почти сорок лет остаются на наших устах:
«Все мы жили рядом с ней (с Матреной Васильевной. - В.Р.) и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит ни село. Ни город. Ни вся земля наша».
Едва ли верно, как не однажды высказывалось, будто вся «деревенская» литература вышла из «Матрениного двора». Но вторым своим слоем, слоем моих сверстников, она в нем побывала. И уж не мыслила потом, как можно, говоря о своей колыбели - о деревне, обойтись без праведника, сродни Матрене Васильевне. Их и искать не требовалось - их нужно было только рассмотреть и вспомнить. И тотчас затеплялась в душе свечечка, под которой так сладко и отрадно было составлять житие каждой нашей тихой родины, и вставали они, старухи и старики, жившие по правде, друг после дружки в какой-то единый строй вечной подпоры нашей земле.
Кроме этой заповеди - жить по правде, - другого наследства у нас остается все меньше. А этим - пренебрегаем.
У крупных фигур свой масштаб деятельности и подъемной силы. Не поддается понимаю, как сумел Солженицын еще до изгнания, в весьма стесненных условиях, собрать, обработать и ввести в русло книги все то огромное и сжигающее, составившее «Архипелаг ГУЛАГ»! И откуда брались силы уже в Вермонте совладать с горой материала, надо думать, нескольких архивных помещений для «Красного колеса»! Успевая при этом вести еще публицистическое путеводство для России и Запада, успевая составлять и редактировать две многотомные библиотечные серии по новейшей русской истории! Тут годится только одно сравнение - с «Войной и миром» и Толстым. Солженицына с Толстым роднит многое. Одинаковая глыбастость фигур, огромная воля и энергия, эпическое мышление, потребность как у одного, так и у другого через шестьдесят примерно лет отстояния от исторических событий обратиться к закладным судьбоносным векам начала своего века. Это какое-то мистическое совпадение. Огромная популярность в мире, гулкость статей, звучание на всех материках. Один отлучен от церкви, другой от Родины. Помощь голодающим и помощь политзаключенным, затем литературе. Оба - великие бунтари, но Толстой создал свое бунтарство «на ровном месте», в условиях личного и отеческого (относительно, конечно) благополучия, Солженицын весь вышел из бунтарства, его в нем взрастила система. Солженицына судьба резко бросала с одной крутизны на другую, у Толстого биография после кавказской кампании взяла тихую гавань в Ясной Поляне и вся ушла в сочинительство и духовную жизнь. Но и после этого: повороты, приближающие их друг к другу. Солженицын в Америке погружается в затворничество, Толстой перед смертью совершает совсем не старческий поступок вечного бунтаря - свой знаменитый уход из Ясной Поляны.
И самое главное: «Лев Толстой как зеркало русской революции» и Александр Солженицын как зеркало русской контрреволюции спустя семьдесят лет после революции.
Редкий человек, ставя перед собой непосильную цель, доживает до победы. Александру Исаевичу такое выпало. Объявив войну могущественной системе, на родине призывая подданных этой системы жить не по лжи, а в изгнании постоянно призывая Запад усиливать давление на коммунизм, едва ли Солженицын мог рассчитывать при жизни на что-либо еще, кроме идеологического ослабления и отступления коммунизма на более мягкие позиции. Случилось, однако, большее и, как вскоре выяснилось, худшее: система рухнула. История любит сильные и быстрые ходы, на обоснование которых затем приносятся огромные жертвы. Так было в 1917-м году, так произошло и на этот раз.
Боясь именно такого исхода в будущем, Солженицын не однажды предупреждал: «... но вдруг отвались завтра партийная бюрократия... и разгрохают наши остатки еще в одном феврале, в еще одном развале» («Наши плюралисты», 1982 г.). А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла еще только снизиться. Пожалуй, внезапное введение ее сейчас было бы лишь новым горевым повторением 1917 года» («Письмо вождям Советского Союза», 1973 г.).
По часам русской переломной жизни, ход которых Солженицын хорошо изучил, трудно было ошибиться: как за Февралем неминуемо последовал Октябрь, так и на место слетевшейся к власти образованщины, мелкой, подлой и жуликоватой, не способной к управлению, придут хищники высокого полета и обустроят государство под себя. Все это было и предвидено Солженицыным, и сказано, но бунтарь, жаждавший окончательной победы над старым противником, говорил в нем сильнее и заглушил голос провидца. «Красное колесо», прокатившееся от начала и до конца века, лопнуло... но если бы красным был в нем только обод, который можно срочно и безболезненно заменить и двигаться дальше!.. Нет, обод сросся и с осью, и со ступицей, то есть со всем отечественным ходом, с национальным телом - и рвать-то с бешенством и яростью принялись его, тело... и до сих пор рвут, густо вымазанные кровью.
Но сказанное надолго опасть и умолкнуть с переменой власти не могло. И ничего удивительного, что многое из относящегося к одной системе, само собой переадресовалось теперь на другую и даже получило усиление - вместе с усилением наших несчастий. Так и должно быть: правосудие борется с преступлением против национальной России, и новое знамя, выставленное злоумышленниками, честного судью не смутит.
«Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь - его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несет и кричит: «Я - Насилие! Разойдитесь, расступитесь - раздавлю!» Но насилие быстро стареет, немного лет - оно уже не уверенно в себе и, чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, непременно вызывает к себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а Ложь может держаться только насилием» (Жить не по лжи»).
«Против многого в мире может выстоять ложь - но только не против искусства. А едва развеяна будет ложь, отвратительно откроется нагота насилия - и насилие дряхлое падет» (Нобелевская лекция).
Нет, это не перелицованный Солженицын - все тот же, клеймящий зло, какие бы ипостаси оно не принимало.
А вот это совсем любопытно - несмотря на некоторые старые обозначения:
«Один американский дипломат воскликнул недавно: «Пусть на русском сердце Брежнева работает американский стимулятор!» Ошибка, надо было сказать: «на советском». Не одним происхождением определяется национальность, но душою, но направлением преданности. Сердце Брежнева, попускающего губить свой народ в пользу международных авантюр, не русское» («Чем грозит Америке плохое понимание России»).
Возвращение Александра Исаевича на многострадальную Родину, начавшееся четыре года назад, окончательно завершилось только недавно, с выходом книги «Россия в обвале» (издательство «Русский путь»), теперь можно сказать, что после 20-летнего отсутствия Солженицын снова врос в Россию и занял по принадлежащему ему нравственному влиянию, а с ним отныне совпадает и угадывание почвенных токов, первое место в России, избрав его в отдалении от всех политических партий, на перекрестке дорог, ведущих в глубинку, где остается надежда на народовластие, которое понимает он под земством. Опять же: не со всем и в последней книге можно согласиться безоговорочно. Но это отдельный разговор. Это отдельное размышление, и оно снова не обошлось бы без Толстого, который, конечно же, не добивался ни Февраля, ни Октября, но своими громогласными отрицаниями основ современной ему монархической жизни невольно подставил им плечо. Это размышление о подготавливании словно бы самим народом и словно бы вперекор своим ближайшим интересам великих нравственных авторитетов, чье влияние и учение согласуется с дальней перспективой отечественной судьбы.
80‑летний юбилей А.И. Солженицына - толчок для многих серьезных размышлений о крестном пути России. Они, разумеется, каждодневны, с ними мы засыпаем и с ними просыпаемся. Но вот наступает однажды день, как этот, приподнятый над роковой обыденностью, в которую засасывает нас все больше и больше, - и тогда все видится крупней и значительней. Если рожает русская земля таких людей - стало быть, по-прежнему она корениста, и никаким злодейством, никаким попущением так скоро в пыль ее не истолочь. Если после всех трепок, учиненных ей непогодой, сумела лишь усилиться и обогатиться на поросль - отчего ж не усилиться и ей и не обратить со временем невзгоды свои в опыт и мудрость?! Есть люди, в ком современники и потомки видят родительство земли большим, чем отца с матерью.
Оттого и звучит она так: Родина, Отечество!
ПРИ ВРУЧЕНИИ ПРЕМИИ СОЛЖЕНИЦЫНА
ВАЛЕНТИНУ РАСПУТИНУ
На рубеже 70-х и в 70-е годы в советской литературе произошёл не сразу замеченный, беззвучный переворот без мятежа, без тени диссидентского вызова. Ничего не свергая и не взрывая декларативно, большая группа писателей стала писать так, как если б никакого “соцреализма” не было объявлено и диктовано, - нейтрализуя его немо, стала писать в простоте, без какого-либо угождения, каждения советскому режиму, как позабыв о нём. В большой доле материал этих писателей был - деревенская жизнь, и сами они выходцы из деревни, от этого (а отчасти и от снисходительного самодовольства культурного круга, и не без зависти к удавшейся вдруг чистоте нового движения) эту группу стали звать деревенщиками. А правильно было бы назвать их нравственниками - ибо суть их литературного переворота была возрождение традиционной нравственности, а сокрушённая вымирающая деревня была лишь естественной, наглядной предметностью.
Едва ли не половину этой писательской группы мы теперь уже схоронили безвременно: Василия Шукшина, Александра Яшина, Бориса Можаева, Владимира Солоухина, Фёдора Абрамова, Георгия Семёнова. Но часть их ещё жива и ждёт нашей благодарной признательности. Первый средь них - Валентин Распутин.
Валентин Распутин появился в литературе в конце 60-х, но заметно выделился в 1974 внезапностью темы - дезертирством, - до того запрещённой и замолчанной, и внезапностью трактовки её.
В общем-то, в Советском Союзе в войну дезертиров были тысячи, даже десятки тысяч, и пересидевших в укрытии от первого дня войны до последнего, о чём наша история сумела смолчать, знал лишь уголовный кодекс да амнистия 7 июля 1945 года. Но в отблещенной советской литературе немыслимо было вымолвить даже полслова понимающего, а тем более сочувственного к дезертиру. Распутин - переступил этот запрет. Правда, и представил нам случай гораздо сложнее: заслуженный воин всю войну, три ранения, последнее особенно тяжёлое, и госпиталь в Сибири неподалеку от родных ангарских мест; других в таком виде демобилизуют или хотя бы в краткий отпуск, нашего героя - нет. А война - явно при конце, тут особенно обидна ему смерть - и он дрогнул. Тайком вернулся в окрестности своей деревни, даже родителям не открылся, только жене Настасье.
Она помогает ему таиться, через Ангару скрывно перебирается то в зимнюю мятель, то, потом, по открытой воде. Ошеломлена его побегом, но всё делает для его жизни. Изворачивается в сокрытии перед родными и окружающими. До войны прожили 4 года - не было ребёнка, и вдруг теперь она зачала. Для него - это высшая радость: “теперь... хоть завтра в землю!”, “да разве есть во всём белом свете такая вина, чтоб не покрылась им, нашим ребёнком?!” (Невозможнейшая фраза на советских страницах!) Для Настёны - догружается неизбежность раскрыва беременности и позора. Сюжет складывается не из издуманных поворотов, а из простых жизненных обстоятельств, как они естественно текут. Повествование не спешит, оно просочено сибирской натурой, - а события развиваются плотно. В центре всех напряжений - Настёна. Оттенки страхов, надежд, нарастающих мучений - совсем не литературными приёмами вылепляют нам яркий женский образ. Свекровь выгоняет Настёну из дому, в деревне кто любопытствует, кто насмехается, - Настёна теряет чёткость чувств и мыслей, у неё нарастает ощущение неотвратимости беды. “Казалось - это последний день, что ей ещё можно быть с людьми”. У властей возникают подозрения о дезертире, Настёна мечется предупредить мужа об угрозе, за ней и по ночной реке следят в лодках - и чтоб не выдать пребывания мужа и облегчением от невыносимого состояния - она утопляется в Ангаре, вместе с нерождённой, так желаемой, жизнью.
В повести малыми средствами выставлен нам ещё десяток характеров - и вся заброшенная сибирская деревня, где скудный вдовий праздник окончания войны - щемит, посильнее батальных сцен у других авторов. В густеющем мраке находится место и просветлённому лучу - извечной крестьянской трудовой радости сенокоса, без него была бы и Настасья неполна: она
Любила ещё до солнца выйти по росе, встать у края деляны, опустив литовку к земле, и первым пробным взмахом пронести её сквозь траву, а затем махать и махать, всем телом ощущая сочную взвынь ссекаемой зелени. Любила стоялый, стонущий хруст послеобеденной косьбы, когда ещё не сошла жара и лениво, упористо расходятся после отдыха руки, но расходятся, набирают пылу, увлекаются и забывают, что делают они работу, а не творят забаву; весёлой, зудливой страстью загорается душа - и вот уже идёшь не помня себя, с игривым подстёгом смахивая траву, и кажется, будто вонзаешься, ввинчиваешься взмах за взмахом во что-то забытое, утаенно-родное. Любила даже гребь по мёртвой жаре, когда сухо и ломко шебуршит сонное разнотравье; любила спорое, с оглядкой на небо и вечер, пока не отошло сено, копненье.
Через два года после “Живи и помни” Распутин издаёт своё сильнейшее произведение - “Прощание с Матёрой”. Это прежде всего - смена масштаба: не частный человеческий эпизод, а крупное народное бедствие - не именно одного затопляемого, обжитого веками острова, но грандиозный символ уничтожения народной жизни. И даже ещё огромней: какой-то неведомый поворот, сотрясение - расставание и для нас всех. Распутин - из тех прозорливцев, которому приоткрываются слои бытия, не всем доступные и не называемые им прямыми словами.
От первой страницы повести мы застаём деревню уже обречённой к уничтожению - и сквозь повесть это настроение нарастает, звучит как реквием - и голосами народа, и голосами самой природы и человеческой памяти, как она сопротивляется своей кончине. Пронзительно нарастает прощание с островом, растянутое умирание, режущее сердце.
Вся ткань повести - широкий поток народного поэтического восприятия. (На её протяжении изумительно описаны, например, разные характеры дождей.) Сколько чувств - о родной земле, её вечности. Полнота природы - и живейший диалог, звук, речь, точные слова. И - настоятельный у автора мотив:
Раньче совесть сильно различали. Ежели кто норовил без её - сразу заметно. А теперь - холера разберёт, всё смешалось в одну кучу - что то, что другое. Мы теперя так и этак не своим ходом живём. Люди про своё место под Богом забыли.
Пришли пожогщики, “набежники из совхоза”, и жгут одно за другим, что пустеет. Гигантское царь-дерево Листвень, отметный знак всего острова, - только он оказался неповалимый и несжигаемый. Сжигают - “мельницу христовенькую, сколько хлебушка нам перемолола”. Вот - часть домов уже сожжена, а остальные “как вжались в землю от страха”. Последняя вспышка прежней жизни - дружная пора сенокоса, любимая деревенская пора. “Все мы - свой народ, из одной Ангары воду пили”. А теперь это сено - через Ангару, и скирдовать около многоэтажных неживых домов для бесприютных коров, обречённых под нож. Прощание с деревней, растянутое во времени, одни уже переехали и приезжают навещать остров, другие - держатся на месте до последнего. Прощаются с могилами родных, пожогщики дико налетают на кладбище, стаскивают в кучу кресты и жгут. Старуха Дарья, готовясь к неизбежному сожжению своей избы, - белит её насвежо, моет полы и набрасывает на пол травы, как под Троицу: “Сколько тут хожено, сколько топтано”. Для неё отдать избу - “как покойника в гроб кладут”. А заезжий внук Дарьи - отчуждён, беспечен к смыслу жизни, уже давно оторван от деревни. Дарья ему: “В ком душа, в том и Бог, парень”. “А что душу свою потратили - вам и дела нету”. - Теперь узнаётся: изба, если её не трогать, сама по себе горит два часа - но ещё многие дни тоскливо курится потом. А и после сожженья избы - Дарья не в силах уехать с острова, ещё с двумя-тремя старухами ютится в негодном бараке. И так - перепущен срок отъезда. Сына Дарьи на катере посылают ночью снять стариков - а тут налегает такой густой туман, какого в жизни они не видели, и найти на Ангаре знакомый остров уже не могут. Этим и оканчивается повесть - грозным символом как бы нереальности нашего бытия: существуем ли мы вообще?
Просветы метафизических сил ощущаются и в некоторых рассказах Распутина, - “Что передать вороне”:
Небо и земля - что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов.
Или в “Наташе” - загадочном рассказе об ангеле-хранителе.
Символична и повесть “Пожар”, девятью годами позже “Матёры”, - и как в прямое продолжение к ней: дальнейшая судьба людей, насильно оторванных затоплением от своего прежнего коренного бытия и на бессмысленную уничтожительную работу - валку и валку лесов, без заботы о подросте новых.
Однако сам пожар описан вовсе не символично, не с литературной красивостью, а с реальными подробностями развития пламени в разных местах здания и на разных этапах горения, - автор подробно видит и передаёт нам детали; это - взгляд и художника, но и знатока пожарного дела. Таких адекватных описаний хода пожара я в русской литературе не знаю. Надо побывать там, чтоб это узнать: “казалось, горел даже дым, которым приходилось дышать”. И эти сдвиги в сознании людей в захвате пожарной работы - до полной потери реальности, даже понимания, откуда куда бежит или что делает.
Сквозь этот ревущий огонь звучит трубный голос народного горя, - в продленье того необратимого расставания нашего с разумным бытием.
На этом пожаре, несомненном поджоге: одни жертвенно спасают гибнущее, другие - всё больше воруют спопутно, а третьи - неназванные и невидимые, получают главный доход от поджога. В перемежных с пожаром главах - видим общий рост бессовестности и воровства, скудеющий остаток добросовестных людей. “Сама земля уходит из-под ног”.
И - торжествующее, наступающее на общую жизнь новое племя - всё те же пожогщики, знающие лишь одно уничтожение, теперь - “архаровцы”, ненаказуемые уголовники на просторах страны. “Вечная тоска в глазах: куда? зачем?” - сами не знают. “Вредят всякому, кто твердит о совести”. Для них “что было нельзя - стало можно, считалось за смертный грех - почитается за ловкость”. - “И как получилось, что сдались мы на их милость?”
Повесть вышла в свет в 1985-м, проницательно показывая, какою полууголовной наша страна была к началу Перестройки, - какою вся эта шваль вот-вот развернётся господами нашей жизни.
Вослед “Пожару” цепочка рассказов Распутина протянулась и в новейшее время, отражая и новые виды лютости жизни. “Изба” - как живое существо, принявшее душу своей обиталицы-подвижницы. - “Нежданно-негаданно”. - “Новая профессия”.
Выделим гнетущий рассказ большой силы “В ту же землю” (1995). На окраине микрорайона города, в котором воздух, растительная и человеческая жизнь необратимо протравлены заводскими выпусками фтора, живёт одинокая Пашута. Последняя из сестёр, трое умерли, она взяла к себе из деревни уже беспомощную мать. У самой-то “не окоченевшее до конца тело выгибается в пояснице с сухим треском - будто косточки ломает”. А мать - “оттолкнулась последним вздохом”, вот умирает; и “такой покой был на её лице, будто ни одного, даже маленького дела она не оставила неоконченным”. И - как хоронить? В деревне бы - куда как просто. А здесь первое: все цены теперь вскружились в десятки и десятки раз, нечего и думать купить гроб. А ещё главней: мать не прописана здесь и никто не выпишет ей свидетельства о смерти; а без свидетельства - не похоронишь. Конечно, за деньги можно получить всё - но денег-то и нет. “Время настало такое провальное: все кругом, все никому не нужны”, всё, что питает добро, пошло на свалку, “жизнь открылась сплошной раной”.
Не только стало нельзя жить, но у нас отняли и сокровенное, священное право - мирно отдать прах матери-земле.
О гробе - Пашута просит работягу, в прошлом близкого ей человека. Но где и как хоронить без дозволения? “Если всё от начала до конца пошло не так, то по нетаку и это - так”. На окраине микрорайона - свалка, пустырь, он “захламлён, набит стеклом, завален банками и пакетами”; но и дальше пустыря - “зачернён кострищами, затоптан, загажен и ближний к городу лес”. Даже за тем ещё б отодвинуться дальше, но ведь так, “чтоб добираться же к могиле уже неходящими ногами”. Спутник Пашуты помогает ей найти сухую полянку дальше в лесу. Однако: запретные похороны надо и провести тайно - значит, ночью, и выкопать могилу, и беззвучно же вынести гроб - “телоприимную обитель” - по лестнице общего дома, и везти до места. Уже на рассвете закопали, под первым снежком, как бы “дарующим прощение за беззаконные действия”. На лице у пашутиного друга “странная и страшная улыбка - изломанно-скорбная, похожая на шрам, с отпечатлевшегося где-то глубоко в небе образа обманутого мира”.
Помимо художественных произведений у Распутина есть замечательные сибирские очерки - об Алтае, Лене и Русском Устьи - легендарном поселении на берегу Ледовитого океана, где колония новгородцев сохранила до нашего несчастного XX века - неповреждённые с XVI века язык и обычаи. Если вспомнить тут и Байкал, и Ангару - Распутин выступает нам как уникальный певец Сибири и средь самых стойких защитников её.
И - органичнейшие черты его творчества: во всём написанном Распутин существует как бы не сам по себе, а в безраздельном слитии:
С русской природой и
- с русским языком.
Природа у него - не цепь картин, не материал для метафор, - писатель натурально сжит с нею, пропитан ею как часть её. Он - не описывает природу, а говорит её голосом, передаёт её нутряно, тому множество примеров, здесь их не привести. Драгоценное качество, особенно для нас, всё более теряющих живительную связь с природой.
Подобно тому - и с языком. Распутин - не использователь языка, а сам - живая непроизвольная струя языка. Он - не ищет слов, не подбирает их, - он льётся с ними в одном потоке. Объёмность его русского языка - редкая средь нынешних писателей. В “Словарь языкового расширения” я от Распутина не мог включить и сороковой части его ярких, метких слов.
А если надо всем сказанным здесь мы не упустим и такие качества Валентина Распутина, как сосредоточенное углубление в суть вещей, чуткую совесть и ненавязчивое целомудрие, столь редкое в наши дни, то изо всего и составится образ писателя, которому наше жюри вручает сегодня премию - с самым радушным чувством.