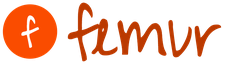Читать книгу «Заповедник» онлайн полностью — Сергей Довлатов — MyBook. Сергей довлатов - заповедник Заповедник произведение
На фоне Пушкина. (1983. «Заповедник» С. Довлатова)
Входит Пушкин в летном шлеме,
в тонких пальцах – папироса…
И. Бродский. 1986
«Заповедник» (1983) – заглавие, перекликающееся с «Зоной», первой книгой Сергея Довлатова. Огороженному запреткой пространству лагеря («по обе стороны запретки простирался единый и бездушный мир») противопоставляется – по идее, в замысле – некий оазис тишины и покоя, «обитель дальняя трудов и чистых нег», исключение из правил, хронотоп, живущий по особым законам.
Заповедник – обломок прошлого в настоящем. Пространство утопии. Место, которое есть, – как память о времени, которого уже нет.
Феномен литературного заповедника – явление, вероятно, сугубо советское. Или российское.
«Горька судьба поэтов всех племен; / Тяжеле всех судьба казнит Россию…» – вздохнул когда-то В. Кюхельбекер.
«Выше всех литературу ценят в России, в России за литературу убивают», – словно продолжил Мандельштам.
Но трагическая гибель (или простая смерть) – начало официальной (государственной) и неофициальной (общественной, народной) памяти. В советскую эпоху почитание избранных классиков было политикой, кампанией, обязанностью, профессией.
В отличной балладе Д. Самойлова «Дом-музей» (Довлатову, думаю, известной) лирико-иронический эффект возникает за счет столкновения реалий прошлого и реальностей настоящего. В стихотворении два эпиграфа: «Потомков ропот восхищенный, / Блаженной славы Парфенон! Из старого поэта» и «…производит глубокое… Из книги отзывов».
Музеями-заповедниками стали многие сохранившиеся или восстановленные усадьбы: Ясная Поляна, Спасское-Лутовиново, Тарханы, Мелихово, Щелыково. Просто музеями – городские квартиры (Достоевский, Блок) или даже комнаты в коммуналке (Ахматова).
Один советский «классик» успел открыть в родной деревне избу-музей при жизни.
Пушкин, как известно, «наше все». И в музейно-заповедном строительстве он оказался на особом месте. У него есть музеи в Москве и Петербурге, в Болдине и Царском Селе. В Выре существует музей станционного смотрителя. В Валдае музеем стал трактир, упомянутый в одном из стихотворений.
Заповедников – много, но Заповедник – один. Довлатовское заглавие читается как имя собственное, а не собирательное. Родовое Михайловское и Пушкинские Горы в заповедном строительстве всегда были на особом счету. Почти не изменившийся пейзаж («Здесь все подлинное. Река, холмы, деревья – сверстники Пушкина. Его собеседники и друзья. Вся удивительная природа здешних мест…»), восстановленный дом («новодел», как говорят музейщики) со множеством филиалов, относительная близость к обеим российским столицам – сделали Пушгоры местом паломничества. «Паломники» – так высокопарно-доверительно именовались посетители в развешанных по заповеднику объявлениях и инструкциях.
Многие приезжали сюда, потому что действительно хотели увидеть, понять, прикоснуться… Но сюда ехали и потому, что Пушкина проходят в школе, потому что в профсоюзном комитете были билеты, потому что на турбазе можно было выпить и отвлечься от опостылевшей рутины. «На фоне Пушкина снимается семейство», – пел Окуджава, правда, о московском памятнике.
Мощным потокам паломников нужны поводыри. Экскурсовод в Пушкинских Горах летом – массовая профессия. Ленинградская служилая интеллигенция не только думала о жизни и отдыхала в пушкинских пенатах (за неимением собственных), но и заодно подрабатывала, неся Пушкина в народные массы. Таким путем и приходит (приезжает) к Пушкину довлатовской герой, постоянный автопсихологический персонаж, названный в этой книге Алихановым (фамилия перенесена сюда из «Зоны»).
Формальная структура книги, однако, оказывается, иной. На смену фрагментарной композиции сборников-циклов приходит повесть с единым сюжетом. Но содержательно все остается без изменений. Снова перед читателем «описание объекта», хронотопа плюс история автопсихологического героя. Портрет современного писателя-неудачника на фоне Пушкина. Пушкина из Пушкинского заповедника и его служителей (которые отчасти тоже портреты).
«Без вещей Пушкина, без природы пушкинских мест трудно понять до конца его жизнь и творчество… Сегодня вещи Пушкина – в заповедниках и музеях. Здесь они живут особой, таинственной жизнью, и хранители читают скрытые в них письмена… Когда будете в Михайловском, обязательно пойдите как-нибудь вечером на околицу усадьбы, станьте лицом к маленькому озеру и крикните громко: “Александр Сергеевич!” Уверяю вас, он обязательно ответит: “А-у-у! Иду-у!”».
Так поэтически писал о заповеднике его многолетний директор, который восстанавливал Михайловское после войны, прославил его и прославился вместе с ним. Книга С. С. Гейченко, многократно переиздававшаяся и многим известная, называется «Лукоморье». В ней создавался миф о хранителях, читающих таинственные письмена вещей и пейзажей и благоговейно транслирующих их паломникам пушкинских мест.
Мифы современные, в отличие от древних, имеют лицо и изнанку. О Михайловском и его главном Хранителе писали и говорили по-разному, но менее всего – равнодушно. Имеются в виду, конечно, не официальные портреты (в очерках и даже романах), а общественное мнение, экскурсионная и культурная молва.
«Редко что сохранилось в России в такой чистоте и неприкосновенности, как псковские Пушкинские места – Святые (ныне Пушкинские) Горы, Михайловское, Тригорское.
Ландшафт не опоганен бетонными коробками. Озера не заросли травой. Парки не повырублены…
Этот по-настоящему заповедный остров сбережен, нет, заново восстановлен одноруким Семеном Степановичем Гейченко, страстным энтузиастом, директором заповедника.
Удивительно живой души человек! Восстановил на Савкиной Горке древнюю часовню. Но все ему казалось: не то, недоделано, что ли… Не успокоился, пока не привез батюшку и не освятил бревенчатый сруб. Знал, что донесут, что рискует местом, а освятил!»
В одном из первых «Ненаписанных репортажей» Л. Лосева, опубликованных вскоре после его эмиграции в «Континенте» (1976), рисуется образ бескорыстного энтузиаста и тайного диссидента. Правда, через две страницы возникает иная картинка: «В день рождения Александра Сергеевича на большой поляне в Михайловском устраивается аляповатое, помпезное празднество… Поэты читают о родине, о партии, ухитряясь как-то привязать это к данному торжеству. Толпа скучает и поглядывает на киоски. Каждый раз в толпе возникают невероятные слухи – то, что полушубки будут “давать”, то, что сельдь в баночках завезли. Слухи, как правило, не оправдываются» (Лосев Л. «Закрытый распределитель»).
В конце же репортажа появляется «сильно пьяный» Мальчонков из КГБ, гуляющий в ресторане «Лукоморье» (не с этого ли оригинала написан довлатовский Беляев?).
Более сложный образ дан в дневниковой записи автора «Дома-музея»: «Гейченко прислал машину и мы полдня… бродили по Михайловскому, ездили в Тригорское и Петровское. Несколько раз вышибало слезу. Пили чай у Гейченко… Сам он человек разный, на нем все держится. В нем и тщеславие, и фанатизм, и организационные способности» (Самойлов Д. «Поденные записи»).
Ю. Нагибин, профессиональный путешественник по прошлому, автор рассказов о многих старых писателях, от Аввакума до Анненского, в откровенном и резком «Дневнике» дважды оставил следы паломничества к Пушкину.
«Семидневная грязная пьянка, от которой выздоровел в Пушкинских Горах. Как же там хорошо, нежно и доподлинно! Опять Гейченко с развевающимся пустым рукавом черной рубахи, машет им, будто черный лебедь крылом, – младший брат андерсеновской принцессы… Опять тихие плоские озера и плавающие на их глади непуганые дикие утки, и жемчужно-зеленые, щемяще родные дали, в которые глядел Пушкин», – взгляд шестьдесят четвертого года.
Через пятнадцать лет вместо черного лебедя появится едва ли не черный ворон и ключевое слово «доподлинно» сменится на прямо противоположное. «Были в Тригорском и во вновь отстроенном Петровском: вотчине Ганнибалов. От последнего осталось двойственное впечатление; само здание достаточно убедительно, но набито, как комиссионный магазин, чем попало: павловские прелестные стулья и современный книжный шкаф, великое множество буфетов, даже в коридорах; подлинных вещей почти нет. <…> А липа вокруг Гейченко растет и ширится. Здесь доподлинно установили, что знаменитый портрет арапа Петра Великого, подлинник которого висит в Третьяковке, на самом деле изображает какого-то русского генерала, загоревшего на южном солнце. Черты лица под смуглотой чисто русские, и не было у Ганнибала таких орденов. Гейченко утверждает, что русские вельможи заставляли живописцев пририсовывать им лишние ордена. Возможно, так оно и было, но не верится, что взысканный многими высокими наградами Ибрагим погнался за лишним орденком. И уж во всяком случае, не стал бы требовать от живописца придания ему русских черт. Тогда почему бы и цвет кожи не сменить? Но Гейченко хочется иметь в Петровском портрет арапа Петра Великого, и все! Впрочем, одной липой больше, одной меньше в проституированном мемориале – какое имеет значение?» (Ю. Нагибин. «Дневник»).
Это вот безымянный портрет.
Здесь поэту четырнадцать лет.
Почему-то он сделан брюнетом.
(Все ученые спорят об этом.)
Вот позднейший портрет – удалой,
Он писал тогда оду «Долой»
И был сослан за это в Калугу.
Вот сюртук его с рваной полой -
След дуэли. Пейзаж «Под скалой».
Вот начало «Послания к другу».
Вот письмо: «Припадаю к стопам…»
Вот ответ: «Разрешаю вернуться…»
Вот поэта любимое блюдце,
А вот это любимый стакан.
Тот же мотив подмены, всеобщей липы становится одним из главных в довлатовской повести. Любимые блюдца и стаканы, портреты и липовые аллеи оказываются симулякрами, «новоделами», театральными декорациями, выдумками, выдающими себя за правду.
«В жизни Пушкина еще так много неисследованного… Кое-что изменилось с прошлого года… – В жизни Пушкина? – удивился я… – Не в жизни Пушкина, – раздраженно сказала блондинка, – а в экспозиции музея. Например, сняли портрет Ганнибала. – Почему? – Какой-то деятель утверждает, что это не Ганнибал. Ордена, видите ли не соответствуют. Якобы это генерал Закомельский. – Кто же это на самом деле? – И на самом деле – Закомельский. – Почему же он такой черный? – С азиатами воевал на юге. Там жара. Вот он и загорел. Да и краски темнеют от времени. – Значит, правильно, что сняли? – Да какая разница – Ганнибал, Закомельский… Туристы желают видеть Ганнибала. Они за это деньги платят. На фига им Закомельский?! Вот наш директор и повесил Ганнибала… Точнее, Закомельского под видом Ганнибала».
«Можно задать один вопрос? Какие экспонаты музея – подлинные? – Разве это важно? – Мне кажется – да. Ведь музей – не театр. – Здесь все подлинное. Река, холмы, деревья – сверстники Пушкина. Его собеседники и друзья. Вся удивительная природа здешних мест… – Речь об экспонатах музея, – перебил я, – большинство из них комментируется в методичке уклончиво: “Посуда, обнаруженная на территории имения…” – Что вас конкретно интересует? Что бы вы хотели увидеть? – Ну, личные вещи… Если таковые имеются… – Кому вы адресуете свои претензии? – Да какие же могут быть претензии?! И тем более – к вам! Я только спросил… – Личные вещи Пушкина?.. Музей создавался через десятки лет после его гибели… – Так, – говорю, – всегда и получается. Сперва угробят человека, а потом начинают разыскивать его личные вещи. Так было с Достоевским, с Есениным… Так будет и с Пастернаком. Опомнятся – начнут искать личные вещи Солженицына…» («Ах, как он угадал!» – можно было бы воскликнуть вслед за булгаковским героем.)
«Когда мы огибали декоративный валун на развилке, я зло сказал: “Не обращайте внимания. Это так, для красоты…” И чуть потише жене: “Дурацкие затеи товарища Гейченко. Хочет создать грандиозный парк культуры и отдыха. Цепь на дерево повесил из соображений колорита. Говорят, ее украли тартуские студенты. И утопили в озере. Молодцы, структуралисты!..”»
«– Ы-ы-а, – повторил Митрофанов. – Он говорит – “фикция”, – разъяснил Потоцкий. – Он хочет сказать, что аллея Керн – это выдумка Гейченко. То есть аллея, конечно, имеется. Обыкновенная липовая аллея. А Керн тут ни при чем. Может, она близко к этой аллее не подходила».
Пастернак сказал когда-то о другом своем современнике: «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было второй его смертью». Кампания любви к «солнцу нашей поэзии» принимает в Заповеднике гомерические масштабы. Изображения поэта встречаются на каждом шагу, даже у таинственной будки с надписью «огнеопасно». Вопрос «Вы любите Пушкина?» является таким же привычным и обыденным, как «здравствуйте». Скромная по роли должность хранителей трансформируется в миссию служителей, высокомерных и беспощадных.
«Все служители пушкинского культа были на удивление ревнивы. Пушкин был их коллективной собственностью, их обожаемым возлюбленным, их нежно лелеемым детищем. Всякое посягательство на эту личную святыню их раздражало. Они спешили убедиться в моем невежестве, цинизме, корыстолюбии».
Сквозь щели усердно лелеемого мифа проступает иная, грустная, реальность. На самом деле Заповедник напоминает не остров Утопию, а какой-то ковчег, на который выбрасываются потерпевшие кораблекрушение люди. Одинокие, мечтающие о замужестве и другой жизни девушки: «бухгалтер, методист, экскурсоводы». Гениальный ленивец и эрудит Митрофанов, обнаруживающий единственное место, где можно быть верным своей природе, рассказывать – и больше ничего. Неудачливый литератор-халтурщик Потоцкий с его фантастическими планами, бездарными сюжетами и реальными запоями.
Вот еще одна временная обитательница ковчега: «Натэлла приехала из Москвы, движимая романтическими, вернее – авантюрными целями. По образованию – инженер-физик, работает школьной учительницей. Решила провести здесь трехмесячный отпуск. Жалеет, что приехала. В заповеднике – толчея. Экскурсоводы и методисты – психи. Туристы – свиньи и невежды. Все обожают Пушкина. И свою любовь к Пушкину. И любовь к своей любви». Но ее вроде бы трезвый взгляд мгновенно превращается в грубый флирт: «“Давайте как-нибудь поддадим! Прямо на лоне… А вы человек опасный… Полюбить такого, как вы – опасно”. И Натэлла почти болезненно толкнула меня коленом…»
Интеллигентный, ироничный, как кажется, взгляд со стороны становится эксцентрической формой того же комплекса потерпевших кораблекрушение. «Господи, думаю, здесь все ненормальные. Даже те, которые считают ненормальными всех остальных…»
Формулу «Заповедника» можно представить примерно так: Пушкин, вино и женщины (преимущественно одинокие).
В описании второго полюса заповедной жизни – эскадронов туристов-паломников – Довлатов тоже доверяет не официальному портрету, а молве, щедро используя экскурсионный фольклор. Туристы задают дикие вопросы («Из-за чего была дуэль у Пушкина с Лермонтовым? Как отчество младшего сына Пушкина?»). Они невежественны и в то же время агрессивны. Жизнерадостная суета не прекращается даже у могилы: «У ограды фотографировались туристы. Их улыбающиеся лица показались мне отвратительными».
Повествователь ставит этому замкнутому, претендующему на особый статус миру жесткий диагноз. Юмористический по преимуществу взгляд временами становится язвительным, даже злым. «Любить публично – скотство! – заорал я. – Есть особый термин в сексопатологии…»
Особенно эффектен монтажный стык, столкновение лоб в лоб прекрасного будто бы заповедного прошлого и неприглядного настоящего, которое ни на минуту не дает забыть о себе.
«– Тут все живет и дышит Пушкиным, – сказала Галя, – буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота… Цилиндр, крылатка, знакомый профиль…
Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач.
– Борька, хрен моржовый, – дико заорал он, – ты ли это?!»
Культ личности Пушкина сковывает и отталкивает, как всякий культ. При желании и его, «певца империи и свободы» (Г. Федотов), можно сделать опорой диктатуры, пусть поначалу эстетической (об этом через несколько лет после смерти Довлатова был снят забавный кинофильм «Бакенбарды»). Но проблема заповедной любви к культурной святыне не так проста, как может показаться.
Ну хорошо: туристы отвратительны; толпа превратила «народную тропу» в вытоптанную поляну; служители культа претенциозны и недалеки, повторяют, как попугаи, слова о великом поэте и великом гражданине, убитом по указке самодержавия рукой великосветского шкоды (подзабытая цитата из Маяковского); все происходящее покрыто густым слоем пошлости…
Но ведь и сам Алиханов не только вклеивает в экскурсию есенинские стихи, но и соглашается (опять компромисс!) играть по предложенным в этом «заповедном» пространстве правилам. «Хотя дней через пять я заучил текст экскурсии наизусть, мне ловко удавалось симулировать взволнованную импровизацию. Я искусственно заикался, как бы подыскивая формулировки, оговаривался, жестикулировал, украшая свои тщательно разработанные экспромты афоризмами Гуковского и Щеголева. Чем лучше я узнавал Пушкина, тем меньше хотелось рассуждать о нем. Да еще на таком постыдном уровне. Я механически исполнял свою роль, получая за это неплохое вознаграждение». И он, как те одинокие дамы, приезжает к Пушкину решать свои проблемы.
Более того, когда герой, начитавшись пушкинистов, пытается взорвать бронированные клише и сказать нечто оригинальное, он произносит вещи достаточно банальные, только на порядок выше – о Пушкине как явлении запоздалого Ренессанса, о его олимпийском спокойствии и божественном равнодушии… Видимо, справедлив парадокс историка В. Ключевского: «О Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует».
«Люди верят только славе, – заметил сам Александр Сергеевич в “Путешествии в Арзрум”. – Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос». В Заповеднике задумываешься: может быть, в состав славы входит и это? И сорок человек экскурсоводов, и глупые вопросы о дуэли, и пейзаж, «удивительная природа здешних мест», который в сорока километрах (верстах) от Михайловского тот же, и все же не тот… Отношение, в котором смешаны интимность и равнодушие, искренность и суетность. Пушкин здесь входит не просто в пантеон, но в «пестрый сор» современной жизни. В самом деле, он мечтал не только о монументальном памятнике, но и об ином, более скромном бессмертии.
И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Впрочем, эти культурные страдания и страсти на заповедном ковчеге могут показаться бурей в стакане воды. Потому что вокруг Заповедника течет такая узнаваемая, нелепая, дикая, грубая, несчастная деревенская жизнь.
В одном из эпизодов, прочитав известного лирического писателя, автора путешествий по святым литературным местам («Осень в Тамани» и пр.), Алиханов находит у него «безнадежное, унылое, назойливое чувство. Худосочный и нудный мотив: “Где ты, Русь?! Куда все подевалось?! Где частушки, рушники, кокошники?! Где хлебосольство, удаль, размах?! Где самовары, иконы, подвижники, юродивые?! Где стерлядь, карпы, мед, зернистая икра?! Где обыкновенные лошади, черт побери?! Где целомудренная стыдливость чувств?!”»
«Голову ломают:
“Где ты, Русь?! Куда девалась?! Кто тебя обезобразил?!” – продолжает рассказчик.
Кто, кто… Известно кто…
И нечего тут голову ломать… »
В «Наших» Довлатов утверждает, что хороший писатель самостоятельно изобретает даже пунктуацию. В этом фрагменте одиннадцать раз повторяющееся «амбивалентное» сочетание вопросительного и восклицательного знаков сменяется тремя подсказывающими ответ многоточиями.
Полемическим ответом на грезы о России, которую мы потеряли, становится колоритный Михал Иваныч, хозяин избы, где герой снимает квартиру.
Удаль и размах остались при нем. А что касается остального… Страшен его дом, в котором через щели в полу проходят бездомные собаки. Странна его любовь к жене: «А чего ее любить? Хвать за это дело и поехал…» Оригинальна его речь, похожая на «звукопись ремизовской школы», где членораздельно выговариваются только существительные и глаголы и ни одна фраза не добирается до заключительной точки. Уникально-стабилен образ о жизни: «Пил он беспрерывно. До изумления, до паралича, до бреда».
И все равно этого перекати-поле повествователь рисует с большей симпатией, чем его соседей, справных и уравновешенных хозяев. В нем видится внутренняя интеллигентность и даже что-то аристократическое: «Пустые бутылки он не сдавал, выбрасывал. “Совестно мне, – говорил он, – чего это я буду, как нищий…”»
Михал Иваныч – деревенский лишний человек, напоминающий Буша из «Компромисса». Он тоже бунтует, и так же нелепо, смешно, бессмысленно. К таким характерам Довлатов испытывает «влеченье, род недуга». Может быть, потому, что чувствует свое с ними внутреннее родство.
Интересно, заглянул ли Михал Иваныч хоть раз в пушкинский заповедник послушать про народность поэта и Арину Родионовну? Но Довлатов-автор, сочиняя и описывая его, явно заглянул в пушкинские тексты. В этом герое явно виден рефлекс одного пушкинского персонажа и его любимой «народной мысли».
«Что он за личность, я так и не понял. С виду – нелепый, добрый, бестолковый. Однажды повесил двух кошек на рябине. Петли смастерил из рыболовной лески.
– Расплодились, – говорит, – шумовки, сопсюду лузгают…
Как-то раз я нечаянно задвинул изнутри щеколду. И он до утра просидел на крыльце, боялся меня разбудить…
Был он нелепым и в доброте своей, и в злобе».
Неразложимое, химическое сочетание бессмысленно-равнодушной жестокости и органически-неприметной доброты – откуда это?
В одном из эпизодов стукач Гурьянов сообщает на экзамене профессору Бялому, что ему очень понравилась повесть Пушкина «Домбровский». В означенном «Дубровском» есть такая сцена: Архип-кузнец безжалостно, «с злобной улыбкой», сжигает в запертом доме приказных-подьячих, но, рискуя жизнью, спасает бегающую по горящей крыше кошку («божия тварь погибает»).
В Михале Иваныче это странное сочетание жестокости и доброты повторяется в тех же деталях (запертый дом, кошка), но с переменой знаков. Повесив кошек и похвалив немцев, расстрелявших в войну евреев и цыган («Худого, ей-богу, не делали. Жидов и цыган – это как положено…»), он деликатно не хочет разбудить достойного квартиранта в собственном доме.
«Русский бунт, бессмысленный и беспощадный» (определение из черновой главы «Капитанской дочки») разыгрывается здесь в отдельно взятой душе.
На этом заповедном и околозаповедном фоне выстраивается характер героя-рассказчика. Борис Алиханов – следующая глава довлатовской исповеди, хождения по литературным мукам. Алиханов из «Зоны», как мы помним, обретал слово как способ борьбы с ужасной реальностью, как средство спасения. Грустный циник «Довлатов» из «Компромисса», кажется, вовсе ничего не сочинял для себя, он просто халтурил, а рассказы о зоне писал эпизодический пьяница Алиханов.
Герой «Заповедника» живет с постоянным ощущением тупика, краха, катастрофы. «Жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем. Я находился в центре». Как и Алиханов-первый, он свято верит в слово, мечтает о шедевре, о своем читателе. Заклиная себя («Надо либо жить, либо писать. Либо слово, либо дело. Но твое дело – слово»), Алиханов снова апеллирует к Пушкину, фактически повторяет его слова, известные в передаче Гоголя: «Слова поэта суть уже его дела».
Но двадцать лет жизни в полутьме, в неофициальной культуре – без публикаций, без публики – делают из героя творческую личность «на грани душевного расстройства». «Ты завидуешь любому, кто называет себя писателем. Кто может, вытащив удостоверение, документально это засвидетельствовать» . Комплекс «непризнанного гения», вынужденного быть «страшным халтурщиком», разрушает его семью и его самого. Любимое лекарство русских неудачников («твое вечное пьянство») довершает картину катастрофы. Поездка к Пушкину оказывается не спасением, но передышкой. «Мои несчастья были вне поля зрения. Где-то за спиной. Пока не оглянешься – спокоен. Можно не оглядываться…»
На фоне Пушкина-заповедного, Пушкина-мемориального, Пушкина-иконы особенно острым становится еще один литературный мотив – отношения к писателю современников и потомков.
В булгаковском «Мастере и Маргарите» бездарный поэт Рюхин, проезжая на грузовике мимо «металлического человека» на московском бульваре, вдруг испытывает к нему мучительную зависть, «комплекс Сальери». «Какие-то странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. “Вот пример настоящей удачливости… – тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека, – какой бы шаг он ни сделал в жизни, чтобы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал?
Я не постигаю… Что-нибудь особенное есть в этих словах: “Буря мглою…”? Не понимаю!.. Повезло, повезло! – вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся, – стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие…”»
У довлатовского героя преобладающим чувством оказывается не зависть, а некоторая ревность и недоумение, причем акцент делается не столько на самом поэте, сколько на его окружении. Уже на первых страницах повести, у входа в Заповедник, повествователь замечает: «Я перелистывал “Дневники” Алексея Вульфа. О Пушкине говорилось дружелюбно, иногда снисходительно. Вот она, пагубная для зрения близость. Всем ясно, что у гениев должны быть знакомые. Но кто поверит, что его знакомый – гений?!»
Наблюдение точное, имеющее отношение не только к бесспорной гениальности. Довлатов тут угадывает кое-что и в своей посмертной судьбе. Дистанция времени резко меняет оптику, отделяет объекты воспоминаний и дневников от их субъектов. До поры до времени люди сидят за одним столом, вместе выпивают, волочатся за теми же дамами. «Кто кого перемемуарит» – еще неясно. Однако вопросы «Почему он, а не я? Что-нибудь особенное есть в этих текстах?» – неизбежно возникают потом.
В конце повести мотив «прозеванного гения» (таланта) возвращается и развивается.
«Я твердил себе:
– У Пушкина тоже были долги и неважные отношения с государством. Да и с женой приключилась беда. Не говоря о тяжелом характере…
И ничего. Открыли заповедник. Экскурсоводов – сорок человек. И все безумно любят Пушкина…
Спрашивается, где вы были раньше?.. И кого вы дружно презираете теперь?.. (Это напоминает крик Маяковского в некрологе Хлебникову: “Хлеб – живым! Бумагу – живым!” – И. С. )
Ответа на мои вопросы я так и не дождался. Я уснул…»
Примечательно, что главную черту алихановского этюда о Пушкине Довлатов потом переадресует своему последнему автопсихологическому персонажу, Григорию Борисовичу из рассказа «Мы и гинеколог Буданицкий».
«Больше всего меня заинтересовало олимпийское равнодушие Пушкина. Его готовность принять и выразить любую точку зрения. Его неизменное стремление к последней высшей объективности. Подобно луне, которая освещает дорогу и хищнику и жертве.
Не монархист, не заговорщик, не христианин – он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в Целом ».
«Писатель очнулся. Почувствовал на лице своем широкую блуждающую улыбку. Испытал неожиданно острое сочувствие ходу жизни в целом».
Литературная катастрофа осложнена в «Заповеднике» драмой отъезда. Тема эмиграции, путешествия «на тот свет» была желанной, но запрещенной в официальной литературе семидесятых-восьмидесятых. В довлатовской повести мотив бегства из зоны представлен истерически-всеобщим. Отъезжантами и кандидатами набита квартира героя («В разговорах мелькали слова: “овир”, “хиас”, “берлинский рейс”, “таможенная декларация”…»).
«Рвануть отсюдова, куда попало, хоть в Южную Родезию» мечтает собутыльник-фотограф из заповедника. В том же самом тайном желании признается даже сотрудник «органов»: «Я бы на твоем месте рванул отсюда, пока выпускают… У меня-то шансов никаких. С моей рязанской будкой не пропустят…».
На этом фоне попытка жены героя вырваться из тупика нищеты и обыденности, «прожить еще одну жизнь» более чем понятна и естественна. Неестественна реакция Алиханова. Он объявляет уехавших «несчастными пораженцами» («Даже Набоков ущербный талант. Что же говорить о каком-нибудь Зурове!»). В пересечении границы ему видится не новая жизнь, а писательская смерть.
Мотивы отказа плывут и множатся. Возникает эстетический: «Что тебя удерживает? Эрмитаж, Нева, березы? – Березы меня совершенно не волнуют. – Так что же? – Язык, На чужом языке мы теряем восемьдесят процентов своей личности. Мы утрачиваем способность шутить, иронизировать. Одно это меня в ужас приводит». Он сразу подпирается социальным: «Здесь мои читатели. А там… Кому нужны мои рассказы в городе Чикаго? – А здесь кому они нужны? Официантке из “Лукоморья”, которая даже меню не читает? – Всем. Просто сейчас люди об этом не догадываются». Но где-то в глубине прячется психологический – комплекс Обломова: «При этом я знал, что все мои соображения – лживы. Дело было не в этом. Просто я не мог решиться. Меня пугал такой серьезный и необратимый шаг. Ведь это как родиться заново. Да еще по собственной воле… Всю жизнь я ненавидел активные действия любого рода. Слово “активист” для меня звучало как оскорбление. Я жил как бы в страдательном залоге. Пассивно следовал за обстоятельствами».
Но аргументы и уговоры не действуют. Русский человек на rendez-vous проигрывает и здесь. «Я ведь заехала проститься. Если ты не согласен, мы уезжаем одни. Это решено».
При выходе из Заповедника стоят две важные, почти символические сцены. Напившись в одиночку в лесу после отъезда жены, герой вдруг обретает искомое состояние спокойствия, гармонии, единства с миром: «Мир изменился к лучшему не сразу. Поначалу меня тревожили комары. Какая-то липкая дрянь заползала в штанину. Да и трава казалась сыроватой.
Потом все изменилось. Лес расступился, окружил меня и принял в свои душные недра. Я стал на время частью мировой гармонии. Горечь рябины казалась неотделимой от влажного запаха травы. Листья над головой чуть вибрировали от комариного звона. Как на телеэкране проплывали облака. И даже паутина выглядела украшением…»
Точно так же (совпадают даже отдельные детали) вдруг почувствовал свое единство с миром один классический «лишний» – толстовский юнкер Оленин из «Казаков». «Оленин готов был бежать от комаров: ему уж казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он уже шел домой; но вспомнив, что живут же люди, решился вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И, странное дело, к полудню это ощущение стало ему даже приятно… Ему было прохладно, уютно; ни о чем он не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он по старой привычке стал креститься и благодарить кого-то… И все он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и чувствовал все себя таким же счастливым, как и прежде».
А потом – и впервые в довлатовских текстах – происходит встреча с частью той безликой силы, которая давит, губит, не пущает. Пришедший после грандиозного загула в местное отделение КГБ, Алиханов встречает не монстра, а человека с «долгим, грустным, почти трагическим взглядом» и улыбкой, выражающей «несовершенство мира и тяжелое бремя ответственности за чужие грехи». Впрочем, это театральная маска. Проведя обязательную воспитательную беседу, майор Беляев достает стаканы, и начинается теплая мужская выпивка и разговор «за жизнь» (Е. А. Тудоровская видела здесь аналогию с сатирической поэмой А. К. Толстого «Сон Попова», Н. Елисеев – с допросом Швейка жандармским вахмистром Фланеркой в романе Я. Гашека).
Беляев оказывается еще большим диссидентом, чем Алиханов. Он глубоко копает в вопросах сельского хозяйства, почище нынешних социальных мыслителей («Допустим, можно взять и отменить колхозы. Раздать крестьянам землю и тому подобное. Но ты сперва узнай, что думают крестьяне? Хотят ли эту землю получить?.. Да на хрена им эта блядская земля?!»), предсказывает советской власти гибель от водки, по-дружески предупреждает героя об осторожности и признается в своей тайной мечте «рвануть отсюда».
Паломничество к Пушкину завершается любимым довлатовским оксюмороном: «Я шел и думал – мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда…»
Но если мир таков, то по-своему безумен и центральный герой. Он – последний защитник своей «безумной страны», – вопреки очевидности, уговорам, доводам разума. Впрочем, и эта крепость в конце концов сдается.
Обмен репликами в сцене прощания в аэропорту – лаконичная довлатовская метафизика, заменяющая философские словоизвержения. «Как ты думаешь, мы еще увидимся? – Да я уверена. Совершенно уверена. – Тогда я, может, поверю, что Бог – есть. – Мы увидимся. Бог есть…»
Автобус тронулся.
Теперь можно было ехать домой, не прощаясь…
Одиннадцать дней я пьянствовал в запертой квартире».
Звонок жены оттуда, «с того света» – это начало «нового неба и новой земли», новой жизни.
Как джазовый музыкант в конце импровизации пробегает по всем клавишам, Довлатов на последней странице «Заповедника» напоминает ключевые мотивы повести.
Алкоголь . «Выпивка кончилась. Деньги кончились. Передвигаться и действовать не было сил… “Ты выпил?” Я рассердился: “Да за кого ты меня принимаешь?!..”»
Безумие . «На одиннадцатые сутки у меня появились галлюцинации… В ногах у меня копошились таинственные, липкие гады. Во мраке звенели непонятные бубенчики. По одеялу строем маршировали цифры и буквы».
Смерть . «Один раз я прочел: “Непоправима только смерть!..” Не такая уж глупая мысль, если вдуматься».
Поэтическая метафизика . «Я даже не спросил – где мы встретимся? Это не имело значения. Может быть, в раю. Потому что рай – это и есть место встречи. И больше ничего. Камера общего типа, где можно встретить близкого человека…» (Один из героев «Преступления и наказания» представлял вечность в виде закоптелой деревенской бани с пауками по углам.)
Остановившееся время . «Вдруг я увидел мир как единое целое. Все происходило одновременно. Все совершалось на моих глазах… »
Последнюю точку в интерпретации повести, кажется, позволяют поставить пушкинские ассоциации и мотивы. Дочь героя зовут Маша, что напоминает о «Капитанской дочке». Жена же получает имя героини «Евгения Онегина»: «Итак, она звалась Татьяна…»
Что делает героиня пушкинского романа в стихах в финале?
– Остается с мужем, спасая его честь и свою репутацию: «Я вас люблю (к чему лукавить?), / Но я другому отдана; / Я буду век ему верна». Она могла бы ответить Онегину и по-другому: это уже не любовь, а судьба.
Что делает героиня «Заповедника»? – Уезжает от мужа, намечая неведомую перспективу, фактически спасая его.
Поступки разные – смысл один. Вечное женское дело спасения простых и вечных ценностей. Защита нормы как формы существования. Нормы, вызывающей ощущение чуда. Ибо на фоне неистовых почитателей Пушкина, свободных художников, крашеных блондинок, запойных пьяниц, стукачей и прочих оригинальных натур – она просто нормальна с заботой о дочке, рваными колготками, мечтами о сносной жизни и неизвестно откуда взявшейся решительностью.
Но парадокс в том, что писатель-неудачник Алиханов был прав тоже: мой язык, мои читатели, моя безумная страна. .. В газетном эссе из «Нового американца», вошедшем в книгу «Марш одиноких», есть письмо, будто бы чудом дошедшее из Ленинграда. «Я же хочу сказать о том, чего нет. И чего газете, по-моему, решительно не хватает.
Ей не хватает твоего прошлого. Твоего и нашего прошлого. Нашего смеха и ужаса, терпения и безнадежности…
Твоя эмиграция – не частное дело. Иначе ты не писатель, а квартиросъемщик. И несущественно – где, в Америке, в Японии, в Ростове.
Ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своем прошлом. Все остальное мелко и несущественно. Все остальное лишь унижает достоинство писателя! Хотя растут, возможно, шансы на успех.
Ты ехал не за джинсами и не за подержанным автомобилем. Ты ехал – рассказать. Так помни же о нас…»
Это обычная довлатовская мистификация. Письмо написано самому себе. При включении в «Ремесло» Довлатов редактирует текст; меняет название улицы, где его «вспоминают у пивных ларьков», вставляет фразы об автомобилях и холодильниках из другого газетного эссе.
«Не бывать тебе американцем. И не уйти от своего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскребы… Тебя окружает прошлое. То есть – мы. Безумные поэты и художники, алкаши и доценты, солдаты и зеки».
Рассказчик Довлатов и в Америке жил с глазами, обращенными назад. «Березы, оказывается, растут повсюду. Но разве от этого легче?»
Попытка к бегству не удалась. Другая жизнь в значительной части ушла на то, чтобы рассказать о первой. Заповедник – вопреки всему – так и остался одним из главных хронотопов довлатовского мира. А книга о нем – одной из лучших его книг.
Портрет Павла I на фоне Гатчинского дворца М. Д. Евреинов с оригинала С. С. Щукина. Миниатюра. Ок. 1800.Император в генеральском мундире по форме Преображенского полка с отложным воротником, украшенным введенным в 1800 г. шитьем и витым эполетом на левом плече (знак
Из книги автораГлава 218 Мордехай Каплан (1881–1983). Реконструктивизм. Иудаизм как цивилизация Мордехай Каплан воспитывался как ортодоксальный еврей, прожил большую часть жизни как еврей консервативный и был основателем того, что теперь стало четвертым течением иудаизма -
Из книги автораНа фоне эпохи: Юргис Балтрушайтис[*] Мы до обидного мало знаем о Юргисе Балтрушайтисе. В знаменитом посвящении Бальмонта к первому изданию «Будем как Солнце» он был назван «угрюмым, как скалы». И понятно, что эта характеристика относится не только к поведению в компании.
Из книги автораНа фоне мегаформ Памяти омонимиста и ономаста In the format here, the jokes are given in italics, with the historical and analytic discussion in Roman type… [T]here are many people who will confine themselves strictly to the italic jokes, and will skip all the laborious discussion, the way readers… skip the ‘descriptions’ of scenery… in novels. I only hope there will be no one so unutterably stuffy as to read only the discussion… and to skip
Из книги автора1983 1 январяВ мире существует парадоксальная ситуация, когда миллионы людей живут мирно, но в каждой стране живет группа людей, которая стремится к прямо противоположному. Я спрашиваю самого себя. Существует ли в социальной иерархии черта, за которой исчезнет
Из книги автора10. «Женские образы в творчестве А. С. Пушкина» (Литературно-художественная композиция по творчеству А. С. Пушкина) ЦЕЛИ:1) расширение и углубление знаний о творчестве А. С. Пушкина;2) развитие навыков сценической игры и художественного чтения, воспитание чувства красоты
Из книги автораТурист на фоне города Ольга Бойцова Настоящая статья посвящена разбору фотографических конвенций, которые используются туристами во время прогулки по городу. Статья написана на материале любительских фотографий, наблюдений и интервью, собранных в Санкт-Петербурге
Галина Доброзракова
Галина Александровна Доброзракова (1953) - учитель русского языка и литературы самарской средней школы с углублённым изучением отдельных предметов «Дневной пансион-84».
Пушкинская тема в повести Сергея Довлатова «Заповедник»
П роза Сергея Довлатова относится к эмигрантской литературе “третьей волны”. Видевший смысл своего существования в писательской работе, искавший творческой свободы, Довлатов вынужден был покинуть Советский Союз, но постоянно мечтал вернуться на родину, мечтал “о настоящем читателе, о российской аудитории, об атмосфере родного языка”.
“Главное заключается в том, что эмиграция - величайшее несчастье моей жизни и в то же время - единственный реальный выход, единственная возможность заниматься выбранным делом… От крайних форм депрессии меня предохраняет уверенность в том, что рано или поздно я вернусь домой, либо в качестве живого человека, либо в качестве живого писателя. Без этой уверенности я бы просто сошёл с ума”, - писал Сергей Довлатов в письме к Т.Зибуновой из Нью-Йорка.
Теперь, когда наконец-то произведения писателя вернулись на родину, кажется, что русские читатели знают о нём всё или почти всё - он сам предоставил им такую возможность, будучи одновременно и автором, и персонажем своих книг.
Но, к сожалению, кратковременный интерес со стороны отечественных литературоведов, наблюдавшийся после смерти Сергея Довлатова и публикации его произведений в России в конце 1990-х годов, сменился равнодушием (кроме монографии И.Сухих «Сергей Довлатов: время, место, судьба», сколько-нибудь серьёзных работ, посвящённых феномену его творчества, на родине не появлялось).
В учебниках и учебных пособиях, как правило, встречаются однотипные фразы о простоте и лаконичности довлатовской манеры повествования и о том, что “в прозе Довлатова сочетаются юмор и горечь, озорство и сентиментальность, условность анекдота и фотография документа” (так сам писатель характеризует свой стиль в письме к другу И.Ефимову).
И порой забывается, что творчество Сергея Довлатова находится в русле лучших традиций русской литературы XIX–XX веков, которую он хорошо знал (“чтение - тоже моё литературное дело!” - говорил писатель). О том, как свободно он мог цитировать произведения Пушкина, Гончарова, Чехова, Зощенко, Платонова, отмечали в своих воспоминаниях близкие родственники и друзья Сергея Довлатова.
Сегодня хочется представить творчество писателя в контексте традиций русской классики XIX века и “на этом фоне, с соблюдением масштаба… определить место, занимаемое Довлатовым” (Т.Вольская).
Целесообразно проводить уроки по творчеству Сергея Довлатова для учащихся 11-го класса в конце учебного года с целью не только ознакомления выпускников с произведениями этого автора, но и попутного повторения и обобщения материала, усвоенного при изучении творчества А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. Для знакомства с наследием Сергея Довлатова учащимся предлагается прочитать его повести «Зона» (1982) и «Заповедник» (1983).
Цель урока. Познакомить учащихся с особенностями повести Сергея Довлатова «Заповедник» в контексте традиций творчества А.С. Пушкина.
Перед уроком даются следующие индивидуальные задания.
1. Сообщение о биографии С.Д. Довлатова.
2. Сообщение об истории создания повести «Заповедник».
Дополнительные материалы. Фотография Довлатова в Михайловском (1977) из фотоархива В.Карпова (см.: Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб., 1996. С. 193).
Словарь урока
Автобиографическая повесть - литературный жанр, в основе которого лежит описание собственной жизни; повествование в автобиографической повести, как правило, ведётся от первого лица и сосредоточено на психологических переживаниях, мыслях и чувствах автора.
Аллюзия - стилистическая фигура, намёк посредством сходно звучащего слова или упоминания общеизвестного реального факта, исторического события, литературного произведения.
Эпигон - последователь какого-либо научного, политического, художественного направления, механически повторяющий отжившие идеи своих предшественников. (При объяснении значения этого слова из письма Сергея Довлатова необходимо обратить внимание учащихся на звучащую в нём самоиронию.)
Ход урока
Среди русских много последователей Толстого, Достоевского, Булгакова, Зощенко, но эпигон Пушкина-прозаика - один…
(Сергей Довлатов в письме И.Ефимову. 8 ноября 1984 г.)
Краткое вступительное слово учителя
Сергей Довлатов (1941–1990) является значительной фигурой среди русских беллетристов последнего десятилетия XX века. Писатель творчески сложился в Ленинграде 60–70-х годов и реализовался как художник в Нью-Йорке в 80-е годы. Его книги переведены на основные европейские языки, а также на японский.
Сейчас, когда все произведения Сергея Довлатова изданы на родине, появилась возможность рассмотреть их в контексте традиций русской классической литературы XIX века, прежде всего Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Сам Довлатов мечтал, чтобы о нём говорили как о последователе Пушкина-прозаика.
В повести «Заповедник» Сергея Довлатова пушкинская тема звучит особенно отчётливо, поэтому первый урок по творчеству Довлатова и посвящён этой теме.
Сообщение ученика о биографии Сергея Довлатова
Материалы к сообщению
Сергей Донатович Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе. С 1944 года семья Довлатовых жила в Ленинграде, отец был администратором в театре, мать - актрисой. Но родители вскоре развелись, и мать Нора Сергеевна стала работать корректором. Через сестру матери Мару Довлатову, одного из лучших литературных редакторов Ленинграда, семья Довлатовых была тесно связана с литературной средой.
Окончив школу, Сергей проработал некоторое время на заводе, а затем поступил в ЛГУ, где изучал финский язык. Был отчислен из университета (официально - за неуспеваемость) со второго курса. Оказавшись в армии, служил охранником в лагерях Коми. Этот период жизни описан в первом сборнике рассказов «Зона».
После возвращения из армии Сергей Довлатов работал корреспондентом в многотиражной газете Ленинградского кораблестроительного института «За кадры верфей» и продолжал писать рассказы, обретя самиздатовскую популярность. От упрёков и обвинений в антисоциальном образе жизни его спасла Вера Панова, оформившая Довлатова своим литературным секретарём.
В конце 1960-х годов Довлатов вошёл в ленинградскую литературную группу «Горожане», членами которой были Б.Вахтин, В.Губин, И.Ефимов, В.Марамзин. Объединяло этих авторов приятие городской цивилизации и стремление вернуть литературе изначальное достоинство словесного искусства, праздничного ощущения власти слова.
“Может быть, самое сильное, что нас связывает, - ненависть к пресному языку…” - записано в манифесте «Горожане о себе».
В 1974 году Сергей Довлатов переехал в Таллин, где сотрудничал в газетах «Советская Эстония» и «Вечерний Таллин». Писал рецензии для журналов «Нева» и «Звезда». Произведения Довлатова-прозаика в СССР не издавались.
В 1978 году, в разгар антидиссидентских акций со стороны властей, Довлатов вынужден был покинуть Советский Союз и эмигрировать сначала в Вену, затем в США, где стал одним из основателей русскоязычного еженедельника «Новый американец». С 1980 по 1982 год был его главным редактором; в пик популярности тираж газеты доходил до 11 тысяч экземпляров.
В США проза Сергея Довлатова получила широкое признание, публиковалась в известнейших газетах и журналах. Он стал вторым после В.Набокова русским писателем, печатавшимся в журнале «Нью-Йоркер».
Буквально через пять дней после его смерти в России была сдана в набор повесть «Заповедник», ставшая первым значительным произведением писателя, изданным на родине.
Основные произведения Сергея Довлатова: «Зона» (1964–1982), «Невидимая книга» (1978), «Соло на ундервуде. Записные книжки» (1980), «Компромисс» (1981), «Заповедник» (1983), «Наши» (1983), «Марш одиноких» (1985), «Ремесло» (1985), «Чемодан» (1986), «Иностранка» (1986).
В основе всех произведений Довлатова - факты и события из биографии писателя.
Сообщение ученика об истории создания повести «Заповедник»
Материалы к сообщению
Повесть «Заповедник» (1983) - первое произведение Сергея Довлатова с единым сюжетом - обладает всеми признаками автобиографической прозы с присущим ей типом повествования от первого лица и установкой на достоверность, которая находит своё подтверждение в том, что в 1976–1977 годах С.Д. Довлатов действительно работал экскурсоводом в музее-заповеднике А.С. Пушкина в Псковской области. Это и послужило импульсом к созданию произведения, в котором Пушкинский заповедник представлен автором как миниатюрная модель России советского периода.
Как известно, в нашей стране со времён существования Советского Союза, когда почитание избранных классиков было политикой, обязанностью, сохранилось несколько музеев А.С. Пушкина: в Москве, в Петербурге, в Болдине, в Михайловском и в Царском Селе.
Ещё в 1961 году появилось стихотворение Д.Самойлова «Дом-музей», в котором поэт с иронией пишет о том, что экскурсоводы озабочены показом вещей, а не стремлением рассказать о творчестве поэта.
Заходите, пожалуйста. Это
Стол поэта. Кушетка поэта.
Книжный шкаф. Умывальник. Кровать.
Это штора - окно прикрывать…
........................................
Здесь он умер. На том канапе
Перед тем прошептал изреченье
Непонятное: “Хочется пе…”
То ли песен? А то ли печенья?
Кто узнает, чего он хотел,
Этот старый поэт перед гробом!
Смерть поэта - последний раздел.
Не толпитесь перед гардеробом…
Таким образом, Д.Самойлов предвосхищает один из главных мотивов довлатовского произведения - мотив подмены реальных духовных ценностей ненужными поддельными вещами. Но тот же Самойлов в своём дневнике записывает: “…Мы полдня… бродили по Михайловскому, ездили в Тригорское и Петровское. Несколько раз вышибало слезу”.
Родовое Михайловское и Пушкинские Горы в системе заповедников всегда были на особом счету. Почти не изменившийся пейзаж, восстановленный после разрушения в годы Великой Отечественной войны дом, относительная близость к обеим российским столицам сделали Пушкинские Горы местом паломничества.
Об этих местах немало было написано и до появления повести Сергея Довлатова. С начала 70-х годов несколько раз переиздавалась значительным тиражом книга «У Лукоморья. Рассказы хранителя Пушкинского заповедника» С.С. Гейченко. В 1981 году было опубликовано его произведение «Пушкиногорье».
Семён Степанович писал о заповеднике поэтически: “Без вещей Пушкина, без природы пушкинских мест трудно понять до конца его жизнь и творчество… Сегодня вещи Пушкина - в заповедниках и музеях. Здесь они живут особой, таинственной жизнью, и хранители читают скрытые в них письмена… Когда будете в Михайловском, обязательно пойдите как-нибудь вечером на околицу усадьбы, станьте лицом к маленькому озеру и крикните громко: «Александр Сергеевич!» Уверяю вас, он обязательно ответит: «А-у-у! Иду-у!»”.
Ю.М. Нагибин, побывав в 1964 году в родовом имении А.С. Пушкина, тоже оставил восторженную запись: “Как же там [в Пушкинских Горах] хорошо, нежно и доподлинно!.. Опять заросший пруд в окружении высоченных мачтовых сосен… Опять тихие плоские озёра и плавающие на их глади непуганые дикие утки и жемчужно-земные, щемяще родные дали, в которые глядел Пушкин”.
Но через пятнадцать лет (20 июля 1979 год) взгляд его меняется: “Были в Тригорском и во вновь отстроенном Петровском: вотчине Ганнибалов. От последнего осталось двойственное впечатление: само здание достаточно убедительно, но набито, как комиссионный магазин, чем попало: павловские прелестные стулья и современный книжный шкаф, великое множество буфетов, даже в коридорах; подлинных вещей почти нет”.
Эту тему и продолжает Сергей Довлатов в повести «Заповедник». В письмах, написанных другу И.Ефимову из Нью-Йорка в период работы над произведением, Сергей Довлатов отразил все этапы этой работы вплоть до оформления обложки. В одном из писем автор сам объяснил, что в названии использована метафора: “заповедник, Россия, деревня, прощание с родиной”.
Исследовательская работа
Ответы учащихся на вопросы по тексту повести с комментариями учителя.
Опираясь на высказывание Сергея Довлатова (“…Я… склоняюсь к более общей… метафоре - заповедник, Россия, деревня, прощание с родиной”), объяснить смысл названия произведения.
Выясняем, что заглавие повести «Заповедник» имеет следующие значения.
- Пушкинские Горы - родовое имение А.С. Пушкина, место, где работал экскурсоводом автор произведения и его герой Борис Алиханов.
- Миниатюрная модель России.
- Какой предстаёт жизнь в пушкинских местах? Как она отражает российскую действительность того времени?
Пошлость жизни в заповеднике проявляется в ложном восприятии А.Пушкина. И хотя во всём заповедном пространстве царит культ личности поэта, нет его истинного понимания и настоящего знания его творчества.
Так, облик поэта узнаётся только по знаменитым бакенбардам, тросточке и цилиндру. Изображения Пушкина встречаются на каждом шагу, “даже возле таинственной будочки с надписью «Огнеопасно!». Сходство исчерпывалось бакенбардами. Размеры их варьировались произвольно”. Эта цитата, где “бакенбарды” выступают как основная черта внешности Пушкина, перекликается с цитатой из эссе А.Терца «Прогулки с Пушкиным», в котором ирония по отношению к Пушкину звучит достаточно отчётливо: “Помимо величия, располагающего к почтительным титулам, за которыми его лицо расплывается в сплошное популярное пятно с бакенбардами, - трудность заключается в том, что ведь он абсолютно доступен и непроницаем, загадочен в очевидной доступности истин, им провозглашённых, не содержащих, кажется, ничего такого особенного…”
С одной стороны, как отмечает Довлатов, исполнилось пророчество: “Не зарастёт народная тропа!..” С другой стороны - “Где уж ей, бедной, зарасти. Её давно вытоптали эскадроны туристов”. Огромное количество туристов ещё не свидетельствовало о любви к личности и творчеству Пушкина. “Туристы приехали отдыхать… Местком навязал им дешёвые путевки. К поэзии эти люди в общем-то равнодушны… Им важно ощущение - я здесь был”. Экскурсанты отличаются вопиющим невежеством: они задают глупые вопросы о том, почему была дуэль между Пушкиным и Лермонтовым, не могут сообразить, какое отчество было у сыновей Александра Сергеевича, и принимают стихотворение С.Есенина за стихотворение А.С. Пушкина.
Как рассказывает Е.Рейн в своих воспоминаниях «Мне не хватает Довлатова», опубликованных в журнале «Огонёк» в августе 1995 года, похожая сцена действительно имела место: “Мы пошли в Михайловское, его уже ждала группа экскурсантов, как оказалось, учителей Московской области. Довлатов повёл их к домику няни, я пристроился в хвосте.
Перед домиком Арины Родионовны он остановился, экскурсанты окружили его. «Пушкин очень любил свою няню, - начал Довлатов. - Она рассказывала ему сказки и пела песни, а он сочинял для неё стихи. Среди них есть всем известные, вы их, наверное, знаете наизусть». «Что вы имеете в виду?» - спросил кто-то робко. «Ну, вот, например, это… “Ты жива ещё, моя старушка?”» И Сергей с выражением прочитал до конца стихотворение Есенина. Я с ужасом смотрел на него. Совсем незаметно, чуть опустив веко, он подмигнул мне. Экскурсанты безмолвствовали”.
Работники заповедника постоянно повторяют: “Пушкин - наша гордость!.. Это не только великий поэт, но и великий гражданин…” “Любовь к Пушкину была здесь самой ходовой валютой”. “Все служители пушкинского культа были на удивление ревнивы. Пушкин был их коллективной собственностью, их обожаемым возлюбленным, их нежно лелеемым детищем”, но сами работники заповедника являлись, как правило, в чём-то людьми ущербными: “бухгалтер, методист, экскурсоводы” - одинокие девушки, мечтающие только о том, как бы выйти замуж, лентяй Митрофанов - человек эрудированный, но слабовольный, псевдолитератор Потоцкий - бездарь и пьяница.
Вторая сторона жизни в заповеднике - кругом царят ложь и обман: “Туристы желают видеть Ганнибала. Они за это деньги платят. На фига им Закомельский? Вот наш директор и повесил Ганнибала… Точнее, Закомельского под видом Ганнибала!”; “…Аллея Керн - это выдумка Гейченко. То есть аллея, конечно, имеется. Обыкновенная липовая аллея. А Керн тут ни при чём. Может, она близко к этой аллее не подходила”.
Итак, в заповеднике царят пошлость и обман. Заповедник - олицетворение Советского Союза, значит, во всей стране - пошлость и обман.
- Проследите, как развивается в повести мотив подмены подлинных ценностей фальшивыми.
Мотив подмены реальных духовных ценностей ненужными вещами развивается постепенно и проходит через всё произведение: сначала он проявляется во внутреннем авторском монологе (“…страсть к неодушевлённым предметам раздражает меня”), затем даётся “иллюстрация” к рассуждениям автора (встреча с тирольцем-филокартистом, который сверяет изображённые на открытке “псковские дали” с реальными “далями”), и, наконец, следует разоблачение обмана.
“- Можно задать один вопрос? Какие экспонаты музея - подлинные?
Разве это важно?
Мне кажется - да. Ведь музей - не театр <...>
Что конкретно вас интересует? Что вы хотели увидеть?
Ну, личные вещи… Если таковые имеются…
Личные вещи Пушкина?.. Музей создавался через десятки лет после его гибели…
Так, - говорю, - всегда и получается. Сперва угробят человека, а потом начинают разыскивать его личные вещи…”
- Как связан период жизни в заповеднике с судьбой автобиографического героя?
Борис Алиханов приезжает в пушкинские места, чтобы подработать и обдумать свою дальнейшую жизнь, которая “расстилалась вокруг необозримым минным полем” (его рассказы, которые он пишет в течение двадцати лет, не печатают, семья разрушена).
Несмотря на автобиографичность описываемых событий, Довлатов сочетает документальность с фикциональностью. Так, известно, что автору, когда он работал в Пушкинских Горах, было 36 лет, но в повести Борису Алиханову - 31 год (в заповеднике он появляется после своего “тридцатилетия, бурно отмечавшегося в ресторане «Днепр»”). Как мы помним, именно 31 год было Пушкину в период знаменитой болдинской осени. Совпадение это неслучайное. Так возникает параллель: Алиханов - Пушкин.
Алиханов выступает как художник, чей талант не признан современниками, но он постоянно твердит себе: “У Пушкина тоже были долги и неважные отношения с государством. Да и с женой приключилась беда. Не говоря о тяжёлом характере…
И ничего. Открыли заповедник. Экскурсоводов - сорок человек. И все безумно любят Пушкина… Спрашивается, где вы были раньше?.. И кого вы дружно презираете теперь?..”
В повести, как видим, развивается ещё один литературный мотив - мотив отношения к писателю современников и потомков; размышляя о трагической судьбе и одиночестве не признанного при жизни гения, Сергей Довлатов угадывает и свою посмертную судьбу.
В Пушкиногорье Б.Алиханов занимается чтением редких литературоведческих книг о Пушкине, старается осознать особенности его творчества. “Больше всего меня заинтересовало олимпийское равнодушие Пушкина. Его готовность принять и выразить любую точку зрения. Его неизменное стремление к последней высшей объективности”; “Его литература выше нравственности. Она побеждает нравственность и даже заменяет её. Его литература сродни молитве, природе…”
В этих строках Сергея Довлатова - пушкинская цитата, написанная рукой поэта на полях статьи Вяземского «О жизни и сочинениях В.А. Озерова», где автор утверждает: “Трагик не есть уголовный судия”. И Пушкин пишет на полях: “Прекрасно!” Но затем критик продолжает в назидательном тоне: “Обязанность его и всякого писателя есть согревать любовию к добродетели и воспалять ненавистию к пороку”. А Пушкин отзывается: “Ничуть! Поэзия выше нравственности - или, по крайней мере, совсем иное дело… Господи Иисусе! Какое дело поэту до добродетели и порока? Разве их одна поэтическая сторона?”
На вопрос о том, какова цель поэзии, Пушкин отвечает: “Вот на! Цель поэзии - поэзия”.
Пушкинские цитаты неоднократно звучат в довлатовском тексте. Не мыслящий своего существования без литературного творчества, герой приходит к выводу: “Но твоё дело - слово”, повторяя при этом слова Пушкина, известные в передаче Гоголя: “Слова поэта - суть его дела”.
- Какие аллюзии к пушкинским текстам встречаются в повествовании?
А.Генис в статье «Пушкин» пишет, что довлатовская повесть “вся пронизана пушкинскими аллюзиями, но встречаются они в нарочито неожиданных местах”. Например, реплика кокетничающей с героем экскурсовода Натэллы: “Вы человек опасный” - буквально повторяет слова Доны Анны из «Каменного гостя». “Оттуда же в довлатовскую книгу пришёл его будущий шурин. Сцена знакомства с ним пародирует встречу Дон Гуана с командором: «Над утёсами плеч возвышалось бурое кирпичное лицо <...> Лепные своды ушей терялись в полумраке <...> Бездонный рот, как щель в скале, таил угрозу <...> Я чуть не застонал, когда железные тиски сжали мою ладонь»”.
Литературовед И.Сухих отмечает сходство между Михал Иванычем и Архипом-кузнецом из «Дубровского». “Архип-кузнец безжалостно, «с злобной улыбкой», сжигает в запертом доме приказных-подьячих, но, рискуя жизнью, спасает бегающую по горящей крыше кошку («божия тварь погибает»). В Михале Иваныче это странное сочетание жестокости и доброты повторяется в тех же деталях (запертый дом, кошка), но с переменным знаком. Повесив кошек и похвалив немцев, расстрелявших в войну евреев и цыган («Худого, ей-богу, не делали. Жидов и цыган - это как положено…»), он деликатно не хочет разбудить достойного квартиранта в собственном доме”.
Женские имена, по мнению И.Сухих, тоже выбраны Довлатовым неслучайно: Маша (дочь) - имя героини повести «Капитанская дочка»; Таня (жена) - имя героини романа «Евгений Онегин».
Заключительное слово учителя
Размышления о судьбе Пушкина, об особенностях его творчества и значение его для русской литературы волновали Сергея Довлатова в течение всей жизни. В своём выступлении «Блеск и нищета русской литературы» писатель по достоинству оценил роль Пушкина: “…Если считать, что русская литература началась с Пушкина, то это начало было чрезвычайно многообещающим и удачным”. “Чистый эстетизм” Пушкина был одним из главных ориентиров для писателя Сергея Довлатова.
Спонсор публикации статьи: компания «Макслевел», которая через собственную сеть магазинов сантехники в Москве реализует широкий ассортимент товаров, предназначенных для того, чтобы сделать Вшу ванную комнату современной, стильной и комфортной. В салонах «Макслевел», расположенных в разных районах города, а также на сайте компании по адресу: santech.maxlevel.ru всегда в наличии огромный выбор ванн и душевых кабин, смесителей и полотенцесушителей, мебели и аксессуаров для ванных комнат. Менеджеры и консультанты компании всегда готовы оказать помощь в выборе необходимого оборудования и ответить на все вопросы клиентов, а специалисты сервисного центра установят и подключат ванны, душевые кабины, сауны и мини бассейны, осуществят монтаж мебели для ванных комнат и другой сантехники с их последующим гарантийным и постгарантийным обслуживанием.
Литература для учителя
- Генис А. Пушкин // Сергей Довлатов. Последняя книга. СПб., 2001. С. 323–340.
- Довлатов С. Блеск и нищета русской литературы. Собр. соч.: В 4 т. СПб., 2004. Т. 4. С. 351–366.
- Сергей Довлатов - Игорь Ефимов. Эпистолярный роман. М., 2001.
- Сухих И.Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб., 1996.
- Тудоровская Е.А. Путеводитель по «Заповеднику» // Звезда. 1994. № 3. С. 193–199.
Повесть о мытарствах неподцензурного советского литератора в пушкинском заповеднике в Михайловском, который у Довлатова становится метафорой всего советского общества.
комментарии: Полина Рыжова
О чём эта книга?
Середина 1970-х. Борис Алиханов, пьющий писатель-неудачник из Ленинграда, приезжает на лето в Пушкинские Горы подработать экскурсоводом. Повесть, основанная на личном опыте Довлатова, выглядит как серия анекдотических историй, но в центре её — мучительный экзистенциальный кризис человека, увязшего в проблемах с семьёй, алкоголем и самооценкой. Для самого автора эта книга стала прощанием с Советским Союзом.
Сергей Довлатов на фоне Дома печати в Таллине. 1974 год
Когда она написана?
Первые наброски «Заповедника» Довлатов сделал в Ленинграде в 1976-1977 годах, по следам работы в пушкиногорском экскурсионном бюро. К тому времени он — полузапрещённый советский писатель с сомнительными журналистскими перспективами (в 1976 году его исключили из Союза журналистов СССР). Зато тексты Довлатова появляются в эмигрантских журналах, а в 1977 году американское издательство Ardis Publishing Американское издательство, выпускавшее русскую литературу на языке оригинала и в английском переводе. Было основано славистами Карлом и Эллендеей Проффер в Анн-Арборе, штат Мичиган, в 1971 году. Издательство выпускало как современную неподцензурную литературу (Иосифа Бродского, Сашу Соколова, Василия Аксёнова), так и тексты, не издававшиеся в СССР (Михаила Булгакова, Марину Цветаеву, Андрея Платонова). В 2002 году часть каталога и права на название Ardis были проданы, с этого времени книги на русском языке в нём не выпускались. выпускает его дебютный сборник «Невидимая книга». Работу над «Заповедником» Довлатов продолжил уже в эмиграции — основная часть текста была написана в Вене, где он жил с августа 1978 года по февраль 1979 года, до переезда в США. В Нью-Йорке Довлатов несколько раз переписывает повесть, в июне 1983 года готов её финальный вариант. Писателя в это время настигает литературный успех в Америке (уже три его рассказа напечатаны в журнале The New Yorker), но при этом выбивает из колеи судебная тяжба, связанная с закрытием газеты «Новый американец» Еженедельная газета, выпускавшаяся в Нью-Йорке на русском языке с 1980 по 1982 год. Главным редактором газеты был Сергей Довлатов, в редакции работали также Александр Генис и Пётр Вайль. Тираж доходил до 11 тысяч экземпляров. «Новый американец» вынужден был закрыться из-за финансовых проблем — издатели не смогли выплатить взятый на открытие газеты кредит. и невыплатой взятой на неё ссуды.
Дом Сергея Довлатова в деревне Берёзино, Псковская область
Как она написана?
Стиль повести — как будто разговорный и непритязательный. Однако внешняя простота довлатовской прозы и рождаемое ей ощущение «языкового комфорта» 1 Сухих И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб.: Азбука, 2010. С. 8. — следствие кропотливой работы. Известно, что Довлатов для достижения стилистического изящества искусственно ограничивал себя: например, не использовал в одном предложении слова, начинающиеся на одну и ту же букву. В тексте «Заповедника» много воздуха, во многом этот эффект достигается благодаря особенностям авторской пунктуации — точкам Довлатов предпочитает многоточия, размывающие любую определённость 2 Генис А. Довлатов и окрестности. М.: Corpus, 2011. C. 183. . Иосиф Бродский отмечал , что Довлатов, вопреки расхожему мнению, прежде всего не талантливый рассказчик, а замечательный стилист. Его тексты держатся на «ритме фразы», «каденции авторской речи» и написаны на манер стихотворений: «Это скорее пение, чем повествование».
Всем ясно, что у гениев должны быть знакомые. Но кто поверит, что его знакомый — гений?!
Сергей ДовлатовЧто на неё повлияло?
Это и популярная у шестидесятников американская проза (О. Генри, Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер, Джон Дос Пассос, Джон Апдайк, Томас Вулф), и русский фельетон (Аркадий Аверченко, Юрий Олеша, Михаил Булгаков), и ОБЭРИУ (Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий), и андеграундная ленинградская школа ( Владимир Марамзин Владимир Рафаилович Марамзин (род. 1934) — писатель. Участник ленинградской литературной группы «Горожане», один из авторов одноимённого машинописного сборника. Вместе с Михаилом Хейфецем и Ефимом Эткиндом работал над самиздатовским собранием сочинений Бродского, из-за чего в 1974 году был арестован, осуждён условно, а затем получил разрешение на эмиграцию. Жил в Париже, издавал литературные журналы «Континент» и «Эхо». Ленинградский приятель Марамзина Сергей Довлатов назвал его «Карамзиным эпохи маразма». , Владимир Уфлянд Владимир Иосифович Уфлянд (1937-2007) — поэт, писатель, художник и переводчик. Работал грузчиком и рабочим-оформителем в Эрмитаже, делал дубляж для Ленфильма. Печатался в советском самиздате и за рубежом — в журналах «Обводный канал», «Часы», «Митин журнал», «Синтаксис». Вместе с поэтами Михаилом Ерёминым, Леонидом Виноградовым и Сергеем Кулле входил в поэтическое объединение, ставшее известным как филологическая школа. Первая книга стихов Уфлянда вышла в США в 1978 году. , Сергей Вольф Сергей Евгеньевич Вольф (1935-2005) — поэт, прозаик и детский писатель. В 60-х Вольф писал рассказы и стихи, распространявшиеся в самиздате, был близок к кругу Андрея Битова, Валерия Попова, Сергея Довлатова. Одновременно Вольф писал прозу для подростков. После распада Советского Союза опубликовал две книги стихов, «Маленькие боги» и «Розовощёкий павлин». ). Наиболее близки Довлатову рассказы Михаила Зощенко и Антона Чехова. С зощенковской прозой мир Довлатова роднят абсурдные бытовые драмы, внешне непримечательные герои-обыватели и равный им рассказчик, с чеховской — анекдотичность сюжетных коллизий, любовь к простым односоставным предложениям, обилие диалогов. На Чехова в своих «Записных книжках» указывал и сам Довлатов: «Можно благоговеть перед умом Толстого. Восхищаться изяществом Пушкина. Ценить нравственные поиски Достоевского. Юмор Гоголя. И так далее. Однако похожим быть хочется только на Чехова».
Впервые «Заповедник» опубликован в 1983 году в американском издательстве Hermitage Publishers, основанном Игорем Игорь Маркович Ефимов (1937) — писатель, философ, публицист. В СССР был членом Союза писателей, выпускал повести и рассказы для детей. Вместе с Борисом Вахтиным, Владимиром Губиным и Владимиром Марамзиным входил в ленинградскую литературную группу «Горожане». В 1978 году Ефимов эмигрировал в Америку. В эмиграции сначала работал в издательстве Ardis Publishing, затем вместе с женой открыл собственное издательство Hermitage Publishers, выпускавшее неподцензурную советскую литературу. Ефимов — автор романов, философских трудов, воспоминаний об Иосифе Бродском, Сергее Довлатове, книги об убийстве Джона Кеннеди. и Мариной Ефимовыми Марина Михайловна Ефимова (урождённая Рачко; 1937) — писательница, радиоведущая. Работала на Ленинградском радио. В 1978 году вместе с мужем Игорем Ефимовым эмигрировала в Америку, в 1981 году пара открыла в Мичигане своё издательство Hermitage Publishers. С конца 1980-х Ефимова вела передачи на радио «Свобода», одну из них делала вместе с Сергеем Довлатовым. В 1990 году вышла повесть Ефимовой «Через не могу». , друзьями Довлатова и бывшими редакторами издательства Ardis Publishing. В СССР «Заповедник» вышел в издательстве «Васильевский остров» в 1990 году, практически сразу после смерти автора: это была первая книга Довлатова, опубликованная на родине. В 1993 году повесть вошла в трёхтомное собрание сочинений Довлатова, подготовленное писателем Андреем Арьевым и оформленное одним из основателей ленинградской арт-группы «Митьки» Неформальное творческое объединение, сложившееся в 1980-е годы в Ленинграде. Получило название в честь одного из её участников Дмитрия Шагина. Среди основных принципов арт-группы — доброта, предельная простота, любовь к уменьшительно-ласкательным суффиксам и крепкому алкоголю. В 1984 году участник объединения Владимир Шинкарёв выпустил в самиздате книгу о митьках, которая принесла им широкую популярность. В 1992 году вышел мультфильм о митьках, начала издаваться «Митьки-Газета» Александром Флоренским. На протяжении нескольких лет собрание было переиздано трижды (и расширилось до четырёх томов), а его общий тираж составил 150 тысяч экземпляров. Писатель Валерий Попов Валерий Георгиевич Попов (1939) — писатель, сценарист. Работал инженером, начал печататься с 1965 года. В советское время был известен прежде всего как детский писатель. Попов — автор нескольких десятков романов и повестей, киносценариев, книг о Лихачёве, Довлатове и Зощенко. Председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, президент Санкт-Петербургского отделения Русского ПЕН-клуба, член редколлегии журналов «Звезда» и «Аврора». вспоминал, что из современных писателей в 1990-е такие тиражи были только у Довлатова: «Он заменил собой всех нас» 3 Попов В. Г. Довлатов. М.: Молодая гвардия, 2010. .
Иллюстрация Александра Флоренского в трёхтомном собрании сочинений Довлатова. Издательство «Лимбус-Пресс». Москва, 1993 год
Первое издание «Заповедника». Издательство Hermitage Publishers. Анн-Арбор, 1983 год
Как её приняли?
В эмиграции «Заповедник» восприняли прежде всего как попытку Довлатова объяснить, почему он уехал из СССР, а также как ещё одно свидетельство его быстро растущего литературного влияния — в один год с «Заповедником» опубликованы сборники «Наши», «Марш одиноких», дополненное переиздание «Соло на ундервуде», ещё шумит изданная годом ранее «Зона». В письме Довлатову повесть горячо хвалит матриарх русской литературной эмиграции писательница Нина Берберова Нина Николаевна Берберова (1901-1993) — писательница, поэтесса. Эмигрировала вместе с Владиславом Ходасевичем в 1922 году, спустя десять лет пара разошлась. Берберова писала для эмигрантских изданий «Последние новости» и «Русская мысль», публиковала романы и циклы рассказов. В 1936 году выпустила ставшую популярной литературную биографию Чайковского. В 1950 году переехала в США, где преподавала в университетах русский язык и литературу. В 1969 году вышла книга воспоминаний Берберовой «Курсив мой». : «…По-своему «Заповедник» — шедевр: как я рада, что я — не Пушкин!» В 1985 году эмигрантский журнал «Грани» опубликовал первую большую статью о Довлатове, написанную литературоведом Ильёй Серманом Илья Захарович Серман (1913-2010) — литературовед. Участвовал в Великой Отечественной войне, преподавал литературу в Ленинградском педагогическом институте им. Герцена. В 1949 году был осуждён за антисоветскую пропаганду, отбывал заключение в Магаданской области. В 1954 году был амнистирован и смог вернуться в Ленинград. После эмиграции дочери его уволили из Института русской литературы, и Серман был вынужден уехать в Израиль, где стал профессором кафедры русской и славянской филологии Еврейского университета в Иерусалиме. . Ссылаясь на коллег-критиков, Серман отмечал — Довлатов «как червонец. Всем нравится» 4 .
В Россию литературное наследие Довлатова вернулось в начале 1990-х, сразу и почти целиком. Писательница Людмила Штерн сравнивала его популярность на рубеже веков с популярностью Высоцкого в 1960-70-е годы, а количество мемуаров, опубликованных за короткий срок после смерти писателя, назвала «почти беспрецедентным в русской литературе» 5 Штерн Л. Довлатов — добрый мой приятель. СПб.: Азбука, 2005. C. 12. . С годами интерес к Довлатову, поначалу казавшийся скоротечным, не угас, — по выражению литературоведа Игоря Сухих, «вспышка» интереса скорее превратилась в «ровное горение». В 2015 году Станислав Говорухин выпустил фильм «Конец прекрасной эпохи», основанный на нескольких рассказах «Компромисса», спустя несколько лет фильм о Довлатове представил Алексей Герман-младший. В одном только 2018 году по «Заповеднику» поставлен спектакль в Студии театрального искусства Сергея Женовача и снят фильм Анны Матисон с Сергеем Безруковым в главной роли, в нём действие повести перенесено в наши дни. В честь «Заповедника» назван довлатовский фестиваль искусств, организованный в Псковской области режиссёром Дмитрием Месхиевым. В Михайловском, где работал Довлатов, запущен отдельный экскурсионный маршрут, посвящённый «Заповеднику». В Петербурге, на улице Рубинштейна, Довлатову поставили памятник.
Фильм «Довлатов». Режиссёр Алексей Герман-младший. 2018 год
Насколько точно в «Заповеднике» изображён пушкинский музей-заповедник?
Довлатов оказался в музее-заповеднике благодаря писателям Андрею Арьеву Андрей Юрьевич Арьев (1940) — литературовед, прозаик. Работал в Лениздате, экскурсоводом в музее-заповеднике «Михайловское», был консультантом отдела прозы в журнале «Звезда», позднее — заместителем главного редактора. В 1991 году вместе с Яковом Гординым возглавил журнал. Арьев — составитель собрания сочинений Довлатова, автор книги воспоминаний о нём. и — Михайловское в то время часто служило пристанищем для ленинградских интеллектуалов, там можно было хорошо подзаработать (около 8 рублей за экскурсию, в месяц приблизительно 200-250 рублей) и провести лето на природе. Герой Довлатова Борис Алиханов приезжает в заповедник из похожих соображений, но вместо девственного мира русской классики обнаруживает театральные декорации, где за дух «пушкинских мест» отвечают войлочные бакенбарды привокзального официанта. На вопрос Алиханова, что в заповеднике подлинное, хранительница музея отвечает уклончиво («Здесь всё подлинное. Река, холмы, деревья — сверстники Пушкина. Его собеседники и друзья. Вся удивительная природа здешних мест…»), из-за чего Алиханов устраивает ей маленький комический допрос.
Заповедник «Михайловское» и правда не мог похвастаться подлинными музейными предметами: усадьбы Михайловское, Петровское и Тригорское были разграблены и сожжены во время революции, к 100-летию со дня смерти Пушкина дом-музей восстановили, но в войну заповедник опять понёс потери — пострадали здания усадеб, парки, постройки Святогорского монастыря, была повреждена могила Пушкина. Возрождением музейного комплекса после войны занимался пушкинист Семён Степанович Гейченко — усадьбу Петровское, родовое имение Ганнибалов, смогли восстановить только к 1977 году, как раз в это время в заповеднике работал Довлатов.
Я думаю, любовь к берёзам торжествует за счёт любви к человеку. И развивается как суррогат патриотизма
Сергей Довлатов
В «Заповеднике» Алиханов узнаёт, что «аллея Керн» не имеет к возлюбленной Пушкина Анне Петровне никакого отношения, а на портрете пушкинского прадеда Абрама Петровича Ганнибала, висевшем в музее, на самом деле изображён сильно загоревший русский генерал. Ощущение подделки было и у современников Довлатова — случай с картиной, например, описывается в «Дневнике» Юрия Нагибина: «А липа вокруг Гейченко растёт и ширится. Здесь доподлинно установили, что знаменитый портрет арапа Петра Великого, подлинник которого висит в Третьяковке, на самом деле изображает какого-то русского генерала, загоревшего на южном солнце. <…> Гейченко хочется иметь в Петровском портрет арапа Петра Великого, и всё! Впрочем, одной липой больше, одной меньше в проституированном мемориале — какое имеет значение?»
В довлатовской повести директор музея-заповедника тоже упоминается («это выдумка Гейченко»; «дурацкие затеи товарища Гейченко»), но он не единственный, кто виноват в окружающей фальши: она здесь практически разлита в воздухе. И музейные работники, и экскурсоводы, и туристы, рассуждая о Пушкине, говорят цитатами из плохих школьных сочинений, место живой речи занимают штампы о «великом поэте» и «великом гражданине». Довлатов, вскипавший, по воспоминаниям друзей, от самых невинных трюизмов, превращает банальности обитателей пушкинского заповедника в материал для многочисленных язвительных шуток. Закономерно, что и сардонический Алиханов вскоре после приезда в заповедник бросает допрашивать бедных музейных работниц и тоже заражается интеллектуальной апатией («Я механически исполнял свою роль, получая за это неплохое вознаграждение»). Искусственность ощущается не только в заповеднике — псковский Кремль напоминает главному герою макет, в близлежащей деревне Сосново, где он живёт, бродят «одноцветные коровы, плоские, как театральные декорации». Довлатовский заповедник, не случайно вынесенный в заглавие повести, не умещается в границах реального пушкинского заповедника. Он становится метафорой всей советской страны.
Семён Гейченко, директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». 1983 год
Рудольф Кучеров/РИА «Новости»
Борис Алиханов — это Сергей Довлатов?
Борис Алиханов пришёл в «Заповедник» из довлатовской «Зоны», также он упоминается в качестве второстепенного персонажа «Компромисса»: «А вот приходил на днях один филолог со знакомой журналисткой… Или даже, кажется, переводчик. Служил, говорит, надзирателем в конвойных частях… Жуткие истории рассказывал… Фамилия нерусская — Алиханов. Бесспорно, интересный человек… <…> Это был огромный молодой человек с низким лбом и вялым подбородком. В глазах его мерцало что-то фальшиво неаполитанское». Алиханов, как мы видим, частично повторяет и биографию Довлатова (писатель три года служил охранником в исправительной колонии в Республике Коми), и его внешность. замечал, что все главные герои довлатовских текстов похожи на автора: «Мы всегда помним, что рассказчик боится задеть головой люстру» 6 Генис А. Довлатов и окрестности. М.: Corpus, 2011. C. 157. . В «Заповеднике» Алиханов вроде бы детально воспроизводит реальную историю Довлатова, но есть в их опыте и значимые различия: Алиханов, к примеру, проводит в Пушкинских Горах всего несколько летних месяцев, в то время как Довлатов приезжал работать туда два года подряд, Алиханову в повести 31 год, Довлатову в его первое лето в Михайловском было 34. По одной из версий, Довлатов намеренно сделал своего героя ровесником Пушкина времён Болдинской осени.
Практически все главные довлатовские книги написаны от первого лица, многие из них — от лица Сергея Довлатова (например, «Компромисс», «Наши», «Ремесло», «Чемодан»), но даже в этом случае мы говорим не о самом авторе, а об авторе-персонаже, некоем художественно округлённом образе. Тот факт, что герою «Заповедника» Довлатов даёт фамилию Алиханов, а не свою собственную, может говорить о желании автора дистанцироваться от рассказчика и придать истории о загнанном в угол писателе более универсальный характер. В письме издателю «Заповедника» Игорю Ефимову Довлатов писал: «Я бы охотно изобразил Бродского, но мне не дотянуться до его внутреннего мира, поэтому ограничусь средним молодым автором». В «Заповеднике» Довлатов пишет не о себе, он скорее передаёт собственный опыт похожему на него персонажу.
Почему для героя так важен статус писателя?
Алиханова терзают не муки творчества, а переживания другого рода: его в Советском Союзе не печатают, как не печатали и Довлатова. Ему хочется зарабатывать на жизнь литературой, а не развлекать туристов заученными фактами о Пушкине, однако пробиться в эшелон официально признанных писателей для Алиханова (как и для Довлатова) практически невозможно. В «Заповеднике» язвительно обозревается состояние современной советской литературы: успеха добиваются либо халтурщики, чьи тексты защищает от цензуры «надёжная броня литературной вторичности» («У писателя Волина ты обнаружил: «...Мне стало предельно ясно...» И на той же странице: «...С беспредельной ясностью Ким ощутил...»), либо патетичные деревенщики («Между делом я прочитал Лихоносова. <…> …В основе — безнадёжное, унылое, назойливое чувство. Худосочный и нудный мотив: «Где ты, Русь?! Куда всё подевалось?»). Алиханов интуитивно пытается примерить на себя обе роли, но, как педант и циник, терпит поражение.
Отсутствие официального статуса писателя, с одной стороны, мучает героя и заставляет его постоянно сомневаться в собственных способностях, с другой — именно это служит своеобразной гарантией его таланта. Анатолий Найман вспоминал , что советское литературное подполье страдало не только от политического давления, но ещё и от непонимания, кто чего в реальности заслуживает: «Как правило, по гамбургскому, то есть по независимому от лежащих вне искусства обстоятельств и мотивов, по чистому счёту выходило, что ты — гений и что ближайшие твои друзья гениальны, потому что вы, ваша компания — это компания гениев. Минутами, правда, налетал ледяной ветерок отчаяния, зарождавшийся от сомнения: а вдруг твой талант не оценён не потому, что публике недоступна гениальность, а потому, что ты — бездарность? Другого выбора не было: гений или бездарность. Никто не знал, кто чего стоит, потому что не было открытого рынка. Была видимость литературы, музыки, живописи, которые появлялись в виде книг, симфоний, картин, выполнивших ряд условий, никак с искусством не связанных. Так что какая-то точка отсчёта была: что признано, то не искусство. А за этим, естественно, следовал нелогичный вывод: что не признано, то и гениально».
В поразительную эпоху мы живём. «Хороший человек» для нас звучит как оскорбление. «Зато он человек хороший», — говорят про жениха, который выглядит явным ничтожеством
Сергей Довлатов «Заповедник»
Довлатову остро хотелось издаваться, но набор его дебютного сборника «Пять углов», который должен был выйти в Таллине в 1974 году, рассыпали из цензурных соображений. После этого шанс выпускать свои книги в СССР практически свёлся к нулю. Познакомившись в Ленинграде с издателем Карлом Проффером, Довлатов передал ему рукопись «Невидимой книги» (позже она войдёт в мемуары «Ремесло»), где в ироничной манере изложил свою литературную биографию. Издательство Ardis Publishing опубликовало её в 1977 году. Название дебюта выглядит вдвойне символичным: довлатовские книги были невидимыми на родине, и свою первую книгу писатель, живя в Советском Союзе, увидеть тоже не мог. Для Довлатова именно напечатанные книги были неоспоримым, вещественным доказательством писательского статуса, но вместо них у него была только кипа постоянно перерабатываемых рукописей. Александр Генис в филологическом романе о Довлатове замечал, что писателю долго жить с рукописью книги «негигиенично, духовно неопрятно». Рукопись подобна ногтям, «интимной части автора, которая со временем начинает его тяготить» 7 Генис А. Довлатов и окрестности. М.: Corpus, 2011. C. 78. . Борис Алиханов в «Заповеднике» воспроизводит невротическое желание Довлатова опубликовать наконец свои тексты. Даже в драматической сцене расставания с женой он не забывает попросить её разыскать Карла Проффера и поторопить его с изданием книги.
По воспоминаниям друзей, Довлатов, будучи молодым непризнанным автором, придавал литературе огромную важность: «Должен вам сказать, что литература, точнее, мои рассказы — это единственное, что имеет для меня значение… Меня ничто и никто больше в жизни не интересует. <…> Кроме литературы, я больше ни на что не годен — ни на политические выступления, ни на любовь, ни на дружбу» 8 . В эмиграции, когда Довлатов наконец смог утолить жажду литературного признания, он обнаружил, что значение литературы в его жизни было сильно переоценено: «Сейчас я стал уже немолодой, и выяснилось, что ни Льва Толстого, ни Фолкнера из меня не вышло, хотя всё, что я пишу, публикуется. И на передний план выдвинулись какие-то странные вещи: выяснилось, что у меня семья…» Александр Генис считал, что, если бы не ранняя смерть, тема разочарования в литературе могла бы захватить Довлатова так же сильно, как и очарование ею 9 Генис А. Довлатов и окрестности. М.: Corpus, 2011. C. 80. .
Окрестности села Михайловское. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 1969 год
Лев Устинов/РИА «Новости»
Почему «женатого» Алиханова постоянно окружают женщины?
Заповедник выглядит царством одиноких дам: внимательная Галина, обидчивая Марианна, пылкая Натэлла, романтичная Виктория Альбертовна, юная Аврора. Все они хотят от Алиханова любви: «Давно я не был объектом такой интенсивной женской заботы. В дальнейшем она будет проявляться ещё настойчивее. И даже перерастёт в нажим». Вниманием женщин мог похвастаться и сам Довлатов. «Он своей эффектной наружностью пользовался в хвост и в гриву, сражая наповал продавщиц, парикмахерш и официанток. Но не только представительницы этих профессий и не только в Ленинграде попадали под его «мартиниденовское» обаяние. Я сама была свидетелем, как в Нью-Йорке одинокие, средних лет литературные редакторессы впадали при его появлении в транс», — вспоминала Людмила Штерн 10 Штерн Л. Довлатов — добрый мой приятель. СПб.: Азбука, 2005. . Впрочем, сразу по прибытии в заповедник Алиханову объясняют — женщины интересуются не конкретно им, они интересуются мужчинами как таковыми. Эта одержимость мужским вниманием в «Заповеднике» становится основанием для многочисленных абсурдных и даже пугающих в своей абсурдности ситуаций:
Кривоногий местный тракторист с локонами вокзальной шлюхи был окружён назойливыми румяными поклонницами.
— Умираю, пива! — вяло говорил он.
И девушки бежали за пивом…
В этом контексте единственным «нормальным» персонажем выглядит Таня, жена Алиханова, которая приезжает в заповедник сообщить ему о том, что эмигрирует вместе с их дочерью. Формально герои разведены, но их развод, по выражению Алиханова, потерял силу «наподобие выдохшегося денатурата». Прообразом Тани можно считать Елену Довлатову, вторую жену писателя. Она, по воспоминаниям Андрея Арьева, также навещала мужа в заповеднике: «3 сентября 1976 года — в день Серёжиного рождения, — приехав из Ленинграда в Пушкинские Горы, я тут же направился в деревню Берёзино, где он тогда жил и должен был — по моим расчётам — веселиться. В избе я застал его жену Лену, одиноко бродившую над уже отключившимся мужем. За время моего отсутствия небогатый интерьер низкой горницы заметно украсился… На стене, рядом с мутным, треснувшим зеркалом, выделялся приколотый с размаху всаженным ножом листок с крупной надписью. «35 лет в дерьме и позоре!» Кажется, на следующий день Лена уехала».
В отличие от многочисленных женщин заповедника, Таня от Алиханова уже ничего толком не хочет. Молчаливая, спокойная «как океан», она решила уехать, и это твёрдое решение становится для мужа практически экзистенциальным потрясением. Поворотным пунктом повести становится не приезд героя в заповедник, средоточие абсурда, а предельно рациональное решение его жены этот «заповедник» покинуть. Именно это решение запускает в герое невидимое, на первый взгляд, душевное движение. Ощутив его, Алиханов уходит в запой, но позже оно наверняка заставит его последовать за женой, как сделал это в реальности Довлатов. Прийти к такому заключению позволяют всего пять слов в посвящении повести: «Моей жене, которая была права».
Елена Довлатова. 1981 год
Герои «Заповедника» беспробудно пьют. Всё так и было?
Если все женщины «Заповедника» одержимы поиском мужчины, то все его мужчины — поиском бутылки. Пьянствует Стасик Потоцкий, выпивает Митрофанов, фотограф Марков — «законченный пропойца», упоминается, что у брата Тани проблемы с печенью. Самым ярким выражением всеобщего алкогольного делириума становится деревенский житель Михал Иваныч, в доме которого рассказчик снимает комнату. За всё лето он видел своего хозяина трезвым всего дважды («Пил он беспрерывно. До изумления, паралича и бреда. Причём бредил он исключительно матом»). Майор Беляев, объясняя диссидентствующему Алиханову политическую ситуацию в стране, заключает: «Желаешь знать, откуда придёт хана советской власти? Я тебе скажу. Хана придёт от водки. Сейчас, я думаю, процентов шестьдесят трудящихся надирается к вечеру. И показатели растут. Наступит день, когда упьются все без исключения». Разговор этот, разумеется, тоже проходит под водку. Беляев недалёк от истины — в эпоху брежневского застоя потребление алкоголя в СССР достигло рекордных показателей. Если в 1960-е советский человек в среднем употреблял 4,6 литра алкоголя в год, то к началу 1980-х этот показатель равнялся 14,2 литра. На одного взрослого мужчину приходилось 180 пол-литровых бутылок водки в год, то есть 1 бутылка на два дня.
Алиханов, главный герой «Заповедника», не просто выпивает, он хронический алкоголик. По сути, всю фабулу повести можно свести к истории его недолгой ремиссии между двумя запоями. «Заповедник» начинается со сцены, в которой герой ищет на вокзале буфет, чтобы опохмелиться. У него дрожат руки, так что стакан с пивом приходится брать обеими. Алкогольный тремор обычно возникает вследствие длительной интоксикации: токсины алкоголя нарушают работу центральной нервной системы, у человека возникает бесконтрольное мышечное сокращение. До приезда в заповедник Алиханов, судя по всему, пил много и долго. После отъезда из заповедника он пьёт ещё больше, доведя себя до галлюцинаций.
Задайте человеку вопрос: «Бывают ли у тебя запои?» — и человек спокойно ответит — нет. А может быть, охотно согласится. Зато вопрос «Ты спал?» большинство переживает чуть ли не как оскорбление
Сергей Довлатов
Запои отражаются и на психологическом состоянии Алиханова: он страдает приступами отчаянного самобичевания (непригодную для жизни комнату в деревне он выбирает, будто специально наказывая себя) и едва ли не раздвоением личности. Потоцкий говорит о нём: «Борька трезвый и Борька пьяный настолько разные люди, что они даже не знакомы между собой…» Пьющие персонажи «Заповедника» подобны отражению главного героя — пока он в завязке, они будто пьянствуют за него. Давая каждый день Михал Иванычу рубль «на опохмел», Алиханов не только выплачивает деньги за аренду комнаты, он символически откупается от судьбы, пытаясь отсрочить неизбежное наступление нового запоя.
Довлатов, как и его герой, страдал от алкоголизма. Людмила Штерн Людмила Яковлевна Штерн (урождённая Давидович; род. 1935) — писательница, журналистка, переводчица. До эмиграции работала геологом. В 1976 году вместе с мужем переехала в Америку. Дружила с Сергеем Довлатовым, Иосифом Бродским, написала о них книги воспоминаний. Живёт в Бостоне, является научным сотрудником Университета Брандейса. так описывала влияние запоев на его характер: «Его «ниагарские» перепады настроения отражали определённый период, связанный с алкоголем. Предзапойный — предвкушение и нервозность, эпицентр запоя — злобность и грубость, послезапойный — кротость, клятвы и горькое презрение к себе». Это ощущение вины, постоянное самобичевание рассказчика можно увидеть во многих текстах Довлатова. Например, в «Филиале»: «Я проклинал и ненавидел только одного себя. Все несчастья я переживал как расплату за собственные грехи. Любая обида воспринималась как результат моего собственного прегрешения. <…> Чувство вины начало принимать у меня характер душевной болезни».
Прощальная вечеринка Льва Лосева перед отъездом в эмиграцию. Ленинград, январь 1976 года
Как Довлатов делает «Заповедник» смешным?
Центральный сюжет «Заповедника» выглядит тяжеловесным, медленно развивающимся, лишённым резких поворотов, но благодаря нанизанным на его ось маленьким анекдотическим новеллам или, по выражению Виктора Топорова, «микроабсурдам», повесть оставляет ощущение лёгкости. Игорь Сухих замечал, что «Довлатова легко читать взахлёб… но трудно — по диагонали. Текст вспухает сюжетами, микрокульминациями, ключевая фраза может вспыхнуть в любой точке сюжетного пространства» 11 Сухих И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб.: Азбука, 2010. C. 59. . Анекдотичность довлатовской прозы выросла из позднесоветских речевых практик: рассказывание анекдотов было важной частью неформального общения. «Мы настолько привыкли, сой-дясь в тесной компании, как пос-леднюю новость рассказывать анекдоты или хотя бы вспоминать, кто что помнит, что сами не видим, не замечаем своего счастья: что мы живём при анекдотах — в эпоху уст-ного народного творчества, в эпоху процветания громадного фольк-лорного жанра», — писал Андрей Синявский в 1978 году в эссе «Анекдот в анекдоте» 12 Синявский А. Д. Литературный процесс в России. М.: РГГУ, 2003. С. 232-243. .
Довлатов пытался вывести анекдот из фольклорного гетто в большую литературу, при этом он не выдумывал шутки, а скорее умел находить их там, где никто и не думал искать. Он, к примеру, уверял, что Достоевский — один из самых смешных авторов в русской литературе, и считал, что об этом необходимо написать исследовательскую работу. Довлатов, по выражению Гениса, «сторожил слово, которое себя не слышит» 13 Генис А. Довлатов и окрестности. М.: Corpus, 2011. C. 50. . Смешное в довлатовской прозе обычно связано с неправильным словоупотреблением, лексической несочетаемостью, а чаще всего с невозможностью коммуникации как таковой. Большинство анекдотических микроновелл «Заповедника» обусловлено тем, что люди друг друга не слышат и не понимают, как в прямом смысле (например, в сцене, в которой Митрофанов не может членораздельно говорить из-за укуса осы: «— Ы-ы-а, — проговорил он. — Что? — спросила моя жена. — Ы-ы-а, — повторил Митрофанов»), так и в переносном. Например, в разговоре Алиханова с туристом:
Ко мне застенчиво приблизился мужчина в тирольской шляпе:
— Извините, могу я задать вопрос?
— Слушаю вас.
— Это дали?
— То есть?
— Я спрашиваю, это дали? — Тиролец увлёк меня к распахнутому окну.
— В каком смысле?
— В прямом. Я хотел бы знать, это дали или не дали? Если не дали, так и скажите.
— Не понимаю.
Мужчина слегка покраснел и начал торопливо объяснять:
— У меня была открытка… Я — филокартист…
— Кто?
— Филокартист. Собираю открытки… Филос — любовь, картос…
— Ясно.
— У меня есть цветная открытка — «Псковские дали». И вот я оказался здесь. Мне хочется спросить — это дали?
— В общем-то, дали, — говорю.
— Типично псковские?
— Не без этого.
Все «микроабсурды» Довлатова развиваются по одному сценарию — ожидание в них никогда не соответствует результату: спокойный тихий разговор может обернуться вспышкой злобы, а нагнетание напряжения — неожиданным примирением. Лирический герой Довлатова, с одной стороны, сторонится абсурдных ситуаций, даже воспринимает их как опасность, постоянно тоскуя по нормальности, с другой — любуется ими и непроизвольно становится их частью («Вечно я слушаю излияния каких-то монстров. Значит, есть во мне что-то, располагающее к безумию…»). писал, что оригинальность довлатовской прозы заключается в сочетании абсурда и эпоса, фрагментарности и монументальности. Если эпос обычно устанавливает связи между человеком и мирозданием, то абсурд как раз демонстрирует их разорванность, полную бессвязность. Однако абсурд у Довлатова, «обладает особой «скрытой теплотой», обнаруживающей (или подтверждающей) человеческое родство». Довлатов объединяет своих героев абсурдом, делает его основой порядка, и эта вездесущая алогичность парадоксальным образом делает мир понятнее и безопаснее 14 Липовецкий М. «И разбитое зеркало…» Переписывание автобиографии у Сергея Довлатова // АРСС // http://magazines.russ.ru/project/arss/ezheg/lipovec.html .
Сергей Довлатов в Пушкинских Горах. 1977 год
Тригорский парк. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 1970 год
Владимир Савостьянов/ТАСС
Герои «Заповедника» списаны с реальных людей. Ситуации, в которые они попадают, тоже реальны?
У всех персонажей повести есть реальные прототипы — от пьяницы Михал Иваныча до бывшего стукача Лёни Грибанова. В одних случаях на них указывал Довлатов, в других — близкие и друзья писателя, в третьих — жители заповедника и окрестностей отыскивались сами. Довлатов, задействовав в качестве персонажей реальных людей (пусть и под вымышленными именами), создаёт настолько правдоподобный мир, что читатели невольно принимают художественную прозу за биографическую. Однако при первом же приближении оказывается, что с фактами Довлатов обращается вольно, а ситуации, связанные с вполне конкретными людьми, и вовсе могут быть выдуманы. Например, у знакомства писателя с женой Еленой есть три разные художественные интерпретации: в «Заповеднике» они встречаются на вечеринке живописца Лобанова, в «Чемодане» — Лена приходит к нему домой в качестве предвыборного агитатора, в «Наших» — герой Довлатова обнаруживает её спящей у себя дома после вечеринки («Меня забыл Гуревич»). При этом, по словам сестры писателя Ксении Мечик-Бланк, ни один из этих вариантов знакомства не является правдой. Указывая на фактические несостыковки, Мечик-Бланк также замечала, что в рассказе Довлатова о сыне Николасе на два дня изменена дата его рождения, а в одном из рассказов её муж зачем-то назван Лёней и сионистом, хотя ни то, ни другое не соответствует действительности 15 Мечик-Бланк К. Из писем Довлатова к отцу // Звезда. 2008. № 1. С. 98-114. .
Люди, узнавшие себя в довлатовских персонажах, нередко обижались на писателя. Много обиженных осталось и в пушкинском заповеднике, и в таллинской газете, описанной в «Компромиссе», и в американской редакции радио «Свобода», попавшей в «Филиал». Пётр Вайль вспоминал : «Стилистическая правда была ему куда дороже. То же — в устных рассказах. Сергей много и охотно сочинял про знакомых. Причём я не раз наблюдал, как он рассказывал небылицы про людей, тут же сидевших, развесивших уши не хуже прочих, будто речь не о них. Об одном основательном, самодовольном человеке, с медленной веской речью, Сергей сообщал: «Веня мне вчера сказал: «Мы с Кларой решили… что у нас в холодильнике… всегда будет для друзей… минеральная вода». Довлатов соблюдал то правдоподобие, которое было правдивее фактов, — оттого его злословию верили безоговорочно».
Есть ли в «Заповеднике» положительные и отрицательные персонажи?
Если и есть, то Довлатов своё отношение к ним ничем не выдаёт, для него они все одинаковы — смешные, безумные и в чём-то милые. Графоман и пройдоха Стасик Потоцкий ничем не хуже и не лучше «фантастического лентяя» Митрофанова, а «русский диссидент» фотограф Марков — жандарма и чекиста Беляева. Удивительно, что Довлатова — писателя в СССР запрещённого, эмигрировавшего в Америку и вращающегося в кругу диссидентов — совершенно не интересовала политика. Вместо «патриотов» и «демократов» он видел прежде всего людей, оказавшихся в плену идеологических штампов. Из «Соло на ундервуде»:
— Толя, — зову я Наймана, — пойдёмте в гости к Леве Друскину.
— Не пойду, — говорит, — какой-то он советский.
— То есть как это советский? Вы ошибаетесь!
— Ну антисоветский. Какая разница.
В повести «Филиал» есть характерный диалог журналиста Далматова с Барри Тарасовичем, начальником радио «Третья волна», прообразом которого послужило радио «Свобода»:
Барри Тарасович продолжал:
— Не пишите, что Москва исступлённо бряцает оружием. Что кремлёвские геронтократы держат склеротический палец...
Я перебил его:
— На спусковом крючке войны?
— Откуда вы знаете?
— Я десять лет писал это в советских газетах.
— О кремлёвских геронтократах?
— Нет, о ястребах из Пентагона.
Из мира довлатовской прозы убрана презумпция не только идеологической, но и любой другой вины. Вся её тяжесть перенесена на рассказчика. Довлатов, хоть и иронизирует над своими персонажами, никогда их не судит, представляя их чем-то вроде «иллюстраций к учебнику природоведения» 17 Генис А. Довлатов и окрестности. М.: Corpus, 2011. C. 221. . Критик Никита Елисеев связывал этот авторский взгляд непосредственно с атмосферой советских 1970-х: «У Довлатова равно симпатичны и майор КГБ Беляев, и писатель Борис Алиханов. Два пьяных обормота, на фиг пославшие всякую идеологию и разговаривающие друг с другом по-человечески. На самом деле то был короткий миг, когда Вчера ушло, а Завтра ещё не настало. Поэтому сейчас рассказы Довлатова читаются как исторические рассказы о прошлом, ибо мир его, мир обаятельных смешных чудаков, лентяев, пройдох, безобидных циников, пьяниц, — этот мир религию 19 Серман И. Театр Сергея Довлатова // Грани. 1985. № 136. С. 138-162. . Не случайно ироничное литературоведческое эссе Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным», фрагмент которого был впервые опубликован в СССР в 1989 году, воспринимался многими критиками как попрание святынь.
Алиханов не говорит о своей любви к Пушкину прямо, зато пушкинское влияние можно обнаружить на многих уровнях текста «Заповедника». Например, в описании противоречивого образа Михал Иваныча, который однажды повесил кошек на рябине, но был настолько деликатным, что просидел на крыльце до утра, боясь разбудить гостя, можно обнаружить аллюзию к пушкинской повести «Дубровский» (кузнец Архип сжигает в запертом доме людей, но при этом, рискуя жизнью, спасает бегающую по горящей крыше кошку). В разговоре с Натэллой («— А вы человек опасный. — То есть? — Я это сразу почувствовала. Вы жутко опасный человек») — цитату из пушкинского «Каменного гостя» («Дона Анна: Подите прочь — вы человек опасный. Дон Гуан: Опасный! чем? Дона Анна: Я слушать вас боюсь»). Не случайными кажутся имена жены и дочери Алиханова: жена Таня — в честь Татьяны из «Евгения Онегина», а дочь Маша — в честь Маши Мироновой из «Капитанской дочки» 20 Сухих И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб.: Азбука, 2010. C. 153. . Мучаясь сомнениями в себе, Алиханов своими словами пересказывает пушкинскую максиму «Слова поэта суть уже его дела» («Надо либо жить, либо писать. Либо слово, либо дело. Но твоё дело — слово»), да и сам сравнивает себя с Пушкиным («Я твердил себе: — У Пушкина тоже были долги и неважные отношения с государством. Да и с женой приключилась беда. Не говоря о тяжёлом характере…»).
Александр Генис заключал, что довлатовский «Заповедник» вылеплен по пушкинскому образу и подобию, пусть это и не заметно на первый взгляд: «Умный прячет лист в лесу, человека — в толпе, Пушкина — в Пушкинском заповеднике». Герой «Заповедника» не преклоняется перед поэтом, но он метафорически проживает его судьбу: «Если Заповедник стережёт букву пушкинского мифа, другой, тот, что описал Довлатов, хранит его дух» 21 Генис А. Довлатов и окрестности. М.: Corpus, 2011. C. 217. .
список литературы
- Генис А. А. Довлатов и окрестности. М.: Corpus, 2011.
- Зернова Р. А. Дачные соседи // Нева. 2005. № 10. C. 115–126
- Елисеев Н. Л. Человеческий голос // Новый мир. 1994. № 11. С. 212–225.
- Ефимов И. М. Эпистолярный роман с Сергеем Довлатовым. М.: Захаров, 2001.
- Ковалова А., Лурье Л. Довлатов. СПб.: Амфора, 2009.
- Курганов Е. Я. Анекдот как жанр русской словесности. М.: ArsisBooks, 2015.
- Курганов Е. Я. Сергей Довлатов и линия анекдота в русской прозе // Слово\Word. 2009. № 62. С. 492–507.
- Липовецкий М. Н. «И разбитое зеркало…» Переписывание автобиографии у Сергея Довлатова // АРСС // http://magazines.russ.ru/project/arss/ezheg/lipovec.html
- Лосев Л. Александр Генис. Довлатов и окрестности // Знамя. 1999. № 11. С. 222–223.
- Мечик-Бланк К. Из писем Довлатова к отцу // Звезда. 2008. № 1. С. 98–114.
- Малоизвестный Довлатов: сборник. СПб.: АОЗТ «Журнал «Звезда», 1999.
- Найман А. Персонажи в поисках автора // Звезда. 1994. № 3. С. 125–128.
- Пекуровская А. Когда случилось петь С. Д. и мне: Сергей Довлатов глазами первой жены. СПб.: Симпозиум, 2001.
- Переписка Сергея Довлатова с Ниной Берберовой // Звезда. 2016. № 9. С. 34–44.
- Попов В. Г. Довлатов. М.: Молодая гвардия, 2010.
- Семкин А. Почему Сергею Довлатову хотелось быть похожим на Чехова // Нева. 2009. № 12. С. 147–159.
- Серман И. З. Театр Сергея Довлатова // Грани. 1985. № 136. С. 138–162.
- Синявский А. Д. Литературный процесс в России. М.: РГГУ, 2003.
- Сухих И. Н. Сергей Довлатов. Время. место, судьба. СПб.: Азбука, 2010.
- Штерн Л. Я. Довлатов - добрый мой приятель. СПб.: Азбука, 2005.
Весь список литературы
Сергей Довлатов
Заповедник
Моей жене, которая была права
Сергей Довлатов
Заповедник
В двенадцать подъехали к Луге. Остановились на вокзальной площади. Девушка-экскурсовод сменила возвышенный тон на более земной:
Там налево есть одно местечко…
Мой сосед заинтересованно приподнялся:
В смысле - уборная?
Всю дорогу он изводил меня: «Отбеливающее средство из шести букв?.. Вымирающее парнокопытное?.. Австрийский горнолыжник?..»
Туристы вышли на залитую светом площадь. Водитель захлопнул дверцу и присел на корточки у радиатора.
Вокзал… Грязноватое желтое здание с колоннами, часы, обесцвеченные солнцем дрожащие неоновые буквы…
Я пересек вестибюль с газетным киоском и массивными цементными урнами. Интуитивно выявил буфет.
Через официанта, - вяло произнесла буфетчица. На пологой груди ее болтался штопор.
Я сел у двери. Через минуту появился официант с громадными войлочными бакенбардами.
Что вам угодно?
Мне угодно, - говорю, - чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны.
Официант, пресыщенный разнообразием жизни, молчал.
Мне угодно сто граммов водки, пиво и два бутерброда.
С колбасой, наверное…
Я достал папиросы, закурил. Безобразно дрожали руки. «Стакан бы не выронить…» А тут еще рядом уселись две интеллигентные старухи. Вроде бы из нашего автобуса.
Официант принес графинчик, бутылку и две конфеты.
Бутерброды кончились, - проговорил он с фальшивым трагизмом.
Я расплатился. Поднял и тут же опустил стакан. Руки тряслись, как у эпилептика. Старухи брезгливо меня рассматривали. Я попытался улыбнуться:
Взгляните на меня с любовью!
Старухи вздрогнули и пересели. Я услышал невнятные критические междометия.
Черт с ними, думаю. Обхватил стакан двумя руками, выпил. Потом с шуршанием развернул конфету.
Стало немного легче. Зарождался обманчивый душевный подъем. Я сунул бутылку пива в карман. Затем поднялся, чуть не опрокинув стул. Вернее, дюралевое кресло. Старухи продолжали испуганно меня разглядывать.
Я вышел на площадь. Ограда сквера была завешена покоробившимися фанерными щитами. Диаграммы сулили в недалеком будущем горы мяса, шерсти, яиц и прочих интимностей.
Мужчины курили возле автобуса. Женщины шумно рассаживались. Девушка-экскурсовод ела мороженое в тени. Я шагнул к ней:
Давайте познакомимся.
Аврора, - сказала она, протягивая липкую руку.
А я, - говорю, - танкер Дербент.
Девушка не обиделась.
Над моим именем все смеются. Я привыкла… Что с вами? Вы красный!
Уверяю вас, это только снаружи. Внутри я - конституционный демократ.
Нет, правда, вам худо?
Пью много… Хотите пива?
Зачем вы пьете? - спросила она.
Что я мог ответить?
Это секрет, - говорю, - маленькая тайна…
Решили поработать в заповеднике?
Вот именно.
Я сразу поняла.
Разве я похож на филолога?
Вас провожал Митрофанов. Чрезвычайно эрудированный пушкинист. Вы хорошо его знаете?
Хорошо, - говорю, - с плохой стороны…
Как это?
Не придавайте значения.
Прочтите Гордина, Щеголева, Цявловскую… Воспоминания Керн… И какую-нибудь популярную брошюру о вреде алкоголя.
Знаете, я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить… читать.
С вами невозможно разговаривать…
Шофер поглядел в нашу сторону. Экскурсанты расселись.
Аврора доела мороженое, вытерла пальцы.
Летом, - сказала она, - в заповеднике довольно хорошо платят. Митрофанов зарабатывает около двухсот рублей.
И это на двести рублей больше, чем он стоит.
А вы еще и злой!
Будешь злым, - говорю.
Шофер просигналил дважды.
Едем, - сказала Аврора.
В львовском автобусе было тесно. Коленкоровые сиденья накалились. Желтые занавески усиливали ощущение духоты.
Я перелистывал «Дневники» Алексея Вульфа. О Пушкине говорилось дружелюбно, иногда снисходительно. Вот она, пагубная для зрения близость. Всем ясно, что у гениев должны быть знакомые. Но кто поверит, что его знакомый - гений?!.
Я задремал. Невнятно доносились какие-то лишние сведения о матери Рылеева…
Разбудили меня уже во Пскове. Вновь оштукатуренные стены кремля наводили тоску. Над центральной аркой дизайнеры укрепили безобразную, прибалтийского вида, кованую эмблему. Кремль напоминал громадных размеров макет.
В одном из флигелей находилось местное бюро путешествий. Аврора заверила какие-то бумаги, и нас повезли в «Геру» - самый фешенебельный местный ресторан.
Я колебался - добавлять или не добавлять? Добавишь - завтра будет совсем плохо. Есть не хотелось…
Я вышел на бульвар. Тяжело и низко шумели липы.
Я давно убедился: стоит задуматься, и тотчас вспоминаешь что-нибудь грустное. Например, последний разговор с женой…
Даже твоя любовь к словам, безумная, нездоровая, патологическая любовь, - фальшива. Это - лишь попытка оправдания жизни, которую ты ведешь. А ведешь ты образ жизни знаменитого литератора, не имея для этого самых минимальных предпосылок… С твоими пороками нужно быть как минимум Хемингуэем…
Ты действительно считаешь его хорошим писателем? Может быть, и Джек Лондон хороший писатель?
Боже мой! При чем тут Джек Лондон?! У меня единственные сапоги в ломбарде… Я все могу простить. И бедность меня не пугает… Все, кроме предательства!
Что ты имеешь в виду?
Твое вечное пьянство. Твое… даже не хочу говорить… Нельзя быть художником за счет другого человека… Это подло! Ты столько говоришь о благородстве! А сам - холодный, жестокий, изворотливый человек…
Не забывай, что я двадцать лет пишу рассказы.
Ты хочешь написать великую книгу? Это удается одному из сотни миллионов!
Ну и что? В духовном отношении такая неудавшаяся попытка равна самой великой книге. Если хочешь, нравственно она даже выше. Поскольку исключает вознаграждение…
Это слова. Бесконечные красивые слова… Надоело… У меня есть ребенок, за которого я отвечаю…
У меня тоже есть ребенок.
Которого ты месяцами игнорируешь. Мы для тебя - чужие…
(В разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса…)
Умышленно, - говорю, - я зла не делал…
Я опустился на пологую скамейку. Вынул ручку и блокнот. Через минуту записал:
Мои стихи несколько опережали действительность. До Пушкинских Гор оставалось километров сто.
Я зашел в хозяйственную лавку. Приобрел конверт с изображением Магеллана. Спросил зачем-то:
Вы не знаете, при чем тут Магеллан?
Продавец задумчиво ответил:
Может, умер… Или героя дали…
Наклеил марку, запечатал, опустил…
В шесть мы подъехали к зданию туристской базы. До этого были холмы, река, просторный горизонт с неровной кромкой леса. В общем, русский пейзаж без излишеств. Те обыденные его приметы, которые вызывают необъяснимо горькое чувство.
Это чувство всегда казалось мне подозрительным. Вообще страсть к неодушевленным предметам раздражает меня… (Я мысленно раскрыл записную книжку.) Есть что-то ущербное в нумизматах, филателистах, заядлых путешественниках, любителях кактусов и аквариумных рыб. Мне чуждо сонное долготерпение рыбака, безрезультатная немотивированная храбрость альпиниста, горделивая уверенность владельца королевского пуделя…
Говорят, евреи равнодушны к природе. Так звучит один из упреков в адрес еврейской нации. Своей, мол, природы у евреев нет, а к чужой они равнодушны. Что ж, может быть, и так. Очевидно, во мне сказывается примесь еврейской крови…
Короче, не люблю я восторженных созерцателей. И не очень доверяю их восторгам. Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку. И развивается как суррогат патриотизма…
Я согласен, больную, парализованную мать острее жалеешь и любишь. Однако любоваться ее страданиями, выражать их эстетически - низость…
Подъехали к туристской базе. Какой-то идиот построил ее на расстоянии четырех километров от ближайшего водоема. Пруды, озера, речка знаменитая, а база - на солнцепеке. Правда, есть номера с душевыми кабинами… Изредка - горячая вода…
Заходим в экскурсионное бюро. Сидит такая дама, мечта отставника. Аврора сунула ей путевой лист. Расписалась, получила обеденные талоны для группы. Что-то шепнула этой пышной блондинке, которая сразу же взглянула на меня. Взгляд содержал неуступчивый беглый интерес, деловую озабоченность и легкую тревогу. Она даже как-то выпрямилась. Резче зашуршали бумаги.
Повесть Сергея Довлатова «Заповедник» считается одним из лучших его произведений, хотя известна она стала лишь после его смерти. В ней писатель рассказывает о жизни в советское время, во второй половине 20 века. И хотя для многих это время не знакомо, читая книгу, не составит труда представить всё то, что происходило.
Главным героем является непризнанный писатель. Его произведения не издаются, но при этом он считает писательство своим призванием. У Бориса жизнь складывается неудачно, отношения с женой оставляют желать лучшего, он часто выпивает.
Чтобы как-то взять себя в руки, Борис устраивается на работу в музей А.С. Пушкина в Михайловское. Он даже перестаёт пить и обретает более или менее устойчивое положение. При этом он замечает, сколь глухи и слепы люди, которые остаются равнодушны к красоте искусства, даже работники музея. В то время это место было достаточно популярным, люди часто приезжали туда отдохнуть. Но всё что им было нужно – отдых, свежий воздух и только мысль о том, что они находятся в заповеднике искусства. Но в душе их не было восхищения, они даже не знали цитат из произведений великого писателя. Бориса расстраивает такое отношение, но вместе с тем, он сравнивает заповедник со своей собственной жизнью.
В книге писатель рассказывает о жизни человека, который не может ощутить твёрдую почву под ногами, он подавлен и не желает ничего делать, чтобы стать счастливее. Возможно, и он был слеп и не видел тех шансов, что преподносила ему жизнь. Борису было проще плыть по течению и находить оправдания всему происходящему, чем взять на себя ответственность и принять важное решение. Он сам это понимал. И писатель в своей повести без прикрас отобразил жизнь среднестатистического человека того времени. Удивительна его способность с долей юмора писать о том, что действительно грустно.
Произведение относится к жанру Литература русского зарубежья. Оно было опубликовано в 1983 году издательством Азбука. Книга входит в серию "Собрание сочинений. Довлатов". На нашем сайте можно скачать книгу "Заповедник" в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt или читать онлайн. Рейтинг книги составляет 4.32 из 5. Здесь так же можно перед прочтением обратиться к отзывам читателей, уже знакомых с книгой, и узнать их мнение. В интернет-магазине нашего партнера вы можете купить и прочитать книгу в бумажном варианте.