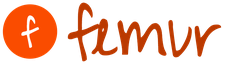Русский авангард в архитектуре. Культурный уикенд: выбор «Известий
Изменение облика мира и формирование новой парадигмы социально-культурного развития России 20-х годов 20 века привели к новым веяниям во всех областях человеческой жизни. Кардинальная реструктуризация идейных принципов, на которых зиждилось общество, потребовала перерождения художественной мысли. Откликом на вызов нового времени стало выделение на фоне других фигур Малевича и Татлина, сформировавших основные принципы . , обнажающий тяготение к простым геометрическим конструкциям и цветовой раскованности, и контррельефы Татлина, отразившие конструктивную возможность совмещения сразу нескольких материалов (стекло, металл, дерево) в одном продукте, стали катализаторами трансформации языка архитектуры, в недрах которой зарождался новый стиль – авангард.
Черты и принципы архитектурного авангарда
Плодотворной средой, в условиях которой стали вызревать стремления выйти за пределы традиционного мышления и привычного пространства, стала еще русская архитектура начала 20 века. Деятели-новаторы той поры — Кузнецов, Лолейт, Шухов – в своих творениях во многом предвосхитили последующие достижения. Башня радиостанции имени Коминтерна Владимира Шухова по праву считается одним из первых сооружений в стиле авангард и выразительным индикатором наступления эпохи экспериментов и художественного нигилизма, оповестившим, что во главу угла встала архитектура модерна.
В дальнейшем оформившиеся идеи социального равенства, обобществления быта, изменение индустриальных канонов потребовали более глубокого и тщательного пересмотра действующих архитектурных постулатов.
На первое место вышли три основных принципа:
- целесообразность и практичность сооружений. Возводимые постройки должны были служить утилитарным целям, организовывать жизнь людей в соответствии с их потребностями, создавать комфортные условия для труда и быта.
- обнажение истинной формы архитектурной оболочки. Рисунок внутреннего пространства задавал функциональный и эстетический образ экстерьера.
- аскетичность конструкций и природная естественность материалов. Принцип «искусство ради искусства» был уже неактуален. Художественный и утилитарный смысл выражался в создании «чистой» композиции, лишенной атрибутивной завуалированности.
Основными чертами авангарда в архитектуре были:
- строгость и лаконичность форм,
- простота и логичность внешнего облика.
Идейные протагонисты активно экспериментировали с материалами: открывались новые горизонты в использовании кафельной плитки, металлической сетки, стекла и дерева. Формировалось понимание роли архитектора как организатора и созидателя, а не декоратора окружающей среды. Происходило переосмысление традиционного инструментария: пространство (а не вещество) стало восприниматься как поле для творчества. На первый план вышли не индивидуальные потребности, а общественные (в центре внимания – массы), что нашло отражение в характерных для той поры постройках: фабрики-кухни, рабочие клубы, дома – коммуны.
АВАНГАРД – условное наименование различных художественных направлений в искусстве XX в., для которых характерно стремление к коренному изменению принципов и традиций художественной практики – кубизм, футуризм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, абстрактное искусство, аналитическое искусство, лучизм, конструктивизм, кубофутуризм, супрематизм, концептуализм, постмодернизм и др. Авангардисты стремятся к новым средствам выражения и формам произведений.
Художник разработал положения о «глазе видящем» и «глазе знающем». Первый из них ведает передачей формы и цвета, с помощью второго, «глаза знающего», художник, опираясь на интуицию, воспроизводит процессы незримые, скрытые. Вот как Филонов пишет об этом: «Всякий видит под известным углом зрения, с одной стороны и до известной степени, либо спину, либо лицо объекта, всегда часть того, на что смотрит, – дальше этого не берет самый зоркий видящий глаз, но знающий глаз исследователя-изобретателя – мастера аналитического искусства – стремится к исчерпывающему видению, поскольку это возможно для человека; он смотрит своим анализом и мозгом и им видит там, где вообще не берет глаз художника. Так, например, видя только ствол, ветви, листья и цветы, допустим, яблони, в то же время знать или, анализируя, стремиться узнать, как берут и поглощают усики корней соки почвы, как эти соки бегут по клеточкам древесины вверх, как они распределяются в постоянной реакции на свет и тепло, перерабатываются и превращаются в атомистическую структуру ствола и ветвей, в зеленые листья, в белые с красным цветы, в зелено-желто-розовые яблоки и в грубую кору дерева. Именно это должно интересовать мастера, а не внешность яблони. Не так интересны штаны, сапоги, пиджак или лицо человека, как интересно явление мышления с его процессами в голове этого человека».
Ковтун Е.Ф. «Из истории русского авангарда» (П.Н. Филонов) // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома. 1977. Л., 1979. С. 216
Ковтун Е.Ф. Краткое пояснение к выставленным работам, 1928 // Филонов П.Н. Живопись. Графика: из собрания Государственного Русского музея: каталог выставки. Л., 1988. С. 108
Русская инженерная школа была передовой в техническом отношении, дала миру в начале XX века немало изобретений в области машиностроения, энергетики, воздухоплавания, радио, строительства. Традиционный русский максимализм, ярко проявившийся еще в движении “передвижников” и “шестидесятников” девятнадцатого столетия, был лишь усилен русской революцией и привел к тому, что Советская Россия стала родиной авангардного искусства. Проходившая в 1992-1993 гг. в США, Западной Европе и Москве выставка русского авангарда 1915-1932 гг. была названа “Великая Утопия”. Как сказано в предисловии к каталогу выставки, “утопия двигала историю России и заключала в себе несоответствие действительности”, поэтому и оценивать однозначно такое сложное явление невозможно. Идеология авангардизма несет в себе разрушительную силу. В 1910 г., по словам Бердяева, в России подрастало “хулиганское поколение”. Агрессивная молодежь, в основном состоящая из идейно убежденных и самоотверженных нигилистов, ставила целью своей жизни разрушение всех культурных ценностей, что не могло не вызвать беспокойства культурных и здравомыслящих людей”. Однако авангардизму всегда была присуща и другая, коммерческая сторона. Сознательное пренебрежение школой и сложностью изобразительной формы есть наиболее легкий путь, привлекающий тех, кому нравится с большой выгодой для себя дурачить простаков, недостаточно культурную публику, малообразованных критиков и невежественных меценатов. Ведь для того, чтобы в полной мере осознать внутреннюю пустоту авангардизма нужен немалый “зрительный опыт”. Чем элементарнее искусство, тем многозначительнее оно кажется неопытному зрителю. В нашей стране на этапе становления дизайна формообразующие процессы протекали в чрезвычайно своеобразных конкретно-исторических условиях. Главное – это прорыв в новое, в котором соединились новаторские поиски как общестилевые, так и социальные, что и придало процессу становления советского дизайна ряд черт, принципиально отличавших его от процессов формирования дизайна в других странах. В Западной Европе формирование дизайна в первой трети ХХ века стимулировалось прежде всего стремлением промышленных фирм повысить конкурентоспособность своих изделий на мировых рынках. В России до революции подобный заказ со стороны промышленности еще не сформировался. Не было его и в первые послереволюционные годы. Промышленность находилась в таком состоянии, что вопросы дизайна не были первоочередными. В нашей стране главным импульсом становления дизайна была не промышленность. Движение это зародилось вне промышленной сферы. С одной стороны, оно опиралось на художников левых течений, а с другой – на теоретиков (историков и искусствоведов). Поэтому производственное искусство и носило ярко выраженный социально-художественный характер. Производственники, как бы от имени и по поручению нового общества, сформулировали социальный заказ промышленности. Причем этот социальный заказ носил во многом агитационно-идеологический характер. Сферой приложения зарождавшегося дизайна были: праздничное оформление, плакат, реклама, книжная продукция, оформление выставок, театр и т. д. Это и предопределило активное участие в нем прежде всего художников в первое пятилетие (1917-1922 гг.). В следующее десятилетие развития советского дизайна (1922-1932 гг.) все большее значение приобретают социально-типологические и функционально-конструктивные проблемы. Процессы перестройки быта и формирования новых в социальном отношении типов зданий сформулировали новый социальный заказ не только в архитектурно-строительном деле, но и в сфере оборудования интерьеров. Среди пионеров советского дизайна, тех, кто включился в процесс формирования производственного искусства в первые пятнадцать лет после Октябрьской революции, можно условно выделить три поколения. Художники первого поколения, как правило, еще до революции получили систематическое художественное образование и активно участвовали в формировании и развитии левых течений изобразительного искусства. Одной из важных особенностей этапа становления советского дизайна было то, что в этом виде творчества в те годы почти не было художников, которых можно было бы считать только дизайнерами. Это В. Татлин, К. Малевич, А. Родченко, А. Веснин, Л. Попова, А. Лавинский, Л. Лисицкий, А. Экстер, В. Степанова, Г. Клуцис, А. Ган и др. Пионеры советского дизайна второго поколения – это те, кто (по возрасту или по другим причинам) не успел до революции получить систематическое художественное образование. Многие из них не имели достаточных профессиональных навыков, им практически не от чего было отказываться в своем творчестве. Недостаточная художественная профессионализация при ориентации на изобразительную выдумку была характерна для второго поколения пионеров советского дизайна. Многие из них, собственно, никогда и не были профессиональными художниками и скульпторами. Однако именно на них легла основная тяжесть массовой практической работы. Если их старшие товарищи в 30-е гг., то есть после того, как идеи производственного искусства потеряли популярность, вернулись к своей прежней профессии, то этим художникам-конструкторам некуда было уходить – они так и остались работать в области художественного оформления.
12. Баухауз – первая школа дизайна.
В 1919 году в небольшом германском городе Веймаре был создан "Баухауз" (буквально "Строительный дом"), первое учебное заведение, призванное готовить художников для работы в промышленности. Школа, по мнению ее организаторов, должна была выпускать всесторонне развитых людей, которые сочетали бы в себе художественные, духовные и творческие возможности. Прежние художественные школы не выходили за пределы ремесленного производства. Во главе "Баухауза" стал его организатор, прогрессивный немецкий архитектор Вальтер Гропиус, ученик Петера Беренса. В короткое время "Баухауз" стал подлинным методическим центром в области дизайна. В числе его профессоров были крупнейшие деятели культуры начала XX столетия архитекторы Мис ван дер Роэ, Ганнес Майер, Марсель Брейер, художники Василий Кандинский, Пауль Клее, Лионель Фенингер, Пит Мондриан.
Начало деятельности "Баухауза" проходило под влиянием утопических идей о возможности переустройства общества путем создания гармонической предметной среды. Архитектура рассматривалась как "прообраз социальной согласованности", признавалась началом, объединяющим искусство, ремесло и технику. Студенты с первого курса занимались по определенной специализации (керамика, мебель, текстиль и т. п.). Обучение разделялось на техническую подготовку и художественную подготовку. Занятие ремеслом в мастерской института считалось необходимым для будущего дизайнера, потому что, только изготовляя образец (или эталон), студент мог ощутить предмет как некоторую целостность и, выполняя эту работу, контролировать себя. Минуя непосредственное общение с предметом, будущий художник-конструктор мог стать жертвой одностороннего ограниченного "машинизма", поскольку современное производство делит процесс создания вещи на разобщенные операции. Но, в отличие от традиционного ремесленного училища, студент "Баухауза" работал не над единичным предметом, а над эталоном для промышленного производства.
Не приходится говорить о том, что изделия "Баухауза" несли на себе ощутимый отпечаток живописи, графики и скульптуры 20-х годов с характерным для того времени увлечением кубизмом, разложением общей формы предмета на составляющие ее геометрические формы. Образцы, выполненные в стенах школы, отличает энергичный ритм линий и пятен, чистый геометризм предметов из дерева и металла. Чайники, например, могли быть скомпонованы из тира, усеченного конуса, полукружия, а в другом варианте - из полукружия, полусферы и цилиндров. Все переходы от одной формы к другой предельно обнажены, нигде нельзя найти желания их смягчить, все это подчеркнуто контрастно и заострено. Текучесть силуэта можно проследить в изделиях из керамики, но это выражение свойств материала - обожженной глины. Какими аморфными показались бы по сравнению с ними предметы времен модерна! Но основная разница между ними даже не в сопоставлении энергии баухаузовских вещей с нарочитой вялостью модерна. "Баухауз" искал конструктивность вещи, подчеркивал ее, выявлял, а иногда и утрировал там, где, казалось бы, ее нелегко было найти (в посуде, например). Напряженные поиски новых конструктивных решений, подчас неожиданных и смелых, особенно характерны были в мебельном производстве: в "Баухаузе" родились многие схемы, сделавшие подлинную революцию (деревянные кресла Ритфельда, сиденья на металлической основе Марселя Брейера и многое другое). Техническая подготовка студентов подкреплялась изучением станков, технологии обработки металла и других материалов. Вообще изучению материалов придавалось исключительно большое значение, так как правдивость использования того или другого материала была одной из основ эстетической программы "Баухауза". Новаторским был и сам принцип художественной подготовки. В прежних школах обучение живописи, рисунку, скульптуре по давней традиции носило пассивный характер и освоение мастерства происходило в процессе, почти исключавшем анализ натуры. "Баухауз" считал, что одного только усвоения мастерства недостаточно для того, чтобы привлечь пластические искусства на службу промышленности. Поэтому, кроме обычных натурных зарисовок, технического рисования, на всех курсах шло беспрерывное экспериментирование, в процессе которого студенты изучали закономерности ритма, гармонии, пропорции (как в музыке изучается контрапункт, гармония, инструментовка). Студенты овладевали всеми тонкостями восприятия, формообразования и цветосочетания. "Баухауз" стал подлинной лабораторией архитектуры и проектирования промышленных изделий. Очень интересна эволюция "Баухауза". Основанный путем объединения Веймарской академии художеств и школы Ван де Вельде, он первое время продолжал некоторые их традиции. Со временем влияние предшественников было утрачено. Важным в этом плане было постепенное упразднение таких "рукотворных", ремесленных специальностей, как скульптура, керамика, живопись на стекле, и большее приближение к требованиям промышленности, жизни. Вместо резной мебели из стен "Баухауза" стали выходить модели для массового изготовления, в частности образцы сидений М. Брейера. Важной вехой в истории "Баухауза" был переезд училища из тихого патриархального Веймара в промышленный город Дессау. Здесь по проекту самого Гропиуса было построено замечательное, вошедшее в золотой фонд мировой архитектуры специальное учебное здание, объединяющее учебные аудитории, мастерские, общежитие студентов, кварры профессоров. Это здание было во всех отношениях манифестом новой архитектуры - разумной и функциональной.
Внутреннее оборудование квартиры самого Гропиуса, спроектированное им самим совместно с Брейером, по своей демократической основе было моделью прогрессивного жилища будущего. Оно отличалось удивительной скромностью, удобствами и во многом предвосхитило основные тенденции построения бытового пространства с его простором, обилием воздуха, отсутствием корпусной мебели. Примечательно не только общее решение, но и отдельные детали интерьера - светильники, блоки кухонной мебели и многое другие.
На факультете металла проектировались образцы для местной фабрики; созданные в институте образцы обоев и обивочных тканей служили основой для фабричного производства массовой продукции. В последние годы существования "Баухауза", когда во главе его стал Ганнес Майер, особенно повысилась теоретическая подготовка студентов. Для изучения запросов массового потребителя, для того чтобы знать его нужды, постичь его вкусы, изучалась социология и экономика. Чтобы понять процесс производства, студенты должны были пройти непосредственно все его этапы. Такой метод изучения позволял им всесторонне освоить воздействие внешней формы предмета, особенности восприятия формы, фактуры, цвета, познакомиться с оптикой, цветоведением, физиологией. Время, когда художник мог рассчитывать только на интуицию и личный опыт, как считали руководители "Баухауза", ушло безвозвратно; студент формировался как всесторонне развитая творческая личность. Прогрессивность "Баухауза", передовые взгляды его профессуры вызывали недовольство местных властей. В 1930 году Майер отстраняется от руководства институтом. Во главе "Баухауза" становится замечательный архитектор Мис ван дер Роэ, но существовать "Баухаузу" остается недолго. Сразу после прихода нацистов к власти в 1933 году он ликвидируется. Большинство руководителей "Баухауза", в том числе Гропиус, Мис ван дер Роэ, Моголи Надь, навсегда уезжают из страны. Значение "Баухауза" трудно переоценить. Он не только был примером организации обучения дизайнеров, но и подлинной научной лабораторией архитектуры и художественного конструирования. Методические разработки в области художественного восприятия, формообразования, цветоведения легли в основу многих теоретических трудов и не потеряли до сих пор своей научной ценности.
Александр III был не только великим политиком, но и поклонником, распространителем искусств в Российской империи. Он профессионально играл на тромбоне и баритон-геликоне, высоко ценил музыку Петра Чайковского, участников могучей кучки – Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Александра Бородина, Цезаря Кюи, Милия Балакирева. Его заботой была повсеместная поддержка национальной музыкальной культуры. Александр очень любил русские народные инструменты и даже ввел балалайку как обязательный инструмент для солдат российской армии. О самых интересных сторонах личности императора-миротворца расскажет писатель, историк Александр Мясников.
Музыкальную часть мероприятия наполнят шедевры Штрауса, Чайковского, Глинки, исполненные на народных инструментах. Виртуозы из Оркестра русских народных инструментов откроют абсолютно новые грани классической музыки.
Молодецкую удаль в концерт привнесет замечательный коллектив «Унисон балалаек». В качестве солисток в этот вечер выступят заслуженная артистка России Наталья Шкребко (домра) и Ольга Красницкая (гусли).
Романсы, которые Чайковский посвятил супруге императора, принцессе Дагмар, исполнит заслуженная артистка России, звезда Мариинского театра сопрано Ольга Трифонова. Вряд ли кого-нибудь оставит равнодушным волнующий баритон и яркий артистизм солиста Мариинского театра Григория Чернецова.
Проект «Музыка российской государственности» – цикл из десяти мультимедийных концертов в сопровождении увлекательного повествования историка Александра Мясникова, который осуществлён с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Концерт будет транслироваться в режиме онлайн на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание» .
Лазарь (Мордухович) Лисицкий. Красный клин. Плакат. 1919.
Связь революции и художественных практик авангарда внешне выглядит случайной и иррациональной. Но эта "случайная связь" регулярно воспроизводится с каждой новой революцией, превращаясь в серийное событие. Уже одно это обстоятельство позволяет видеть в данном феномене некую объективную закономерность. Встреча авангарда и революции предопределена самой истории. Но суть данной предопределённости, если использовать язык Хайдеггера, нуждается в прояснении.
Американский арт-критик Клемент Гринберг пишет о том, что в 1931-33 годах нацисты проявляли интерес к немецкому экспрессионизму. Но после прихода НСДАП к власти моментально осуществился поворот к классической парадигме в искусстве. Гринберг объясняет его следующим образом: «массы, именно потому, что были лишены власти, следовало ублажать всеми прочими подручными способами. Необходимо было масштабнее, чем это принято демократиями, продвинуть иллюзию реальной власти масс. Литературу и искусство, которые нравятся массам и которые им понятны, следовало объявить единственно подлинными литературой и искусством, а все прочее следовало уничтожить». Ситуация в сфере искусства, сложившаяся в фашистской Италии ещё более показательна. Итальянский фашизм изначально имел очень тесные связи с футуризмом, но по мере укрепления своей диктатуры Муссолини совершает поворот от футуризма к «имперскому стилю», означающий явный возврат к дореволюционной, реалистической парадигме. В СССР отход от авангарда произошёл в 1930-1933 годах.
Судьба авангарда в послереволюционном обществе органично связана с судьбой самой революции. Революционное искусство не может не быть авангардным; или, по-другому: оно не может быть реалистическим. - Невозможно ориентироваться на реальность и одновременно взрывать её. А именно этим и занимается революционная эпоха. Говоря метафорически, революция - это взрыв реальности. Любая революция претендует на создание новых онтологических оснований социального бытия и, соответственно, бытия вообще. Социальная жизнь всегда связана с определённым мифом (или комплексом мифов), в рамках которого социальность обретает особый смысл. Революция противопоставляет старому мифу свой собственный. Вне этого нового мифа революция невозможна в принципе.
В связи с этим одним из важнейших вопросов является вопрос об изначальном топосе революционного мифа - о той точке в культурном пространстве, в которой этот миф рождается.
На этот вопрос легче ответить, отсекая от этой точки всё, что к ней не относится. И в первую очередь необходимо признать, что подлинный революционный миф не создаётся теоретической мыслью. Это наглядно демонстрирует история русской революции. При том, что формально революция руководствовалась принципами марксизма и во главе её находилась марксистская партия (Антонио Грамши в связи с этим прямо называет её «марксистской революцией»), отнюдь не марксизм стал создателем революционного мифа. Миф русской революции сконцентрирован в лозунге осени 1917 года: «Мир народам! Фабрики рабочим! Земля крестьянам!». Он отражает массовые настроения, а не является проекцией марксистских теоретических схем. Более того, он в значительной степени этим схемам противоречит, что наглядно продемонстрировала советская коллективизация 1930-х. Теоретическая мысль связана со сферой гносеологии, она требует понимания и исключительно понимания. А революция живёт пафосом, и революционный миф, соответственно, это не только сфера понимания, но и сфера переживания. Более того, в данном случае именно переживание более значимо, более первично, нежели понимание. И любой рационализм, замыкающийся на самого себя, для революции неприемлем. Взрыв реальности напрямую связан с деконструкцией всех дореволюционных типов рационализма.
Взрыв реальности противопоставляет Логосу Желание. Желание иррационально.
Революционная программа в момент своего непосредственного осуществления, т.е. в момент революции как таковой, вообще не нуждается в рациональном обосновании. Лозунг «Мир народам! Фабрики рабочим! Земля крестьянам!» выступает в качестве самоочевидной истины, а самоочевидное не нуждается в обосновании. Его главное требование к субъекту - это требование причастности. Ален Бадью определяет подобную истину как истину религиозную . Она заполняет собою сферу священного, по отношению к которому со стороны субъекта возможен только один адекватный ответ: жертвенность и служение. Любая рефлексия по поводу священного, претендующая на объективизм, сразу же вытесняет субъекта такой рефлексии за пределы священного, обрекая его на роль постороннего по отношению к священному, религии, с ним связанной, и событиям, инициированным священным.
Но революция, являясь религиозным событием, не создаёт религии внутри себя - религии, как некоего имманентного элемента, существующего внутри революционного процесса. С точки зрения религии революция слишком хаотична, спонтанна и неуправляема. Революция движима "творчеством масс", её смысловая конфигурация видоизменяется с каждым новым моментом её осуществления. Революция не религиозна, а мифологична. Она живёт мифом и творит миф. Постреволюционное время создаст на основе мифа религию, предполагающую наличие канонов, ритуалов, официальной истории, по отношению к которой всё, что к ней не относится, обретает статус апокрифа, и жёсткую иерархию священства, ограничивающую, помимо прочего, возможности индивидуальных, спонтанных пророчеств. Но сама революция ничего этого пока ещё не знает.
Это замечание актуально и для истории христианства. Никакой христианской религии не существовало ни в I веке, ни в первой трети II века. В это время существовала христианская мифология. К середине второго столетия своей истории эта мифология была взята под контроль активно формирующимся священством. Одним из первых действий этого священства стал запрет на индивидуальные пророчества - на спонтанное слышание «голосов». Право на дальнейшее развитие христианского мировоззрения перешло от улицы к храму. Теперь только храм определяет действительное происхождение «голоса», наделяя всё, что противоречит официальному учению, метками «иллюзорного» и «демонического». Так на основе христианского мифа рождается христианская религия.
Революционный миф рождается на улице, но улица не способна к самолегитимации. Легитимация предполагает "вписывание" нового элемента в концептуальное пространство культуры, а именно туда для улицы двери закрыты. В этой ситуации единственным инструментом, способным легитимировать революционный миф, оказывается искусство. И именно поэтому оно, встав на службу революции, неизбежно превращается в искусство авангардистское. Выбор между эстетикой авангарда и эстетикой реализма в этой ситуации отражает экзистенциальный выбор между Революцией и контрреволюцией.
Когда в рамках новой, созданной революцией истории, декларируется возврат к принципам реалистической эстетики, это означает, что послереволюционное время превратилось в ПОСТРЕВОЛЮЦИОННОЕ. Послереволюционное время решает революционные задачи в условиях резкого снижения социального напряжения и перехода от практики прямого насилия к социальному регулированию на основе конституционных и законодательных норм; это - продолжение революции, только иными иными средствами. ПОСТРЕВОЛЮЦИОННОСТЬ - это принципиально новая фаза исторического процесса, означающая, что революция закончилась. Время господства Желания уходит, сменяясь временем утверждения Нового Логоса.
В те же моменты, когда искусство возвращается к принципам реализма, формируется новая модель рациональности, революционная мифология превращается в революционную религию. Отчасти можно согласиться с Гринбергом: в новой ситуации голос улицы уступает место голосу церкви. И от масс в этих новых условиях требуются не действия, направленные на созидание основ нового мира, а внутренняя мобилизация, направленная на осуществление проекта, первичного по отношению к любой социальной инициативе.
Соответственно, и искусство эпохи взрыва уступает место искусству эпохи мобилизации. Требование спонтанности сменяется требованием планомерной, монотонной ежедневной работы.
В этом контексте "обратный переход" от авангарда к реализму выглядит вполне объяснимым и закономерным. Искусство становится на службу постреволюционному проекту - наследнику Революции. Но при этом очевидным является и следующее: постреволюционный проект на онтологическом уровне всегда меньше события, его породившего. Стремления революции всегда превосходят то, что способен обещать постреволюционный проект. В этом контексте связь постреволюционного времени с революцией изначально двойственна: постреволюционное действие в той степени, в какой оно следует в направлении, указанном революцией, демонстрирует свою верность ёё идеалам, но, т.к. оно всегда меньше того, о чём грезила революция, постреволюционность оказывается временем неизбежного предательства этих идеалов. И эта двойственность неизбежно распространяется и на постреволюционное искусство.
То же самое можно сказать и к отношениях между мифом и религией. Религия опирается на миф, конкретизирует его, но, в то же время, и дистанцируется от него. Религиозное общество - общество постреволюционное. Оно живёт воспоминанием о своей прекрасной, мифологической (революционной) эпохе, творившей в соответствии с изречением Апостола Павла «люби Бога и делай что хочешь», но чувствует и действует уже в соответствии с реалиями иного времени, - в ситуации возвращения власти Закона.
Переход от революции к постреволюции - событие неизбежное и необходимое. Такой переход является условием существования общества, важнейшим элементом самосохранения. И в этом контексте то, что многими критиками сталинской политики характеризовалось как «предательство революции», «извращение революционного духа», является всего лишь конкретным проявлением некоторого общего закона исторической жизни. «Дети предают отцов»… Не является ли предательство всего лишь частным моментом становления исторического процесса? Чем-то таким, что запрограммированно в самом процессе изначально, что заложено в «кровь и плоть» истории в качестве важнейшего условия её реального существования?
Постреволюционный авангард стремительно смещается к окраинам художественной жизни, превращаясь в нечто среднее между «прекрасным воспоминанием» и маргинальностью. Одновременно происходит и глобальное изменение его отношения к социальной жизни. Связь с реальностью, глубинная укоренённость в ней сменяются «движением прочь» - уходом, часто принимающим форму бегства. Поздний авангард уклоняется от всех устойчивых связей с миром. Его новым, действительным пафосом становится онтологическая пустота. Соответственно, трансформируется и социальная база этого художественного явления. Теперь авангард - стиль всех тех, кто по каким-либо причинам не вписался в постреволюционный проект, превратив себя, тем самым, в духовных и социальных аутсайдеров.
Функциональный топос в идеационном пространстве культуры подвижен и переменчив. И жизнь любого культурного феномена в этом пространстве неизбежно обретает номадический характер. Ситуации смещения в сторону границ культурного поля, погружение в почву, в подполье никогда не являются чем-то окончательным, необратимым. Главная беда авангарда - в неизбежности существования периодов относительной стабильности в жизни общества. Но любая стабильность временна. И когда вспыхивает пламя новой революции авангард возвращается в эпицентр социального взрыва чтобы потом, сделав своё дело, вновь уйти на окраины… Гегелевская спираль времени - это всего лишь частная модификация круга.