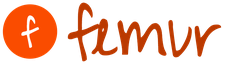Подготовка к егэ по русскому языку - коллекция текстов. Проблема дурных поступков
Отправку на фронт встретили с радостью.
Лейтенант, которому была вручена маршевая рота, сбился с маршрута, шестые сутки мы блуждали по степи, а продпункты, на которых мы должны были получать пропитание, оставались где-то, бог весть, в стороне. Давно был съеден НЗ, четвертый день никто ничего не ел. Шли, и падающих помкомвзводы подымали сапогами…
Еще в Пологом Займище я сошелся с одним старшим сержантом. Он относился ко мне покровительственно, свысока, и я за это был ему благодарен. Солдат кадровой службы, лет под тридцать, для меня многоопытный старик. Ему нравилось учить меня житейской мудрости, которая вся вмещалась в одно слово - «находчивость». Под ним подразумевалось умение обмануть, и главным образом старшину. Ходячее мнение - нет во всех вооруженных силах такого старшины, который бы не обворовывал солдат. Я совсем не обладал находчивостью, страдал от этого, презирал себя.
Нет, нет, во время похода старший сержант не был рядом со мной, не руководил мною. Истощенные, движущиеся, как тени, мы уже не в состоянии были проявлять друг к другу внимание, каждый боролся за себя в одиночку.
Очередной хутор на нашем пути, населенный не мирными жителями, а военными. Мы все попадали на обочину дороги, а наш бестолковый лейтенант в сопровождении старшины отправился выяснять обстановку.
Через полчаса старшина вернулся.
Ребята! - объявил он вдохновенно. - Удалось вышибить: на рыло по двести пятьдесят граммов хлеба и по пятнадцати граммов сахара!
Восторга сообщение старшины, разумеется, не вызвало. Каждый мечтал, что в конце концов нам выдадут за все голодные дни - ешь до отвала. А тут, как милостыню, кусок хлеба.
Ладно, ладно вам! Понимать должны - от себя люди оторвали, имели право послать нас по матушке… Кто со мной получать хлеб?.. Давай ты! - Я лежал рядом, и старшина ткнул в меня пальцем.
Дом с невысоким крылечком. Прямо на крыльце я расстелил плащ-палатку, на нее стали падать буханки - семь и еще половина. Мягкий пахнущий хлеб!
В ту секунду, когда старшина ткнул в меня пальцем - "Давай ты!" - у меня вспыхнула мыслишка… о находчивости, трусливая, гаденькая и унылая. Я и сам не верил ей - где уж мне…
Тащился с плащ-палаткой за старшиной, а мыслишка жила и заполняла меня отравой. Я расстилал плащ-палатку на затоптанном крыльце, и у меня дрожали руки. Я ненавидел себя за эту гнусную дрожь, ненавидел за трусость, за мягкотелую добропорядочность, за постоянную несчастливость - не находчив, не умею жить, никогда не научусь! Ненавидел и в эти же секунды успевал мечтать: принесу старшему сержанту хлеб, он хлопнет меня по плечу, скажет: "Э-э, да ты, брат, не лапоть!"
Старшина на секунду отвернулся, и я сунул полбуханки под крыльцо, завернул хлеб в плащ-палатку, взвалил ее себе на плечо.
Плотный, невысокий, чуть кривоногий старшина вышагивал впереди меня поступью спасителя, а я тащился за ним, сгибаясь под плащ-палаткой, и с каждым шагом все отчетливей осознавал бессмысленность и чудовищность своего поступка. Только идиот может рассчитывать, что старшина не заметит исчезновения перерубленной пополам буханки. К полученному хлебу никто не прикасался, кроме него и меня. Военная находчивость, да нет - я вор, и сейчас, вот сейчас, через несколько минут это станет известно… Да, тем, кто, как и я, пятеро суток ничего не ел. Как и я!
В жизни мне случалось делать нехорошее - врал учителям, чтоб не поставили двойку, не раз давал слово не драться со своим уличным врагом Игорем Рявкиным, и не сдерживал слова, однажды на рыбалке я наткнулся на чужой перепутанный перемет, на котором сидел толстый, как полено, пожелтевший от старости голавль, и снял его с крюка… Но всякий раз я находил для себя оправдание: наврал учителю, что был болен, не выучил задание - надо было дочитать книгу, которую мне дали на один день, подрался снова с Игорем, так тот сам полез первый, снял с чужого перемета голавля - рыбацкое воровство! - но перемет-то снесло течением, перепутало, сам хозяин его ни за что бы не нашел…
Теперь я и не искал оправданий. Ох, если б можно вернуться, достать спрятанный хлеб, положить его обратно в плащ-палатку! Но, расправив плечи, заломив фуражку, вышагивал старшина-кормилец, ни на шаг нельзя от него отстать.
Я был бы рад, если б сейчас налетели немецкие самолеты, шальной осколок - и меня нет. Смерть - это так привычно, меня сейчас ждет что-то более страшное.
С обочины дороги навстречу нам с усилием - ноет каждая косточка - стали подыматься солдаты. Хмурые, темные лица, согнутые спины, опущенные плечи.
Старшина распахнул плащ-палатку, и куча хлеба была встречена почтительным молчанием.
В этой-то почтительной тишине и раздалось недоуменное:
А где?.. Тут полбуханка была!
Произошло легкое движение, темные лица повернулись ко мне, со всех сторон - глаза, глаза, жуткая настороженность в них.
Эй ты! Где?! Тебя спрашиваю!
Я молчал.
Да ты что - за дурака меня считаешь?
Мне больше всего на свете хотелось вернуть украденный хлеб: да будь он трижды проклят! Вернуть, но как? Вести людей за этим спрятанным хлебом, доставать его на глазах у всех, совершить то, что уже совершил, только в обратном порядке? Нет, не могу! А ведь еще потребуют: объясни - почему, оправдывайся…
Скуластое лицо старшины, гневное вздрагивание нацеленных зрачков. Я молчал. И пыльные люди с темными лицами обступали меня.
Я же помню, братцы! Из ума еще не выжил - полбуханки тут было! На ходу тиснул!
Пожилой солдат, выбеленно голубые глаза, изрытые морщинами щеки, сивый от щетины подбородок, голос без злобы:
Лучше, парень, будет, коли признаешься.
Я окаменело молчал.
И тогда взорвались молодые:
У кого рвешь, гнида?! У товарищей рвешь!
У голодных из горла!
Он больше нас есть хочет!
Рождаются же такие на свете…
Я бы сам кричал то же и тем же изумленно-ненавидящим голосом. Нет мне прощения, и нисколько не жаль себя.
А ну, подыми морду! В глаза нам гляди!
И я поднял глаза, а это так трудно! Должен поднять, должен до конца пережить свой позор, они правы от меня этого требовать. Я поднял глаза, но это вызвало лишь новое возмущение:
Гляньте: пялится, не стыдится!
Да какой стыд у такого!
Ну и люди бывают…
Не люди - воши, чужой кровушкой сыты!
Парень, повинись, лучше будет.
Да что с ним разговаривать! - Один из парней вскинул руку.
И я невольно дернулся. А парень просто поправил на голове пилотку.
Не бойся! - с презрением проговорил он. - Бить тебя… Руки пачкать.
А я хотел возмездия, если б меня избили, если б!.. Было бы легче. Я дернулся по привычке, тело жило помимо меня, оно испугалось, не я.
И неожиданно я увидел, что окружавшие меня люди поразительно красивы - темные, измученные походом, голодные, но лица какие-то граненые, четко лепные, особенно у того парня, который поправил пилотку: "Бить тебя - руки пачкать!" Каждый из обступивших меня по-своему красив, даже старик солдат со своими голубенькими глазками в красных веках и сивым подбородком. Среди красивых людей - я безобразный.
Пусть подавится нашим хлебом, давайте делить, что есть.
Старшина покачал перед моим носом крепким кулаком.
Не возьмешь ты спрятанное, глаз с тебя не спущу! И здесь тебе - не жди - не отколется.
Он отвернулся к плащ-палатке.
Господи! Мог ли я теперь есть тот преступный хлеб, что лежал под крыльцом, - он хуже отравы. И на пайку хлеба я рассчитывать не хотел. Хоть малым, да наказать себя!
На секунду передо мной мелькнул знакомый мне старший сержант. Он стоял все это время позади всех - лицо бесстрастное, считай, что тоже осуждает. Но он-то лучше других понимал, что случилось, возможно, лучше меня самого. Старший сержант тоже казался сейчас мне красивым.
В жизни мне случалось делать нехорошее - врал учителям, чтоб не поставили двойку, не раз давал слово не драться со своим уличным врагом Игорем Рявкиным, и не сдерживал слова, однажды на рыбалке я наткнулся на чужой перепутанный перемет, на котором сидел толстый, как полено, пожелтевший от старости голавль, и снял его с крюка… Но всякий раз я находил для себя оправдание: наврал учителю, что был болен, не выучил задание - надо было дочитать книгу, которую мне дали на один день, подрался снова с Игорем, так тот сам полез первый, снял с чужого перемета голавля - рыбацкое воровство! - но перемет-то снесло течением, перепутало, сам хозяин его ни за что бы не нашел…
Теперь я и не искал оправданий. Ох, если б можно вернуться, достать спрятанный хлеб, положить его обратно в плащ-палатку! Но, расправив плечи, заломив фуражку, вышагивал старшина-кормилец, ни на шаг нельзя от него отстать.
Я был бы рад, если б сейчас налетели немецкие самолеты, шальной осколок - и меня нет. Смерть - это так привычно, меня сейчас ждет что-то более страшное.
С обочины дороги навстречу нам с усилием - ноет каждая косточка - стали подыматься солдаты. Хмурые, темные лица, согнутые спины, опущенные плечи.
Старшина распахнул плащ-палатку, и куча хлеба была встречена почтительным молчанием.
В этой-то почтительной тишине и раздалось недоуменное:
А где?.. Тут полбуханка была!
Произошло легкое движение, темные лица повернулись ко мне, со всех сторон - глаза, глаза, жуткая настороженность в них.
Эй ты! Где?! Тебя спрашиваю!
Я молчал.
Да ты что - за дурака меня считаешь?
Мне больше всего на свете хотелось вернуть украденный хлеб: да будь он трижды проклят! Вернуть, но как? Вести людей за этим спрятанным хлебом, доставать его на глазах у всех, совершить то, что уже совершил, только в обратном порядке? Нет, не могу! А ведь еще потребуют: объясни - почему, оправдывайся…
Скуластое лицо старшины, гневное вздрагивание нацеленных зрачков. Я молчал. И пыльные люди с темными лицами обступали меня.
Я же помню, братцы! Из ума еще не выжил - полбуханки тут было! На ходу тиснул!
Пожилой солдат, выбеленно голубые глаза, изрытые морщинами щеки, сивый от щетины подбородок, голос без злобы:
Лучше, парень, будет, коли признаешься.
Я окаменело молчал.
И тогда взорвались молодые:
У кого рвешь, гнида?! У товарищей рвешь!
У голодных из горла!
Он больше нас есть хочет!
Рождаются же такие на свете…
Я бы сам кричал то же и тем же изумленно-ненавидящим голосом. Нет мне прощения, и нисколько не жаль себя.
А ну, подыми морду! В глаза нам гляди!
И я поднял глаза, а это так трудно! Должен поднять, должен до конца пережить свой позор, они правы от меня этого требовать. Я поднял глаза, но это вызвало лишь новое возмущение:
Гляньте: пялится, не стыдится!
Да какой стыд у такого!
Ну и люди бывают…
Не люди - воши, чужой кровушкой сыты!
Парень, повинись, лучше будет.
Да что с ним разговаривать! - Один из парней вскинул руку.
И я невольно дернулся. А парень просто поправил на голове пилотку.
Не бойся! - с презрением проговорил он. - Бить тебя… Руки пачкать.
А я хотел возмездия, если б меня избили, если б!.. Было бы легче. Я дернулся по привычке, тело жило помимо меня, оно испугалось, не я.
И неожиданно я увидел, что окружавшие меня люди поразительно красивы - темные, измученные походом, голодные, но лица какие-то граненые, четко лепные, особенно у того парня, который поправил пилотку: "Бить тебя - руки пачкать!" Каждый из обступивших меня по-своему красив, даже старик солдат со своими голубенькими глазками в красных веках и сивым подбородком. Среди красивых людей - я безобразный.
Пусть подавится нашим хлебом, давайте делить, что есть.
Старшина покачал перед моим носом крепким кулаком.
Не возьмешь ты спрятанное, глаз с тебя не спущу! И здесь тебе - не жди - не отколется.
Он отвернулся к плащ-палатке.
Господи! Мог ли я теперь есть тот преступный хлеб, что лежал под крыльцом, - он хуже отравы. И на пайку хлеба я рассчитывать не хотел. Хоть малым, да наказать себя!
На секунду передо мной мелькнул знакомый мне старший сержант. Он стоял все это время позади всех - лицо бесстрастное, считай, что тоже осуждает. Но он-то лучше других понимал, что случилось, возможно, лучше меня самого. Старший сержант тоже казался сейчас мне красивым.
Когда хлеб был разделен, а я забыто стоял в стороне, бочком подошли ко мне двое: мужичонка в расползшейся пилотке, нос пуговицей, дряблые губы во влажной улыбочке, и угловатый кавказец, полфизиономии погружено в мрачную небритость, глаза бархатные.
Братишечка, - осторожным шепотком, - ты зря тушуешься. Три к носу - все пройдет.
Правыл-но сдэлал. Ма-ла-дэц!
Ты нам скажи - где? Тебе-то несподручно, а мы - мигом.
Дэлым на тры, па совесты!
Я послал их, как умел.
Мы шли еще более суток. Я ничего не ел, но голода не чувствовал. Не чувствовал я и усталости. Много разных людей прошло за эти сутки мимо меня. И большинство поражало меня своей красотой. Едва ли не каждый… Но встречались и некрасивые.
Мужичонка с дряблыми губами и небритый кавказец - да, шакалы, но все-таки они лучше меня - имеют право спокойно говорить с другими людьми, шутить, смеяться, я этого не достоин.
Во встречной колонне двое озлобленных и усталых солдат тащат третьего - молод, растерзан, рожа полосатая от грязи, от слез, от распущенных соплей. Раскис в походе, «лабушит» - это чаще бывает не от физической немочи, от ужаса перед приближающимся фронтом. Но и этот лучше меня - «оклемается», мое - непоправимо.
На повозке тыловик старшина - хромовые сапожки, ряха, как кусок сырого мяса, - конечно, ворует, но не так, как я, чище, а потому и честней меня.
А на обочине дороги возле убитой лошади убитый ездовой (попал под бомбежку) - счастливей меня.
Тогда мне было неполных девятнадцать лет, с тех пор прошло тридцать три года, случалось в жизни всякое. Ой нет, не всегда был доволен собой, не всегда поступал достойно, как часто досадовал на себя! Но чтоб испытывать отвращение к себе - такого не помню.
Ничего не бывает страшнее, чем чувствовать невозможность оправдать себя перед самим собой. Тот, кто это носит в себе, - потенциальный самоубийца.
Мне повезло, в роте связи гвардейского полка, куда я попал, не оказалось никого, кто видел бы мой позор. Но какое-то время я не падал на землю при звуке приближающегося снаряда, ходил под пулями, распрямившись во весь рост, - убьют, пусть, нисколько не жалко. Самоубийство на фронте - зачем, когда и так легко найти смерть.
Мелкими поступками раз за разом я завоевывал себе самоуважение - лез первым на обрыв линии под шквальным обстрелом, старался взвалить на себя катушку с кабелем потяжелей, если удавалось получить у повара лишний котелок супа, не считал это своей добычей, всегда с кем-то делил его. И никто не замечал моих альтруистических «подвигов», считали - нормально. А это-то мне и было нужно, я не претендовал на исключительность, не смел и мечтать стать лучше других.
В нравственности наше будущее. В. Тендряков
Спасайте души. Б. Чичибабин
В наше непростое время, когда стира-ются понятия между добром и злом, нравственным и безнравственным, полезно обратиться к честному, совестливому писателю, которого всегда волновало нравственное здоровье народа.
Урок начинается с прослушивания стихотворения Бориса Чичибабина.
Живу на даче. Жизнь чудна.
Свое повидло.
А между тем еще одна
|
П . А . Кривоногов . Победа . 1941 - 1947 |
Душа погибла.
У мира прорва бедолаг.
О сей минуте
Кою-то держат в кандалах.
Как при Малюте.
Я только-только дотяну
Вот ту строчку.
А кровь людская не одну
Зальет сорочку.
Уже за мной стучатся в дверь,
Уже торопят,
И что ни враг - то лютый херь,
Что друг - то робот.
Покойся в сердце, мой Толстой,
Не рвись, не буйствуй:
Мы все привычною стезей
Проходим путь свой.
Глядим с тоскою, заперты,
Вослед ушедшим.
Что льда у лета - доброты
Просить у женщин.
Какое пламя на плечах,
С ним нету сладу.
Принять бы яду натощак.
Принять бы яду.
И ты, любовь моя, и ты, -
Ладони ль, губы ль, -
От повседневной маеты
Идешь на убыль.
Как смертью веки сведены,
Как смертью веки, -
Так все живем на свете мы
В двадцатом веке.
Не зря грозой ревет Господь
В глухие уши:
- Бросайте все. Пусть гибнет плоть.
Спасайте души.
Мы начали урок стихотворением Чичи бабина, хотя говорить сегодня будем о по вести Тендрякова «Люди или нелюди». Вы не находите здесь связь?..
Проблемы добра и зла, нравственных поисков человека, ценности человеческой жизни лежат в основе многих произведений русской литературы . Не остался в стороне от их решения и писатель Владимир Тендряков, о произведении которого мы и поведем речь.
Слово о писателе. Владимир Федорович Тендряков () родился на Во-логодчине. Первый его рассказ «Дела моего взвода » был опубликован в 1947 году. Студент Литературного института уже прошел к этому времени по фронтам Великой Отечественной войны. Все произведения писателя: «Свидание с Нефертити», «Весенние перевертыши», «Ночь перед выпуском», «Хлеб для собаки», «Донна Анна», «Охота» - вызывали и вызывают интерес читателя, острые споры.
О чем говорит нам название повес
ти «Люди или нелюди»?
Тендряков пытается понять, где ис
токи озлобленности, жестокости.
Он заставляет задуматься: кто мы,
живущие на земле, люди или нелюди?
- Почему Тендряков обращается к
прошлому, времени своей юности?
Тогда, 19-летним солдатом, он пере
жил «редкостно прекрасное чувство любви»
к людям за то, что они добры друг к другу.
- Давайте и мы мысленно предста
вим один из моментов этого прошлого...
1943 год. Наш герой в поисках штаба идет по степи. Какую картину видит он под черным ночным небом?
- «Чуть ли не на каждом шагу торчит или вывернутый локоть, или каменное плечо, обтянутое шинельным сукном, или гладкая, ледяно-прокаленная каска, скрывающая глазницы, запорошенные снегом» - таким видит герой поле боя.
- Вызывают ли убитые жалость у не го? Чувствует ли он смятение, ужас?
Нет, он привык к трупам, они стали для него частью военного быта.
- Что же случилось с появлением ра неной лошади?
Герой почувствовал жалость. Ее выгнали на смерть, а она продолжала жить с понурым упрямством.
- Почему герой «боится» «опасного» чувства?
С жалостью может войти в душустрах за собственную жизнь, жалость к себе.
Он приказывает себе: «Не смей жалеть и не смей лишка думать - война! Огрубей и очерствей, стань деревом!»
- Почему спасительная мысль об окончании войны пугает его? Почему он боится быть добрым и сострадательным?
Он не знает, как жить потом, в мирное время, если разучился жалеть, страдать, если равнодушен «до древесности».Вдруг это навсегда вошло в душу?
- Но «вселенская тоска», которую он только недавно испытывал, все-таки про ходит. Почему?
Он понял, что война не убила в чело
веке душевности, жалости. Два недавних
врага, молодой немец Вилли и русский
солдат Якушин, в землянке едят кашу из
одного котелка. «Голова к голове, ложка за
ложкой и - хлеб пополам».
На него нахлынула любовь к Якушину, Вилли, дяде Паше, к храпящим в землянке солдатам. Появилась надежда: если
посчастливится увидеть конец войны, то
его «окружат люди, уставшие от крови и
ненависти, истосковавшиеся по любви».
- Но наступил новый день, началось
наступление. Сталинград уже близко. К полудню войска вошли в хутор. Писатель по
казывает его глазами солдат. Каким они
его увидели?
Остался только след от хутора. Всюду пепелище, по земле тянется дымок,
пахнущий мясом и паленой шерстью.
Но самое страшное они увидели у
колодца: два ледяных бугра. А внутри -
пропавшие разведчики.
- Реакция солдат на увиденное?
Всех охватила злоба. Уже не «узнать
было Якушина с выбеленным взглядом, дядю Пашу с багровой физиономией, с раздутыми белыми ноздрями, зубами в оскале». Все хотели мщения.
Для расправы привели Вилли и вы
толкнули к колодцу. Он разогнулся, зеле
ный, как лед, с раскрытым ртом, стал дико
оглядываться. А когда стали срывать оде
жду, закричал «не по-человечески - сипло
каркающе, с захлебом».
- Какие чувства вызывает у героя эта
сцена?
Еще до расправы с Вилли он ощутил
«некую отрезвляющую неуютность». А она
сменилась ужасом, когда он понял, как ре
шили отомстить за своих товарищей. Люди
в этот момент перестали быть людьми.
Они вызывали страх.
- Долгие годы писателя мучил один и
тот же вопрос: почему дядя Паша. Якушин
дошли до такой жестокости, ведь они не
были злодеями?
Трудно ответить на этот вопрос. Да,
они не были злодеями. Они искренне были
добры к Вилли в землянке. Но как в них сочетаются доброта и лютая жестокость?..
«Душевный человек Вилли...» и «Братцы!
Воду! Живьем его!» И неслучайно писатель
размышляет: «Я горжусь своим народом,
он дал миру Герцена и Льва Толстого, Достоевского и Чехова - великих человеколюбцев. И вот теперь впору задать вопрос:
мой народ, частицей которого я являюсь, -
люди или нелюди?!»
Наверное, в жестокое военное время
человек способен на жестокие поступки.
- Война способствует тому, что чело
век превращается в зверя? А в наше
мирное время такого произойти не может?
-
Может, Тендряков приводит такие
примеры. 14 лет спустя в Пекине в Педагогическом университете китайские студенты восторженно встречали русских
гостей. Их лица излучали любовь, тепло. И сердце писателя вновь наполнилось любовью ко всем людям на свете. А через несколько лет там же друг писателя наблюдал такую сцену. Люди в бумажных колпаках, в руках щиты с перечнем «преступлений» стояли на помосте и ждали своей участи. К импровизированному эшафоту вели человека, жестоко избивая. Разъяренная толпа «самозабвенно» хлестала упавших, с холодным ожесточением избивала беззащитного человека. Лица искажены жестокой злобой, все требуют смерти предателя.
- И опять мы спрашиваем: «Кто же мы, люди или нелюди? Почему происходит превращение человека в садиста? Как же писатель отвечает нам?»
Человек у Тендрякова не зол или
добр, а добр и зол одновременно. И доброе или злое побеждает в нем, смотря по
обстоятельствам.
- «Когда-то, - писал Тендряков, - ...я
делил весь мир на хороших людей и плохих. Хорошие-де стараются сделать жизнь
лучше, плохие ее портят, и казалось, что
стоит только хорошим не жалеючи навалиться на плохих, как на земле наступит
царство свободы и справедливости...» Но
со временем ему открылось, что это слишком наивная концепция, чтобы объяснить
все зло мира: «Как часто люди, достойнейшие по натуре, попадая в крутые обстоятельства, вынуждены поступать дурно, по
рой даже преступно».
Благодатной почвой, на которой созревают преступления, по мнению Тендрякова, является толпа, охваченная злобой.
Об этом и стихотворение Роберта Рождественского:
Толпа на людей не похожа. Колышется, хрипло сопя Зевак и случайных прохожих Неслышно вбирая в себя. Затягивает, как трясина, - Подробностей не разглядеть... И вот пробуждается сила, Которую некуда деть. Толпа, как больная природа, Дрожит от неясных забот. По виду - частица народа. По сути - ее антипод .
- Неужели человек не способен про
тивостоять толпе, оставаться личностью?
Ведь не стал же участвовать в расправе
над Вилли рассказчик.
- А что же происходит с человеком,
когда он действует самостоятельно, вне
толпы? Какие примеры приводит писатель
из собственной жизни?
Долгие годы его «обжигал стыдом за
себя» случай, когда украл у товарищей
хлеб. Как он считал, ему представился случай научиться жить, извлекая из ситуации
выгоду для себя.
Раскаяние наступило почти сразу.
Шагая за старшиной, рассказчик отчетли-
во осознал чудовищность своего поступка.
Военная находчивость обернулась воровством у своих же товарищей, которые так же, как и он, пятеро суток не ели.
- И это был единственный случай, ко гда герой поступал не по совести?
Он вспоминает, как врал учителям;
не сдерживал данное слово, как украл из
перемета рыбу. Но всякий раз находил для
себя оправдания.
- Только теперь, украв полбуханки, он
не мог себя оправдать. Почему?
Стыд не позволяет. Совесть мучает,
Он себя презирает, чувствует, что
теперь не достоин шутить, смеяться.
- Как же быть, как вернуть уважение к
себе?
Он лег первым на обрыв линии под
шквальным обстрелом, старался взвалить
на себя катушку с кабелем потяжелее, Де
лился всегда лишним котелком каши с товарищами.
- Значит ли это, что он извлек из про
изошедшего жизненный урок?..
Этого поступка хватило на всю жизнь.
Он узнал, что значит презрение к самому
себе, «самосуд без оправдания, самоубийственное чувство - ты хуже любого встречного, навоз среди людей! Можно ли при
этом испытывать радость бытия ?».
- Казалось бы, можно было поставить
точку. Но автор рассказывает историю
жизни своего одноклассника, Шурки Ша-
бурова, с которым 30 лет назад сидел за
одной партой. Зачем он это делает?
Шурка стал вором, прошел по всем
лагерям, через восемь лет освободился,
женился, у него двое детей. Приехал в Москву и обратился к писателю за помощью.
Тот помогает деньгами, пытается через
знакомых уладить дела бывшего одноклассника. Но через два дня узнает, что
Шурка задержан милицией.
- Пересказ твой не дал ответ на мой
вопрос. Что в этой истории беспокоит пи
сателя? Почему Шабуров пошел воровать?
От безвыходности?
Нет, какие-то деньги у него были, голодным не был, знал, что ему помогут.
Он не извлек для себя урок, когда
попался на воровстве первый раз, «не
проникся к себе самоубийственным пре
зрением - проходило мимо, ничуть не задевало».
Вот она, болевая мысль писателя:
да, каждый человек имеет право на ошибку, но каждый должен ее осознать, про
чувствовать, только тогда наступит раскаяние, а значит, обновление. Давайте еще
раз вслушаемся и вдумаемся в слова Тендрякова: «Всех нас жизнь учит через малое осознавать большое: через упавшее
яблоко - закон всемирного тяготения, через детское "пожалуйста" - нормы человеческого общения». «Всех учит, но, право же, не все одинаково способны учиться». Способны ли мы, каждый пусть ответит себе сам...
Уроки литературы.-2005.-№1.-С.9-10
В предложенном для анализа тексте знаменитый русский писатель В. Ф. Тендряков поднимает проблему дурных поступков.
Автор по-своему осмысливает и раскрывает данную проблему. Писатель повествует о том, что ему много раз приходилось совершать нехорошие деяния: он “врал учителям”, а также “давал слова не драться и не сдерживал его”, но его последний поступок заставил его задуматься над тем, что он совершал ранее. Несмотря на то, что каждому солдату в роте было положено определенное количество хлеба, он решил украсть еще, потому что “пятеро суток ничего не ел”, однако сослуживцы быстро заметили пропажу. Испытав огромный стад и унижение за содеянное, автор изменил свое представление л жизни и больше не воровал, даже пытался завоевать самоуважение, совершая добрые дела.
В. Ф. Тендряков выражает свою точку зрения ясно и однозначно. Он считает, что скверные поступки делают человека безобразным и уродливым, однако, чтобы осознать это, человек должен ощутить на себе весь стыд и унижение за содеянное.
Я полностью разделяю позицию автора. Действительно, мы все совершаем что-то нехорошее при жизни, кого-то мучает совесть, и он сразу пытается извиниться перед окружающими, другие привыкают к этому и поэтому вновь и вновь делают свои гнусные дела. Все зависит от самого человека и от того, есть ли у него совесть или нет.
В подтверждение своего мнения хочу привести в пример произведение М. Горького “Челкаш”, в котором главный герой, Гришка Челкаш, сходив на “дело” с молодым парнем по имени Гаврила, ввязывается с ним в драку по поводу выручки за проделанную работу. Гаврила был совсем молодым и неопытным, увидев большую сумму денег в руках Челкаша, решает ограбить его, забрав всю выручку. Автор в своем произведении показал, насколько ужасными могут быть поступки людей, которые поддались человеческим порокам.
Ф. М. Достоевский в своем произведении “Преступление и наказание” показывают нищего Родиона Раскольникова, который убил двух невинных людей и ограбил квартиру. Он не думал о нравственности, он думал о своих проблемах, затмевающий его разум. После сделанного Родион понял свои ошибки, понял, что совершил ужасные поступки, ради проверки своей “теории”.
Таким образом, люди, совершившие плохой поступок, рано или поздно одумываются, ведь в каждом человеке заложено такое чувство – совесть. Она помогает человеку взглянуть на себя со стороны и понять в чем он провинился. Однако некоторым просто необходимо ощутить стыд и унижение за содеянное, ведь только так они смогут увидеть, какими стали “безобразными и уродливыми” со стороны.
Исходный текст.
Все мы пробыли месяц в запасном полку за Волгой. Мы, это так — остатки разбитых за Доном частей, докатившихся до Сталинграда. Кого-то вновь бросили в бой, а нас отвели в запас, казалось бы — счастливцы, какой-никакой отдых от окопов. Отдых… два свинцово-тяжелых сухаря на день, мутная водица вместо похлебки. Отправку на фронт встретили с радостью.
Очередной хутор на нашем пути. Лейтенант в сопровождении старшины отправился выяснять обстановку.
Через полчаса старшина вернулся.
— Ребята! — объявил он вдохновенно. — Удалось вышибить: на рыло по двести
пятьдесят граммов хлеба и по пятнадцати граммов сахара!
Кто со мной получать хлеб?.. Давай ты! — Я лежал рядом, и старшина ткнул в меня
пальцем.
у меня вспыхнула мыслишка… о находчивости, трусливая, гаденькая и унылая.
Прямо на крыльце я расстелил плащ-палатку, на нее стали падать буханки — семь и
еще половина.
Старшина на секунду отвернулся, и я сунул полбуханки под крыльцо, завернул хлеб
в плащ-палатку, взвалил ее себе на плечо.
Только идиот может рассчитывать, что старшина не заметит исчезновения
перерубленной пополам буханки. К полученному хлебу никто не прикасался, кроме
него и меня. Я вор, и сейчас, вот сейчас, через несколько минут это станет
известно… Да, тем, кто, как и я, пятеро суток ничего не ел. Как и я!
В жизни мне случалось делать нехорошее — врал учителям, чтоб не поставили
двойку, не раз давал слово не драться и не сдерживал слова, однажды на рыбалке
я наткнулся на чужой перепутанный перемет, на котором сидел голавль, и снял его
с крюка… Но всякий раз я находил для себя оправдание:не выучил задание — надо
было дочитать книгу, подрался снова - так тот сам полез первый, снял с чужого
перемета голавля — но перемет-то снесло течением, перепутало, сам хозяин его ни
за что бы не нашел…
Теперь я и не искал оправданий. Ох, если б можно вернуться, достать спрятанный
хлеб, положить его обратно в плащ-палатку!
С обочины дороги навстречу нам с усилием — ноет каждая косточка — стали
подыматься солдаты. Хмурые, темные лица, согнутые спины, опущенные плечи.
Старшина распахнул плащ-палатку, и куча хлеба была встречена почтительным молчанием.
В этой-то почтительной тишине и раздалось недоуменное:
— А где?.. Тут полбуханка была!
Произошло легкое движение, темные лица повернулись ко мне, со всех сторон — глаза, глаза, жуткая настороженность в них.
— Эй ты! Где?! Тебя спрашиваю!
Я молчал.
Пожилой солдат, выбеленно голубые глаза, изрытые морщинами щеки, сивый от
щетины подбородок, голос без злобы:
— Лучше, парень, будет, коли признаешься.
В голосе пожилого солдата — крупица странного, почти неправдоподобного
сочувствия. А оно нестерпимее, чем ругань и изумление.
— Да что с ним разговаривать! — Один из парней вскинул руку.
И я невольно дернулся. А парень просто поправил на голове пилотку.
— Не бойся! — с презрением проговорил он. — Бить тебя… Руки пачкать.
И неожиданно я увидел, что окружавшие меня люди поразительно красивы — темные,
измученные походом, голодные, но лица какие-то граненые, четко лепные. Среди
красивых людей — я уродлив.
Ничего не бывает страшнее, чем чувствовать невозможность оправдать себя перед
самим собой.
Мне повезло, в роте связи гвардейского полка, куда я попал, не оказалось
никого, кто видел бы мой позор.Мелкими поступками раз за разом я завоевывал
себе самоуважение — лез первым на обрыв линии под шквальным обстрелом, старался
взвалить на себя катушку с кабелем потяжелей, если удавалось получить у повара
лишний котелок супа, не считал это своей добычей, всегда с кем-то делил его. И
никто не замечал моих альтруистических «подвигов», считали — нормально. А
это-то мне и было нужно, я не претендовал на исключительность, не смел и
мечтать стать лучше других.
Больше в жизни я не воровал. Как-то не приходилось.
То была первая тихая ночь в разбитом Сталинграде. Поднялась тихая луна над руинами, над заснеженными пепелищами. И никак не верилось, что уже нет нужды пугаться тишины, затопившей до краев многострадальный город. Это не затишье, здесь наступил мир - глубокий, глубокий тыл, пушки гремят где-то за сотни километров отсюда.

Сочинение
Очень часто человеку удается сохранять доброту сердца и чистое и искренне желание помочь ближнему даже в самых сложных ситуациях.
В данном тексте В. Д. Тендряков заставляет нас задуматься над тем, что же делает человека человеком? Как сохранить человечность в самых страшных условиях?
Автор вспоминает эпизод из своего военного прошлого, когда в одну из редких тихих ночей загорелся немецкий госпиталь. Писатель обращает наше внимание на то, что в тот страшный момент, когда запылало деревянное здание, не было ни одного равнодушного человека: и русские и немецкие солдаты были объединены единым желанием помочь. Стерлись все границы, в этот момент не стало врагов: плечо к плечу стояли русские и немецкие солдаты и вместе «испускали единый вздох». И в глазах у каждого застыло «одинаковое выражение боли и покорной беспомощности». Один из героев рассказа, Аркадий Кириллович, заметив дрожащего от страха и холода, покалеченного немца, отдал ему свой полушубок. А позже он же делится тем, что сам не видел, но что произвело на него впечатление: в порыве человечности один из немцев с криком бросился в огонь, а за ним бросился татарин, оба были охвачены жаждой помочь и оба в тот же момент погибли.
Владимир Федорович Тендряков считает, что абсолютно в каждом человеке, кем бы он ни был, в какой бы ситуации не находился и что бы он ни пережил, есть неистраченные запасы человечности. И ничто не способно убить в человеке человека – «ни вывихи истории, ни ожесточенные идеи сбесившихся маньяков, ни эпидемические безумия».
Я полностью согласна с мнением автора и тоже считаю, что невозможно уничтожить в человеке искру милосердия, доброты, сострадания – всего, что включает в себя понятие «человечность», её можно лишь на время притушить. И именно это искреннее чувство способно объединять людей и исправлять все «вывихи истории».
Главный герой романа М.А. Шолохова «Судьба человека» обладал огромным количеством нерастраченной любви, нежности, доброты и сострадания. Автор знакомит нас с огромным пластом жизни Андрея Соколова, и мы убеждаемся, что судьба подготовила ему много жестоких испытаний. Война, плен, голод, ранения, герой лишился всех близких ему людей и погрузился в полное одиночество, однако даже все это не смогло убить в Андрее Соколове человека. Свою нерастраченную любовь и нежность Соколов дарит беспризорнику, маленькому Ване, чья судьба была схожа с судьбой главного героя: жизнь также не была к нему великодушна. Андрей Соколов смог откопать в своем обугленном сердце зерно человечности и подарить его мальчику. Ваня стал для него смыслом жизни, герой стал заботиться о Ване и отдавать ему всю самое доброе и чистое, что осталось в душе главного героя.
В повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» человечность объединила все сословия. Каким бы ни был каждый герой, в каком бы положении он не находился – он всегда находит в своей душе место доброму и светлому чувству. Петр Гринев не мстит Швабрину ни за одно его злодеяние. И это несмотря на то что вокруг царила атмосфера безнаказанности и жестокости, а Швабрин причинил герою достаточно вреда. Также и Пугачев, несмотря на огромное количество убийств для достижения своей цели, не стал убивать Петра, и не только за то, что тот когда-то не дал ему умереть, но и из чувства человечности по отношению к Савельичу. И Мария также во всех своих действиях руководствовалась лишь добром и желанием помочь – в том числе и когда просила у императрицы помилования любимого. Хотя девушка совсем недавно потеряла родителей и находила в сложных обстоятельствах. Все герои, несмотря на тяжелую ситуацию, сложившуюся вокруг их жизни, смогли сохранить в своей душе те чувства, благодаря которым они продолжали оставаться людьми.
Таким образом, можно сделать вывод, что человека делает таковым желание совершать добро, быть милосердным и отзывчивым к несчастью других. И даже если это чувство спрятано глубоко за страхом и неопределенными нравственными ориентирами, оно все равно есть и по-прежнему способно взрывать «вокруг себя лёд недоброжелательства и равнодушия».