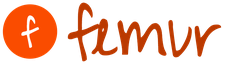Ильф и петров 12 стульев читать онлайн. Илья ильфдвенадцать стульев
Илья Ильф, Евгений Петров
ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ
Посвящается Валентину Петровичу Катаеву
Предисловие
Первый роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» вышел в свет в 1927 году. Через четыре года был опубликован «Золотой теленок». Отошло в прошлое многое из того, что осмеяно в этих романах, канули в небытие некоторые из выведенных в них типов, но самые книги Ильфа и Петрова не устарели и не утратили своей силы и прелести. Пользуясь критической терминологией, о них можно сказать, что они прошли проверку временем, а говоря проще - их по-прежнему читают и любят.
Чтобы любить эти книги, у читателей есть достаточно оснований. Прежде всего они написаны людьми, любившими все то, что мы любим, и ненавидевшими все, что мы ненавидим, людьми, глубоко верившими в победу светлого и разумного мира социализма над уродливым и дряхлым миром капитализма. Кроме того, это книги талантливые и, наконец, очень смешные.
Илья Ильф и Евгений Петров писали свой первый роман, засиживаясь по вечерам в редакции газеты «Гудок», где они работали в те годы в качестве литературных сотрудников в отделе читательских писем, рабкоровских заметок и фельетонов. Их литературный путь от построенных на безбрежном рабкоровском материале сатирических заметок в «Гудке» к «Двенадцати стульям» и «Золотому теленку» и от этих романов к сотрудничеству в «Правде» в качестве авторов десятков фельетонов, блестящих по форме и полновесных по силе наносимых ими ударов, - путь естественный, целеустремленный. Что бы ни писали Ильф и Петров, вся сила их сатирического дарования была отдана борьбе с пережитками прошлого, борьбе с миром тупости, косности и стяжания.
Чтобы написать такие романы, как «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», нужно было обладать большим журналистским опытом и хранить в памяти тысячи встреч, связанных с самой разносторонней и кропотливой из всех редакционных работ - с обработкой приходящих в редакцию писем. Содержание романов Ильфа и Петрова не оставляет сомнений относительно того, чем была продиктована для авторов внутренняя необходимость их создания. Рабкоровские письма и заметки, жалобы читателей, приходившие с редакционной почтой, обличали все злое, нелепое, старорежимное, мещанское, пошлое и тупое, чего еще предостаточно было в ту пору в окружающей жизни. За фактами стояли живые носители зла с именами и фамилиями - и откровенно ненавидящие советский строй «бывшие люди», и пытающиеся пролезть в новый мир буржуазные прохвосты, и всякого рода чинодралы, бюрократы и перерожденцы. Прямые и частые столкновения со всей этой нечистью, вероятно, и побудили Ильфа и Петрова попробовать свои силы в большой литературе и выразить свои чувства и мысли не в коротких газетных заметках, а основательно, со вкусом и, главное, с размахом. Эта потребность, думается, появилась у авторов прежде, чем им пришел на ум сюжет их первого романа, сюжет, о правомерности которого немало спорили в критике.
Сюжет «Двенадцати стульев», конечно, не бесспорен хотя бы уж потому, что он традиционен и весьма условен. Но авторы нисколько и не стремились эту условность скрыть. История двух жуликов, которые рыщут по стране в погоне за брильянтами, зашитыми старорежимной дамой в обивку стула, была удобна прежде всего потому, что она позволяла авторам непринужденно и естественно переходить от одной встречи к другой и от другой к третьей, почти в каждой из них острым сатирическим пером расправляясь с проявлениями старого быта. Если бы роман писался просто для того, чтобы поведать читателю историю погони за брильянтами, а находка их двумя проходимцами представляла бы собой счастливый конец, такая книга вряд ли пережила бы в памяти читателей год своего появления в свет. Но сюжет в «Двенадцати стульях», при всем его остроумии и тщательной разработанности, всего лишь нить, скрепляющая сатирические эпизоды, составляющие подлинную суть книги. Если же говорить о счастливом конце, то как нам ни интересно узнать, чем завершатся поиски Бендера и Воробьянинова, однако финал, при котором брильянты мадам Петуховой попали бы в их руки, воспринимался бы нами не как счастливый, а скорее как несчастный. И наоборот, когда потерявший человеческое подобие, перерезавший горла своему компаньону, бывший предводитель дворянства Воробьянинов приходит к новому рабочему клубу и узнает, что клуб построен на найденные стариком сторожем брильянты, этот безусловно несчастный для обоих героев романа конец ощущается читателями как счастливый, как закономерный и даже как символический.
Действие «Двенадцати стульев» развертывается в том же 1927 году, в котором был написан роман. В богатой коллекции отрицательных типов, выведенных в нем, можно найти персонажей с особенно отчетливой печатью того времени. Но рядом с ними есть и такие, которые дожили до наших дней, весьма мало изменившись и самым фактом своего существования подтверждая, что пережитки капитализма не так-то легко победить.
К первой категории принадлежат деятели «Меча и орала» - начиная со злобствующего пустозвона и бездельника Полесова и кончая председателем «Одесской бубличной артели» нэпманом Кислярским, готовым пожертвовать немалую сумму на дело реставрации капитализма и тут же, при первой опасности разоблачения, донести на всех своих соратников по организованному Бендором «Союзу меча и орала». К галерее этих типов примыкает и бывший чиновник канцелярии градоначальства Коробейников, сохраняющий у себя на дому копии ордеров на реквизированную в начале революции мебель в ожидании дня, когда господа вернутся и за соответствующую мзду получат у нега сведения о том, где обретается их обстановка. К этим же типам принадлежит, разумеется, и сам Воробьянинов, живущий надеждой прокутить тещины брильянты в незабвенных для него с дореволюционного времени заграничных кабаках и домах терпимости.
Конечно, современный читатель, в особенности молодой, даже порывшись в памяти, не найдет в ней ни архивариуса, надеющегося при реставрации выгодно сбыть ордера на реквизированную мебель, ни нэпмана, жертвующего на эту реставрацию триста рублей. Эти типы, связанные в нашем представлении больше всего с первым десятилетием после революции, однако, написаны в романе с такой злостью, с такой насмешкой над старым миром, что и сейчас невольно протягиваешь нити от этих людишек из романа «Двенадцать стульев» к каким-нибудь выжившим из ума керенским, все еще свершающим турне по европам и америкам и разглагольствующим о том, как все было бы хорошо, если бы после февральской революции не последовало Октябрьской. Вспоминаются и зловещие фаюнины и кокорышкины, с такой силой изображенные в леоновском «Нашествии», - жалкие и злобные последыши, которые в период фашистской оккупации зашевелились кое-где по нашим градам и весям в обликах полицаев и бургомистров. Выведенные в «Двенадцати стульях», все эти типы тогда, в 1927 году, имевшие своих многочисленных и реальных прототипов в жизни, смешны в своем бессилии и отвратительны в своих упованиях. Благодаря меткости нанесенного авторами удара и сейчас, став тенями прошлого, эти фигуры не потеряли своего интереса для читателей.
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Илья Ильф, Евгений Петров
Двенадцать стульев
© Галанов Б. Е., вступительная статья, комментарии, 1994
© Капнинский А. И., иллюстрации, 2016
© Оформление серии. АО «Издательство «Детская литература», 2016
Смех Ильфа и Петрова1
Текст статьи печатается по изданию: Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: в 5 т. М.: Худож. лит., 1994. Т. 1. (Статья печатается в сокращении. – Примеч. ред.)
В январе 1928 года два молодых писателя, Илья Ильф и Евгений Петров, чинно сидя в извозчичьей пролетке, везли рукопись только что законченного романа. Это были «Двенадцать стульев». Шел снег. Все было именно так, как они себе представляли, работая над романом. Печатные знаки, вплоть до точек и запятых, были уже подсчитаны и пересчитаны. Не было только ощущения свободы и легкости, которая сопутствует окончанию трудной работы. Оба испытывали тревогу. Напечатают ли роман? Понравится ли? А если напечатают и понравится? Очевидно, нужно писать новый. Или попробовать повесть?
«Мы думали, что это конец труда, – вспоминал Петров, – но это было только начало». Вопросы, терзавшие Ильфа и Петрова в тот день, тревожили их всегда, хотя читатели веселых и вроде бы без малейших усилий написанных книг вряд ли об этом догадывались. Казалось, все сочинялось легко и шутки ложились на лист бумаги сами собой, как вольная, веселая импровизация.
В истории русской и мировой юмористической литературы Ильф и Петров – в числе самых веселых, как говорили в старину, сочинителей. Даже в эпоху культа личности, в героическую эпоху котлованов и подъемных кранов, когда требовались другие песни – бодрые марши, гимны, оды, кантаты, – Ильф и Петров сохраняли верность призванию сатириков. Искренне веруя в идеи социализма, они могли принимать мифы за реальность, обольщаться пропагандистскими лозунгами, на которые не скупился сталинский режим, все это было, было… Не они одни поддавались иллюзиям, присягая на верность социалистической идее. Однако много ли найдется таких печальных произведений, как «Записные книжки» Ильфа, оставшиеся после его смерти?
Более шестидесяти лет назад, еще школьником, раскрыв первое издание «Двенадцати стульев», я прочитал простую и старомодную, по выражению Ильфа, первую фразу романа: «В уездном городе N…», которая так долго не давалась соавторам. Для миллионов читателей, как и для меня, с этой фразы началось знакомство с творчеством двух писателей.
Шли годы сталинских пятилеток и сталинских лагерей, годы войны и послевоенного восстановления, хрущевского волюнтаризма, брежневского застоя, годы перестройки. Менялись вожди на трибуне Мавзолея. Менялись в дни знаменательных дат портреты в руках демонстрантов. Менялись и сами знаменательные даты, сбивали мемориальные доски, сносили памятники. Исчезали из обихода слова, которые прочно вросли в строй и быт, обозначали стиль нашей жизни. Теперь без словаря многие из них и не растолковать. Но слава Ильфа и Петрова не уменьшилась. Бессмертный Ипполит Матвеевич по-прежнему шествует по утрам на службу по улицам города N.
На известной фотографии Ильфа и Петрова соавторы с перьями в руках сидят перед чернильницей – мир да согласие царят за столом. Как они вместе работали, думали, сочиняли, останется тайной их содружества. Но неужели действительно всегда вместе? За одним столом, возле одной чернильницы? Невероятно!
От докучливых расспросов интервьюеров Ильф и Петров обычно отшучивались: «Да, так вот и пишем… Как братья Гонкуры. Эдмонд бегает по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтобы не украли знакомые». Но после смерти Ильфа, оставшись один, Петров ответил всерьез: «Писать вдвоем было не вдвое легче, а в десять раз труднее…»
Их родиной была Одесса. Красивый шумный южный портовый город. Жители называли его то маленьким Парижем, то маленькой Веной, а золотые пляжи и живописные приморские окрестности сравнивали с венецианским Лидо. Литературная Одесса подарила нам созвездие замечательных писателей. Помимо Ильфа и Петрова одесситами были Бабель, Катаев, Олеша, Багрицкий… При абсолютной несхожести писательских дарований, всем им было присуще острое ощущение возможностей слова, многокрасочности жизни, стереоскопичность зрения.
Появление в советской литературе 1920-х годов большой группы писателей-одесситов, сразу же заявивших о себе, не осталось незамеченным. Заговорили о новой литературной школе, закрепив за ней – по названию сборника стихов Эдуарда Багрицкого «Юго-Запад» – имя «Юго-западной», «Южно-русской». Сами одесские писатели о «школе» и не помышляли. Но суровые поборники чистоты советской литературы и пролетарского ее происхождения твердо стояли на своем. В словах «Юго-Запад» они делали ударение на слове «Запад», что само по себе для членов «школы» было небезопасно: к Западу относились подозрительно. С влиянием Запада, как тлетворным, неустанно боролись, а писателям-одесситам клеили ярлыки «низкопоклонников перед Западом» и наперебой твердили: «Не русские это писатели, не пролетарские»; «традиции средиземноморской культуры им ближе». Поистине нужно было прикинуться глухими, чтобы не услышать в их книгах говор, шутки и смех одесской улицы…
Но мы нарушаем хронологию… «Двенадцать стульев» еще не написаны. Не спорят и о «Юго-западной школе». Пока будущие авторы романа «Двенадцать стульев» встречаются в Москве, в редакции железнодорожной газеты «Гудок».
Ильф пришел туда в 1923 году и участвовал в составлении знаменитой сатирической четвертой полосы, для которой и обрабатывал читательские письма, придавая им фельетонный блеск и отточенность, и сочинял сам. Петров стал москвичом двумя годами позже, а до этого работал инспектором Одесского уголовного розыска, вылавливал казнокрадов, налетчиков, самогонщиков, ежедневно рискуя получить в лоб бандитскую пулю. В Москве с легкой руки старшего брата Валентина Катаева стал писать смешные рассказы и фельетоны, уже тогда выделявшиеся из общего потока если не глубиной сатирического отклика, то остротой комической реакции, наблюдательностью, неподдельным юмором и неистощимой фантазией.
Веселая игра воображения увлекала Петрова. Ильф предпочитал полету юмористической фантазии непосредственные свидетельства очевидца, зоркость сатирических наблюдений – смешных, грустных, а чаще смешных и грустных одновременно. Среди множества тем, занимавших Ильфа, была одна особая – кино. Это было его увлечение. Он писал остроумные рецензии, юмористические репортажи из киностудий (эти зарисовки позже пригодятся при работе над романами). После редакционной командировки в Среднюю Азию Ильф напишет несколько превосходных очерков, где все очень ощутимо – люди, пейзаж, быт, нравы – и с первых же строк пробивается сильная лирическая интонация.
И все-таки большую часть времени как у Ильфа, так и у Петрова отнимала газетная поденщина. Это было и трудно, и забавно. В комнате четвертой полосы собирались самые отчаянные остряки. Острили непрерывно. Сотрудники других отделов, опасаясь колючих насмешек, даже побаивались сюда заглядывать. Все становилось предметом веселых обсуждений! Катаев однажды развеселил редакционную братию предложением создать мастерскую советского романа, открыть набор негров в нее, а на себя возложил роль Дюма-пе́ра2
Дюма́-пер – Дюма-отец (от фр.
père – «отец», «родитель»).
Была даже готова идея первого романа – поиски сокровищ, запрятанных в стулья. Все посмеялись и разошлись. Но Ильфу и Петрову эта идея понравилась. Петров позже подробно расскажет, как тяжко складывались «Двенадцать стульев», как соавторы отнесли первые главы своего детища на суд Валентину Катаеву. Не очень-то надеясь на собственные силы, они рассчитывали, что Дюма-пер пройдется по книге рукой мастера.
В «Алмазном моем венце» Катаев вспоминал, что, прочитав рукопись, он сказал молодым писателям примерно следующее:
«„Вот что, братцы. Отныне вы оба единственный автор будущего романа. Я устраняюсь. Ваш Остап Бендер (которого не было в первоначальных планах. – Б. Г.) меня доконал. Я больше не считаю себя вашим мэтром. Ученики побили учителя… Вашему пока еще не дописанному роману предстоит не только долгая жизнь, но и мировая слава".
А Дюма-пер действительно оказался пророком.
Ильфу не было тридцати. Петрову едва исполнилось двадцать четыре. Но первая же совместная книга сделала их знаменитыми. И хотя долгое время критики старались роман не замечать, он пришел к читающей публике через головы критиков. Книгу читали и перечитывали. Имя Остапа Бендера стало нарицательным. Скрестив классические традиции плутовского романа с озорным юмором капустников, с остротами весельчаков четвертой полосы «Гудка», Ильф и Петров сформировали собственный стиль, собственную манеру комического повествования. Они привнесли в роман вольность анекдота, забавность розыгрыша, насмешливость пародии.
Именно в комнате четвертой полосы впервые были произнесены будущие любимые словечки и выражения Остапа, оттуда перекочевали в роман, из романа – в обиходную речь и начали странствовать по стране как раскавыченные цитаты. И портреты некоторых персонажей «Двенадцати стульев» написаны тоже «почти» с натуры. Им приданы черты общих знакомцев Ильфа и Петрова3
Поклонники писателей однажды даже прислали мне персоналию подозреваемых прототипов романа, расшифровав около двух десятков имен.
Иногда сходство могло быть относительным. Иногда очень даже близким. Валентин Катаев засвидетельствовал, что все персонажи романа «Двенадцать стульев» «списаны» с натуры, со знакомых и друзей («один даже с меня самого»). Что касается Остапа Бендера, то Катаев вспоминал старого одесского знакомого. В жизни тот носил другую фамилию, но имя Остап сохранилось как весьма редкое. Соавторы оставили его почти в полной неприкосновенности – атлетическое телосложение и романтический, чисто черноморский характер. Впрочем, существуют и другие версии. В разное время назывались имена еще нескольких прототипов Остапа. Портрет Авессалома Изнуренкова так сильно смахивал на приятеля Ильфа и Петрова, сотрудника московских сатирических журналов, что они сочли нужным предварительно заручиться визой – согласием оригинала. Поэта-халтурщика Никифора Ляписа, творца печально знаменитой «Гаврилиады» и напористого завсегдатая газеты «Станок», сотрудники «Гудка» тоже хорошо знали в лицо. Только имя изменилось. «Так вот и получается, – писал сослуживец сатириков по «Гудку» М. Львов (Штих), – что один глаз видит Никифора Ляписа, а в другом мелькает его живой прототип». Но ведь Ляпис, людоедка Эллочка и прочие легко узнаваемые персонажи «Двенадцати стульев» – это, как говорится, еще и фигуры «на все времена». Художественно-обобщенные, типические. И разумеется, Остап Бендер в первую очередь. Не моментальные фотографии или торопливые зарисовки. Манила даль свободного романа. Брали у одного, прибавляли к другому. Складывали, комбинировали, обобщали.
«Голубой воришка» Альхен, которого Остап обманул так же ловко и весело, как и других своих «клиентов», – типическая фигура стяжателя. Прототип не назван, но в жизни им несть числа… Не воровать Альхен не может. Альхен не просто воришка, он «воришка голубой», то есть застенчивый. Тянет все, что попадет под руку, только тянет стыдливо, густо краснея. Смешно? Даже очень. Нашлась отличная сатирическая деталь. И страшноватая. Завхоз командует подопечными старухами-пенсионерками как ему заблагорассудится. Но всегда с выгодой для себя.
В масштабах надвинувшейся на страну жестокой и бездуховной казарменно-бюрократической системы 2-й дом райсобеса всего лишь крохотная точка. Сколько таких «домов» возникало под разными вывесками! Давно все вывезено и распродано. Есть нечего. Зато более чем скромное жилье украшено наставлениями о вкусной и здоровой пище, напоминаниями о том, что «мясо – вредно».
Трудно придумать что-либо более фарисейское, чем порядки, заведенные Альхеном. Но фарисейство – примета казарменного быта. И страсть Альхена – хитроумные замки и запоры на всех дверях – тоже злая насмешка, обретающая с дистанции времени обобщающий смысл.
Предполагать, что Альхен явился в роман с единственной целью обслужить Остапа, сыграть с ним свою партию «в поддавки» – значило бы недооценить значения сатиры Ильфа и Петрова, свести дело к анекдоту, к простому курьезу «вор у вора дубинку украл».
Не один только Альхен, но и все другие эпизодические персонажи романа, включая заговорщиков из эфемерного тайного «Союза меча и орала», этих без пяти минут опереточных путчистов, интересны как определенные социальные и психологические типы. Иногда эпизодические персонажи меняются местами с Остапом, и тогда уже Остап выполняет вспомогательную задачу. Но не в ущерб движению рассказа. Главная роль достается Остапу или второстепенная, в конечном счете все нити интриги держит в кулаке он, обеспечивая движение сюжета, его непрерывность.
С того момента, когда в романе появился Остап в своих знаменитых лаковых штиблетах и с астролябией в руке, читательский интерес к нему не ослабевает. Авторам все труднее было без него обойтись. А к концу романа Ильф и Петров уже обращались с Бендером как с живым человеком. Петров признавался, что они часто даже сердились на него за нахальство, с которым тот пролезал в каждую главу. Но кто бы другой так изобретательно вертел колесо романа? Не Воробьянинов же. «Гигант мысли» может произвести впечатление разве что на деятелей карикатурного «Союза меча и орала», да и то с подачи Остапа.
В планах авторов Бендеру первоначально предназначалась эпизодическая роль. Но тот смешал карты. Все укрупнилось, приобрело новое звучание, и по мере развертывания сюжета Остап стал компаньоном, концессионером, коммерческим директором; полушутливо-полусерьезно авторы преподнесли ему титул великого комбинатора и… турецкое подданство.
Коренные одесситы, Ильф и Петров помнили, конечно, что люди, уклонявшиеся в Одессе от воинской повинности, покупали иностранное гражданство. Великий комбинатор стал Остапом-Сулейманом-Берта-Мария Бендером, потому что турецкий паспорт стоил дешевле других. Так что тайна турецкого подданства объяснялась вполне прозаически. Великим же комбинатором Остап смог стать потому, что действовал среди комбинаторов мелких, «в краю непуганых идиотов».
Критиков романа, по-своему старавшихся истолковать и принизить феномен странной для советской литературы личности Остапа Бендера, не устраивало отношение авторов к своему герою. Плут и жулик действует в романе как некий катализатор, выводит на чистую воду других плутов и жуликов. А их при советской власти, по свидетельству романистов, набиралось великое множество. «Ну разве это не очернительство?!» – восклицали критики.
Больше того, Ильф и Петров наделили Остапа умом, изобретательностью, сообразительностью, передоверили собственный взгляд на вещи, свои мысли, наблюдения и – о боже! – не покидающий героя даже в самых экстремальных ситуациях великолепный юмор, сокровище не менее драгоценное, чем бриллианты мадам Петуховой.
«Куда же такое годится?» – снова и снова вопрошали литературные прокуроры. Противопоставить бы Остапу настоящего положительного героя, ему подарить авторский юмор, а самого Остапа сделать грубее, примитивнее; вот тогда, пророчествовали критики, роман получился бы настоящим, советским, идеологически выдержанным. И читатель знал бы, что имеет дело с разновидностью враждебного государству анархического индивидуализма. А так, чего доброго, только запутают читателей. Один поклонник Остапа даже специально обращался к Ильфу и Петрову с просьбой пристроить куда-нибудь своего героя. Такому человеку, с такой энергией, нужно дать дело.
Взглянем на Остапа непредвзято, без модных когда-то вульгарных критических выговоров. Остап – натура артистическая, независимая. Не умещается он в равняющем все по ранжиру обществе, где личность мало уважают, еще меньше ценят и где утвердить свою индивидуальность нелегко, даже опасно. Может быть, этим Остап и приглянулся Ильфу и Петрову? Для него ведь и деньги скорее средство самоутверждения, выявления себя как личности. Можно ли представить, что, завладев сокровищами, Остап захочет, как отец Федор, обзавестись собственным свечным заводиком, возле которого будет попивать водочку? Не скрывая иронии, авторы описывают затеи Остапа, слишком фантастические, вроде плана заграждения Голубого Нила плотиной, чтобы принять их всерьез. Но, согласитесь, это в характере Остапа. Не меньше самих бриллиантов его занимает процесс их добывания. Остапу интересно играть роль в им же сочиненной пьесе. Как театральному режиссеру, поставившему талантливый спектакль со множеством переодеваний и перевоплощений – то в красноречивого шахматного маэстро, то в сурового инспектора пожарной охраны, то в гвардейского офицера «при особе, приближенной к императору», – Остапу всякий раз тоже мерещатся поклонницы и аплодисменты.
На фоне тусклой, угрюмой действительности самоутверждалась энергичная, яркая личность. Плут-то Остап плут. И изрядный. Но он же – человек кипучей энергии и предприимчивости, вольный или невольный разоблачитель многих уродливых явлений быта, мещан, обывателей, бюрократов, взяточников. Писатели проявили настоящую художническую зрелость, когда, поддавшись натиску своего беспокойного героя, помогли ему проявить качества, которые выводили читательское отношение к нему на новый виток.
Почти одновременно с завершением в журнале «30 дней» публикации «Двенадцати стульев» журнал «Огонёк» объявил новую повесть Ильфа и Петрова – «Светлая личность». В «Двенадцати стульях» пародийно разыгрывались традиционные приключения искателей кладов, в «огоньковской» повести – смешная, в отличие от некогда драматически рассказанной Уэллсом, история человека-невидимки. «Светлая личность» при жизни авторов не переиздавалась. Возможно, повесть не удовлетворила самих авторов, хотя некоторые ее страницы по остроте сатирического обличения и неподдельной веселости не уступают «Двенадцати стульям». А может быть, именно эта острота и помешала дальнейшим публикациям. Описывая город Пищеслав со всеми уродливыми и анекдотическими его чертами, присущими провинциальному советскому быту, авторы признавались, что город этот был ужасным, что в его существование трудно было даже поверить, «но он все-таки существовал, и отмахнуться от этого было невозможно».
«Мы знали с детства, что такое труд», – написал однажды Петров, и, как бы трудно ни было писать, Ильф и Петров не позволяли себе передышки. «На таких бы сотрудников набрасываться. Пишите побольше, почему не пишете? Так нет же. Держат равнение. Лениво приглашают. Делают вид, что даже не особенно нуждаются». Это из записных книжек Ильфа. Равнодушное, бюрократическое отношение к авторам во многих редакциях отталкивало. Нужно было появиться новому сатирическому журналу «Чудак», чтобы почувствовались перемены. Его основателем и редактором в 1928 году стал Михаил Кольцов. Это было талантливое издание, из-за своей критической направленности сразу же попавшее в немилость. «Чудак» продержался около двух лет. Но за эти два года Кольцов сколотил коллектив ярких авторов. Список наиболее известных открывал В. Маяковский, среди дебютантов были А. Твардовский, М. Исаковский, Н. Заболоцкий.
Ильфу и Петрову Кольцов щедро предоставлял страницы журнала. От него можно было услышать слова, которые так хотелось услышать Ильфу: «Пишите больше, почему не пишете?..» И они писали. Много писали. Случалось даже, в одном номере дважды. Под собственными фамилиями и под псевдонимами. В разделе с хлестким названием «Деньги обратно!» горячий, шумливый, задорный Дон Бузильо честил халтуру в кино, театре, на эстраде. Ф. Толстоевский, более умудренный жизненным опытом и более свирепый в своих обличениях, сосредоточивался на бытовых темах. Под этим псевдонимом Ильф и Петров напечатали в «Чудаке» «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» (1928–1929) и цикл сатирических сказок «1001 день, или Новая Шахерезада» (1929). «Колоколамские истории» в какой-то степени можно даже назвать программной вещью «Чудака», который сразу же при своем появлении объявил поход на «непуганых идиотов» – их нравы, привычки, косность, корыстолюбие.
Однако чувство неудовлетворенности не оставляло Ильфа и Петрова. Чуть ли не скороговоркой завершилась «Светлая личность». Недописанными остались «Шахерезада» и «колоколамские» рассказы. Был начат и отложен роман «Великий комбинатор». Дальше краткого либретто не продвинулось обозрение «Путешествие в неведомую страну», героем которого Ильф и Петров собирались сделать некоего маститого академика. Для повести «Летучий голландец» – из жизни редакции одной профсоюзной газеты – сохранились лишь предварительные заготовки. Не наступил ли творческий спад?
Но о каком спаде можно было говорить? Ильф и Петров находились в расцвете сил и таланта. Просто талант страшился самоповторений и проторенных дорожек. А новое нащупывалось с трудом.
«Мы чувствуем, – говорил Петров, – что нужно писать что-то другое. Но что?»
В ту пору, когда начинался «Золотой теленок», в очередной раз заявили о себе «упразднители» сатиры и юмора. В критике разгорелись шумные баталии. «Упразднители» требовали изъять сатиру и юмор из литературы как чуждые пролетариату, изжившие себя и вообще вредные социалистическому обществу, поскольку наше героическое время не дает оснований для смеха. Ильф и Петров, чьи имена не раз трепали в критических перебранках, вмешались в полемику, предварив «Золотого теленка» диалогом с неким строгим гражданином.
«– Смеяться грешно, – говорил он. – Да, смеяться нельзя! И улыбаться нельзя! Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!
– Но ведь мы не просто смеемся, – возражали мы. – Наша цель – сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода».
Шел 1931 год. Пока еще можно было отстаивать сатиру и юмор, спорить со строгим гражданином, высмеивать его абсурдные рассуждения. Можно было ответить лаконично, в стиле Бернарда Шоу: «Не будьте идиотом». В таком примерно духе Ильф с Петровым и ответили, а в заключение обратились к прокурору республики с просьбой: если строгий гражданин снова будет уныло твердить, что сатира не должна быть смешной, привлечь его к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом. И хотя все время, пока сочинялся «Золотой теленок», над писателями реял лик строгого гражданина, они не отреклись от права на смешную сатиру.
Но есть в новом романе и новые краски. В «Золотом теленке» явственнее, чем в «Двенадцати стульях», звучит лирическая мелодия, лиризм здесь чаще становится спутником смеха, и веселый неунывающий плут Остап, оказывается, умеет и грустить.
Генеалогию Остапа прослеживали не раз. У него есть предшественники и соседи в произведениях советских писателей: авантюрист бухгалтер Прохоров из знаменитого «дорожного» романа Валентина Катаева «Растратчики», устремляющийся в неудержимый бег по градам и весям; Олег Баян в «Клопе» Маяковского, устроитель «красных, трудовых бракосочетаний», учащий молодоженов танцевать первый фокстрот после свадьбы; проходимец Аметистов из «Зойкиной квартиры» Булгакова.
Можно продолжить аналогии, и все же Остап – это Остап. Если в чем-то на кого-то и похожий, то в главном всегда неповторимый. Плуты Маяковского или Булгакова проще, грубее, вульгарнее. И не потому, что написаны не в полную силу таланта. Лицо каждого отчетливо закрепилось в памяти. Но художники ставили перед собой другие цели и краски выбирали соответствующие. Остап же – нравилось или не нравилось это критикам Ильфа и Петрова – артистичен, талантлив, находчив в своих плутовских проделках. В «Двенадцати стульях» погоня за сокровищами превратилась для него в своеобразное действо. Мы уже говорили, что при случае он не прочь был блеснуть высоким искусством обмана и розыгрыша. В «Золотом теленке» все это осталось при нем. Но если в «Двенадцати стульях» Остап еще довольно смутно представлял себе, как распорядиться бриллиантами, то теперь знает. Теперь это для него вопрос жизни. При первой же встрече с Шурой Балагановым он прямо говорит: «У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?»
И это, в сущности, уже было началом конца традиций плутовского романа, которые Ильф и Петров обновили и одновременно исчерпали. По крайней мере для себя.
Выиграв битву с Корейко, Остап все-таки оказывается в проигрыше. Бедный плут! Корейко прочно укоренился в советском обществе, врос в его быт. Он точно знает, когда надо прикинуться «тихим советским мышонком», когда схорониться, и ждет момента, когда можно будет снова безбоязненно всплыть на поверхность со своими миллионами. Корейко – воплощение самых темных торгашеских сил, и, когда рядом с «медальным профилем» великого комбинатора вдруг вылезает это «белоглазое ветчинное рыло», эта «молодецкая харя с севастопольскими полубаками», мы понимаем, что сатирики бьют наотмашь, что, следуя «агитационному уклону» Маяковского, они с первых же слов прямо указывают, кто здесь сволочь.
Неблагодарное для критика занятие – пророчествовать и пытаться предсказать возможную судьбу литературного героя лет эдак через сорок – пятьдесят. Но Корейко без натяжек легко представить «крестным отцом» какой-нибудь сегодняшней торговой мафии. Остапу с его запасом в четыреста способов сравнительно честного отъема денег тягаться с Корейко на этом поприще не под силу. Да он бы и не стал. Дух стяжательства претит Остапу. Он вдруг понял, что обладать миллионом куда хлопотней, чем пустым карманом. «Частному лицу» даже с миллионом не развернуться. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» – высокопарно восклицал Остап. А ничего-то и не тронулось. Индивидууму, которому чужды проблемы социалистической переделки человека, в СССР ходу нет.
В условиях рыночной экономики кооператор, предприниматель, пенсионер, живущий за чертой бедности, знают, как распорядиться миллионом. В далекие 1920 – 1930-е годы Остап этого не знал, если не собирался пойти путем Корейко. Люди жили трудно, бедно, в условиях всеобщей нищенской «уравниловки». На что тратить деньги да и откуда их взять неутомимо вкалывающим строителям социализма? Но, по совести говоря, честная бедность общительных, веселых и голодных студентов политехникума, оказавшихся в одном купе с Остапом, симпатичнее спекулянтских замашек тех цепких, что прекрасно знают, почем нынче золотой теленочек, готовых хапать и наживаться.
Во втором романе Ильфа и Петрова перед экипажем «Антилопы…», мчащейся из одного города в другой, мелькает целый калейдоскоп лиц. Тут и бюрократ Полыхаев, начальник дутого, как мыльный пузырь, «Геркулеса», в недрах которого туго пришлось даже великому комбинатору и где привольно живется архижулику Корейко. Тут и обитатели «Вороньей слободки» – групповой портрет поднаторевших в квартирных склоках обывателей.
И как это часто случалось с персонажами Ильфа и Петрова, «геркулесовцы» и обитатели квартиры номер три в Лимонном переулке напомнили о себе в новых произведениях соавторов, выступив под другими именами, в другом обличье, но сохранив свои манеры, повадки, хамство и невежество, дух склочничества, своекорыстие. Снова начав писать фельетоны, Ильф и Петров нашли место в хороводе разных мелких и крупных бесов и этим персонажам.
В начале 1930-х годов соавторы часто выступали с фельетонами в «Литературной газете», подписывая их новым псевдонимом «Холодный философ», и в «Правде» с фельетонами на бытовые темы, показывая, как говорил Ю. Олеша, высокий класс журнализма.
Все, что делалось Ильфом и Петровым в жанре фельетона, делалось ими в полную силу, безо всяких скидок на «газетность». Для них вообще не существовало деления на жанры высокие и низкие. Они создавали свою, новую, гофманиаду, не фантастическую, а совершенно конкретную, привязанную к определенным фамилиям, датам, адресам, простым житейским фактам, нередко почерпнутым из читательской почты. И очень огорчались, когда дружески расположенные к ним люди в недоумении разводили руками: писали бы романы; далась вам эта сиюминутность, эта злободневность!
Перечитывая сегодня фельетоны Ильфа и Петрова, заново убеждаешься в их злободневности и долговечности… По-прежнему омрачают жизнь угрюмые чиновники, дельцы, бюрократы, злобные дураки, ханжи с каменно-бездушными ухватками, безразличные к чужому горю и не интересующиеся ничем, кроме самих себя. Писать о таких людях «нестерпимо», «почти физически больно», говорили Ильф и Петров. Но борьбу с неуважением к людям, с оскорблением человеческого достоинства они считали своим гражданским, писательским долгом.
Уходило с годами бурное, безоглядное веселье «Двенадцати стульев». Свои фельетоны Ильф и Петров умели писать очень смешно. Смех не пропал. Но соавторы становились все строже, серьезнее, внутренне сосредоточенней. Друзья Ильфа и Петрова, близко знавшие обоих, запомнили их доброту, чуткость, отзывчивость, готовность помочь людям, ободрить, облегчить их жизнь. Но писатели не могли без гнева и негодования говорить о чиновнике, грубо, взашей, вытолкнувшем из своего кабинета старика-пенсионера; о дураке, запретившем прописать молодую женщину на жилой площади мужа, к которому она переехала после свадьбы из другого города; о хаме, отказавшемся уступить такси беременной женщине, которую срочно надо доставить в родильный дом. Как правило, такие подлецы получали в фельетонах не имена и фамилии, а нарицательные клички, которые к ним буквально прилипали: «Безмятежная тумба», «Костяная нога», «Саванарыло».
В 1936 году Ильф и Петров завершили последнюю свою большую совместную книгу «Одноэтажная Америка», книгу-очерк, книгу-репортаж, итог трехмесячного пребывания в Соединенных Штатах.
Отправляясь за океан, писатели не собирались отыскивать в американском образе жизни сплошь негативные черты и всё писать черными красками, как тогда было принято. Не надевали на глаза шоры. Все хорошее были готовы поддержать, искренне радовались доброжелательному отношению американцев к России и с готовностью отвечали дружбой на дружбу. Но подлаживаться в своих суждениях к американским представлениям, хвалить то, что было им не по душе, и тем самым завоевывать расположение хозяев Ильф и Петров также считали недостойным. Свою позицию они сформулировали в конце книги. Это как бы ключ к ее пониманию. «Американцы очень сердятся на европейцев, которые приезжают в Америку, пользуются ее гостеприимством, а потом ее ругают. Американцы часто с раздражением говорили нам об этом. Но нам непонятна такая постановка вопроса – ругать или хвалить. Америка – не премьера новой пьесы, а мы – не театральные критики. Мы переносили на бумагу свои впечатления об этой стране и наши мысли о ней».
Судьба литературного содружества Ильфа и Петрова необычна. Она трогает и волнует. Они работали вместе недолго, всего десять лет, но в истории советской литературы оставили глубокий, неизгладимый след. Память о них не меркнет, и любовь читателей к их книгам не слабеет.
Широкой известностью пользуются романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». В новых исторических условиях, на материале нашей современности, Ильф и Петров не только возродили старый, классический жанр сатирического романа, но и придали ему принципиально новый характер.
Мы называем прежде всего два эти романа, потому что «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» действительно вершины творчества Ильфа и Петрова. Но романы эти возвышаются над целым литературным массивом, который составляют произведения самых различных жанров. Обозревая литературное наследие Ильфа и Петрова, не только произведения, написанные ими вместе, но и каждым в отдельности, нельзя не подивиться широте творческих возможностей писателей, литературному блеску фельетонов, очерков, комедий. Талант сатириков бил ключом. Впереди перед авторами открывалась широкая дорога. Они вынашивали множество замыслов, планов, тем. Сатира в произведениях писателей становилась все глубже. К сожалению, конец их содружества был трагичен. Жизнь Ильфа оборвалась слишком рано. А через несколько лет, тоже в расцвете таланта, погиб Петров.
Вся их недолгая совместная литературная деятельность тесно, неразрывно связана с первыми десятилетиями существования советской власти. Они не просто были современниками своей великой эпохи, но и активными участниками социалистического строительства, борцами на переднем крае. Смех был их литературным оружием, и они не сложили это оружие до конца своих дней.
Знакомясь с наследием Ильфа и Петрова, читатель поймет, какой большой потерей для советской литературы была их преждевременная гибель.
Мы вспоминаем первые годы Великой Октябрьской социалистической революции. Они исполнены живого, революционного драматизма. Народ ведет самоотверженную борьбу против всех старых общественных сил. Героическое время рождает героические натуры.
В эти годы народ разрушает основы капитализма и закладывает фундамент социалистического строя. Буржуазия оказывает бешеное сопротивление. Борьба идет во всех областях жизни – в промышленности, в сельском хозяйстве, в культуре, в быту. Это многосторонняя борьба. Народ творит дело революции не только с великой страстью, с энтузиазмом, с романтическим подъемом, но и с бодрой энергией, со светлой надеждой.
Люди терпели тогда неимоверные лишения. Революционные годы были и голодными годами. Однако очень часто народ переносил свои страдания со смехом, с улыбками, с шутками. В этом проявилась огромная моральная сила победителей. Дело разрушения гнилых стен и заборов старого социального строя – дело приятное и веселое.
От того времени дошли до нас народные песни, частушки, прибаутки, проникнутые подлинным юмором. Смех играл серьезную роль. «Смешное убивает», – говорят французы. Это верно. Народ бил своих врагов горячим и холодным оружием и добивал смехом.
Какую богатую пищу для сатиры и юмора дала, например, фигура нэпмана. В своеобразных условиях возникла эта особая разновидность частного собственника, приобретателя. Нэпман – тип капиталиста без капитализма. Он не имел уже сколько-нибудь глубоких корней в классовой почве. Это был сорняк, кое-где разросшийся довольно буйно, но лишенный социальной силы. Командные позиции прочно находились в руках рабочего класса. Народ был хозяином страны. А нэпман чувствовал, что он гость, чужак, пришелец, выходец с того света, и он торопился, жадно глотал, давясь кусками, пока не прогнали, пока не уничтожили. Нэпман был отвратителен, его курбеты смешны. Он сам издевался над собой, глумился с наглостью и цинизмом.
Все это были по существу своему мелочи, детали, пыль и сор, поднятые революционным вихрем. Это вскоре стало проходить. Многое исчезло, не оставив после, себя даже следов. Но в этом причудливом и порой комическом смешении старого и нового, когда нелегко было разобраться, где разрушается прошлое, где возникает будущее, были свои характерные черты.
Советская художественная литература в точности отразила эти процессы. В те годы создавались героические поэмы и эпопеи, лирические произведения, проникнутые высоким революционным пафосом, оптимистические трагедии. И вместе с тем громко звучал смех. Сатирическая и юмористическая литература расцвела, распустилась пышно и ярко, как-то сразу, словно давно дожидалась этого момента.
В журналах и газетах того времени были представлены самые разнообразные жанры комической литературы: юмористические стихи, басни, частушки, раешники. По-новому звучал смех на театральных подмостках. Веселый юмор проникал в музыку.
Всякие оттенки были в этом смехе. Иные смеялись с тоской по старому, злорадно радуясь и частным неудачам нового. В этом смехе, двусмысленном, неискреннем, не было никакой веры в будущее, сквозил гнилой скептицизм, смех переходил в глумление над всем окружающим. Но скептический смешок постепенно замирал под напором подлинной и меткой революционной сатиры. Демьян Бедный и Маяковский задавали тон сатирической литературе того времени. Они смеялись весело и зло, с глубокой верой в полное торжество нового общественного строя. Это был смех, идущий от здорового и сильного революционного чувства, смех передовой, новой силы над отжившим свое время общественным гнильем.
одно из изданий «12 стульев»
Роман Ильфа и Петрова «12 стульев» — один из немногих советских, оставшихся популярным и с крушением Советской власти.«12 стульев» увидели свет ровно 90 лет назад, в январе 1928 года. Сначала печатались частями в журнале «30 дней», где редакторами были журналист Василий Регинин (1883-1952) и поэт и писатель Владимир Нарбут (1888-1938), но вскоре вышли отдельной книгой в издательстве «Земля и фабрика», которым тоже руководил Нарбут
Автор фабулы
Советский писатель Валентин Петрович Катаев (1897-1986)
Катаев, увлеченный «движущимся героем», который, путешествуя, создает сюжет и портретную галерею,…преподнес готовую фабулу плутовского романа: «Поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев, разбросанных революцией по стране» (С. Шаргунов «Катаев», серия ЖЗЛ)
И Катаев, используя свой литературный авторитет, договорился с журналом об издании ещё не написанной книги
Авторы романа
«Осенью 1927 года, войдя в комнату «четвертой полосы» «Гудка», Катаев предложил Евгению Петрову и Илье Ильфу,… опеку в новом проекте – расцвести под солнцем его славы. Из записей Петрова: «Валя собирается создать литературную артель на манер Дюма-отца». Он предложил им вместе писать книги. В отличие от Дюма он избавит своих работников от анонимности, но пусть на обложке красуется и его имя – знаменитый и успешный брат и собрат расчистит им дорогу… Он брался редактировать «рукой мастера» (написанное «неграми) – (придавать) нужные формы из глины, которую разомнут «негритянские» руки, ну и, конечно, пристраивать в печать.
Впоследствии он спрашивал себя, почему выбрал именно эту пару для литературного скрещивания, и, не находя ответа, винил во всем свой «собачий нюх»: «Я предложил им соединиться. Они не без любопытства осмотрели друг друга с ног до головы». И согласились»
Как создавался роман «12 стульев»
(Поставив задачу) Катаев отправился на Зеленый Мыс под Батумом.., а от сотворенной им парочки требовалось, пускай и вчерне, начать писать. Он хвастал, что уехал, «оставив моим крепостным довольно подробный план будущего романа». По версии Петрова, схему с двенадцатью стульями расписали он с Ильфом и лишь представили ее на суд мэтра:
«– Валюн, пройдитесь рукой мастера сейчас, – сказал Ильф, – вот по этому плану.
– Нечего, нечего, вы негры и должны трудиться».
По Катаеву, пока он плавал, выпивал и сочинительствовал, они принялись бомбить его телеграммами, требуя инструкций по поводу сюжетных коллизий. «Сначала я отвечал им коротко: “Думайте сами”. А потом и совсем перестал отвечать, погруженный в райскую жизнь»….
А Ильф и Петров писали без остановки – после рабочего дня в редакции с вечера и до глубокой ночи…Петров вспоминал: «Если бы я не боялся показаться банальным, я сказал бы, что мы писали кровью. Мы уходили из Дворца труда в два или три часа ночи, ошеломленные, почти задохшиеся от папиросного дыма. Мы возвращались домой по мокрым и пустым московским переулкам, освещенным зеленоватыми газовыми фонарями, не в состоянии произнести ни слова».
Когда через месяц отсутствия Катаев вернулся, перед ним развернули папку с первой внушительной частью романа. К унылому Воробьянинову, изначально Катаевым придуманному и близкому его «растратчикам», добавился наступательно-победительный Остап Бендер.
«Мы никак не могли себе представить – хорошо мы написали или плохо, – признавался Петров. – Если бы…Валентин Катаев, сказал нам, что мы принесли галиматью, мы нисколько не удивились бы. Мы готовились к самому худшему».
Но, слушая чтение, «старик», по его признанию, уже через десять минут понял, что книге предстоит «мировая слава». Он немедленно благородно отказался от соавторства и пообещал перезаключить договор на публикацию, который уже успел подписать: «Ученики побили учителя, как русские шведов под Полтавой. Заканчивайте роман сами, и да благословит вас Бог». Теперь он попросил лишь о двух условиях: во-первых, посвятить ему роман и чтобы это посвящение было во всех изданиях, а во-вторых, с гонорара за книгу одарить золотым портсигаром» (С. Шаргунов «Катаев», серия ЖЗЛ)
Условия были выполнены. Любое издание книги на любом языке обязательно начинается посвящением Валентину Петровичу Катаеву
Портсигар Катаев тоже получил…, «правда, раза в два меньше ожидаемого. «Эти жмоты поскупились на мужской». Младший брат осадил старшего чеховским: «Лопай, что дают», и все трое «отправились обмыть дамский портсигарчик в “Метрополь”»
Прототипы героев «12 стульев»
- Остап Бендер — Осип Беньяминович Шор, брат приятеля В. Катаева, одесского поэта Анатолия Фиолетова (Натана Беньяминовича Шора; 1897-1918)
«чью внешность романисты передали почти полностью: «атлетическое сложение и романтический, чисто черноморский характер». Согласно изысканиям нескольких украинских журналистов, Осип в 1918–1919 годах, возвращаясь из Петрограда в Одессу, дабы не пропасть, проворачивал разные комбинации: представился художником и устроился на агитационный волжский пароход; слабо умея играть в шахматы, назвался гроссмейстером; выдал себя за агента подпольной антисоветской организации, провел всю зиму у пухленькой женщины, обнадеживая ее скорой женитьбой. Шор рассказывал своим одесским знакомым об этих и других авантюрных приключениях. В 1937 году он загремел на пять лет в лагерь, а под конец жизни работал проводником поездов дальнего следования. Умер в 1978 году»
- Эллочка-людоедка — тётя жены В. Катаева Тамара Сергеевна
- Фимка Собак, подруга Эллочки — подруга Тамары Сергеевны Раиса Аркадьевна Сокол, впоследствии прошедшая всю войну медсестрой
- И. П. Воробьянинов — двоюродный дядя Катаевых – председатель уездной управы
- Инженер Брунс и его жена Мусик — сам В. Катаев и его жена Анна Коваленко, которую в семье тоже звали Мусик
- Никифор Ляпис-Трубецкой — по мнению некоторых литературоведов в этом образе просматривается В. Маяковский, готовый писать на любые темы («О хлебе, качестве продукции и о любимой», посвященной Хине Члек» («12 стульев», глава «Автор «Гаврилиады»)
- Хина Члек — любовница Маяковского Лиля Брик
- Старгород — город Старобельск Ростовской области
- Газета «Станок» — газета «Гудок», где работали в качестве литсотрудников и фельетонистов Ильф и Петров
- Дом народов, где размещалась редакция «Станка» — Дворец труда ВЦСПС на Москворецкой набережной
- Комнаты «Общежития имени монаха Бертольда Шварца» списаны с жилища Ильфа при редакции «Гудка»
«нужно было иметь большое воображение и большой опыт по части ночевок в коридоре у знакомых, чтобы назвать комнатой это ничтожное количество квадратных сантиметров, ограниченных половинкой окна и тремя перегородками из чистейшей фанеры. Там помещался матрац на четырех кирпичах и стул. Потом, когда Ильф женился, ко всему этому был добавлен еще и примус. Четырьмя годами позже мы описали это жилище в романе «Двенадцать стульев» в главе «Общежитие имени монаха Бертольда Шварца»» (из воспоминаний Е. Петрова)
Фразы из «12 стульев», ставшие крылатыми
- Ключ от квартиры, где деньги лежат
- Пролетарий умственного труда, работник метлы
- Почём опиум для народа?
- Согласие есть продукт полного непротивления сторон
- Заграница нам поможет
- Вам некуда торопиться. ГПУ за вами само придёт
- Контробанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице
- Голубой воришка
- Великий комбинатор
- Не корысти ради, а токмо волей пославшей мя больной жены
- Гигант мысли, особа, приближенная к императору
- Слесарь-интеллигент
- Отец русской демократии
- От мёртвого осла уши
- Жертва аборта
- Дышите глубже, вы взолнованы
- Бриллиантовая вдовушка
- Спасение утопающих, дело рук самих утопающих
- Гроссмейстера бьют!
- Нью-Васюки
- Эллочка-людоедка
- Лёд тронулся, господа присяжные заседатели
Судьба романа. Кратко
Сначала критика встретила «12 стульев» упреками в «пустоте», «безыдейности», «уклонизме», Затем он и его продолжение «Золотой телёнок» приобрели огромную популярность. Гром грянул в 1948 году. Попытка переиздания «Советским писателем» натолкнулась на противодействие. Романы именовались «пасквилянсхими и клеветническими» и могущими «вызвать только возмущение советских людей». Они были запрещены и получили свободу только в 1956 году
Экранизации
- 1966 — фильм-спектакль Александра Белинскиого, в роли Остапа Бендера Игорь Горбачев
- 1971 — двухсерийный художественный фильм Леонида Гайдая, в роли Остапа Бендера — Арчил Гомиашвили
- 1976 — 4-х-серийный телефильм Марка Захарова, в роли Остапа Бендера Андрей Миронов
Посвящается Валентину Петровичу Катаеву
Часть I
Старгородский лев
Глава 1
Безенчук и «нимфы»
В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города N была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы.
Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с девяти утра до пяти вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака.
По утрам, выпив из морозного, с жилкой, стакана свою порцию горячего молока, поданного Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу имени товарища Губернского. Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами угрюмо возлежали дубовые пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. Далее «Цирульный мастер Пьер и Константин» обещал своим потребителям «холю ногтей» и «ондулянсион на дому». Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую, прислоненную к одиноко торчащим воротам вывеску:
ПОГРЕБАЛЬНАЯ КОНТОРА
«Милости просим»
Хотя похоронных дел было множество, но клиентура у них была небогатая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб.
Люди в городе N умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в загсе, где ведал столом регистрации смертей и браков.
Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый угол его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета с записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города N и о генеалогических древах, произросших на скудной уездной почве.
В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы, с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились, но жена (это было незадолго до ее смерти) нашла, что в очках он – вылитый Милюков, и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием.
– Бонжур! – пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели. «Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении «гут морген» обычно значило, что печень пошаливает, что пятьдесят два года – не шутка и что погода нынче сырая.
Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у щиколоток тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый пиджачок. Смахнув со своих седин оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности потрогал рукою шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теще – Клавдии Ивановне.
– Эпполе-эт, – прогремела она, – сегодня я видела дурной сон.
Слово «сон» было произнесено с французским прононсом.
Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до ста восьмидесяти пяти сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением.
Клавдия Ивановна продолжала:
– Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке.
– Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего.
Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал:
– Ничего не будет, маман. За воду вы уже вносили?
Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце, от крика которого, как известно, приседали кони. И кроме того, – что было самым ужасным, – Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках, лошади, обшитые желтым драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему под носом у нее выросли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья.
Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому.
У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.
– Почет дорогому гостю! – прокричал он скороговоркой, завидев Ипполита Матвеевича. – С добрым утром!
Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу.
– Как здоровье тещеньки, разрешите узнать?
– Мр-мр-мр, – неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше.
– Ну, дай Бог здоровьичка, – с горечью сказал Безенчук, – одних убытков сколько несем, туды его в качель!
И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери.
У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попридержали.
Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи.
– Здорова, здорова, – ответил Ипполит Матвеевич, – что ей делается! Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Такое ей было видение во сне.
Три «нимфа» переглянулись и громко вздохнули.
Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело – и уходи», показывали пять минут десятого.
Ипполита Матвеевича за большой рост, а особенно за усы, прозвали в учреждении Мацистом, хотя у настоящего Мациста никаких усов не было.
Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стул, придал усам правильное направление (параллельно линии стола) и сел на подушечку, немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком.
За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей – мужчина и девица. Мужчина в суконном на вате пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности строгим плакатом «Сделал свое дело – и уходи». Хотя дела своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель № 2 и дернув щечкой, углубился в бумаги. Девица в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошепталась с мужчиной и, теплея от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу.
– Товарищ, – сказала она, – где тут…
Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул:
– Сочетаться!
Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета.
– Рождение? Смерть?
– Сочетаться, – повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам.
Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов два рубля и выдав квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: «За совершение таинства», – и поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь (в свое время он нашивал корсет). Толстые желтые лучи солнца лежали на его плечах, как эполеты. Вид у него был несколько смешной, но необыкновенно торжественный. Двояковогнутые стекла пенсне лучились белым прожекторным светом. Молодые стояли, как барашки.
– Молодые люди, – заявил Ипполит Матвеевич выспренно, – позвольте вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком. Очень, оч-чень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, оч-чень приятно!
Произнесши эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя № 2.
За соседним столом служащие хрюкнули в чернильницы.
Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе «Плуг и молот». Никто этому не удивился. Потом раздались металлическое кряканье и клекот мотора. С улицы имени товарища Губернского выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клекот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры исполкомовского автомобиля Гос. № 1 с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ядовитом дыму. Служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам осторожно прошел мастер Безенчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто.
Служебный день подходил к концу. На соседней, желтенькой с белым, колокольне что есть мочи забили в колокола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью.
Ипполиту Матвеевичу пора было уходить. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь, к явному разорению гробовщиков, ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и уже было, мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук.
– Почет дорогому гостю, – улыбнулся Ипполит Матвеевич. – Что скажешь?
Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог.
– Ну? – спросил Ипполит Матвеевич более строго.
– «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? – смутно молвил гробовой мастер. – Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб – он одного лесу сколько требует…
– Чего? – спросил Ипполит Матвеевич.
– Да вот «Нимфа»… Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и матерьял не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я – фирма старая. Основан в тысяча девятьсот седьмом году. У меня гроб – огурчик, отборный, любительский…
– Ты что же это, с ума сошел? – кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. – Обалдеешь ты среди гробов.
Безенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения.
– Еще когда «Милости просим» было, тогда верно! Против ихнего глазету ни одна фирма, даже в самой Твери, выстоять не могла, туды ее в качель. А теперь, прямо скажу, лучше моего товара нет. И не ищите даже.
Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно.
Три владельца «Нимфы» стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в лицах, таинственная удовлетворенность, томно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное.
При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову:
– Уступлю за тридцать два рублика.
Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг.
Трое же владельцев «Нимфы» ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, беспрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь.
Рассерженный вконец глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженно соскреб о ступеньку грязь и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра отец Федор. Подобрав правой рукой рясу и не обращая внимания на Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу.
Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый, режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, агрономша Кузнецова. Она зашептала и замахала руками:
– Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами.
– Я не стучу, – покорно ответил Ипполит Матвеевич. – Что же случилось?
Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты:
– Сильнейший сердечный припадок. – И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила: – Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю – дверь открыта, в кухне никого, в этой комнате тоже, ну, я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей. Она давеча собиралась. Мука теперь, сами знаете, если не купишь заранее…
Мадам Кузнецова долго еще рассказывала бы про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну лежащей у изразцовой печки в совершенно мертвенном состоянии, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи.
Глава 2
Кончина мадам Петуховой
Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили «шантеклер» и только начинали танцевать аргентинский танец «танго».
Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок.
– Клавдия Ивановна! – позвал Воробьянинов.
Теща быстро зашевелила губами, но вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков он услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный, что сердце его дрогнуло. Блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и, словно ртуть, скользнула по лицу.
– Клавдия Ивановна, – повторил Воробьянинов, – что с вами?
Но он снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок.
В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться.
– Она заснула. Врач не велел ее беспокоить. Вы, голубчик, вот что – сходите в аптеку. Нате квитанцию и узнайте, почем пузыри для льда.
Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в подобных делах.
До аптеки бежать было далеко. По-гимназически, зажав в кулаке рецепт, Ипполит Матвеевич торопливо вышел на улицу.
Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках три «нимфа» и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал:
– Путаются, туды их в качель, под ногами.
Посреди Старопанской площади, у бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью: «Поэзия есть бог в святых мечтах земли», велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что «все там будем» и что «Бог дал, Бог и взял».
Парикмахер «Пьер и Константин», охотно отзывавшийся, впрочем, на имя «Андрей Иванович», и тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, почерпнутые им из московского журнала «Огонек».
– Современная наука, – говорил Андрей Иванович, – дошла до невозможного. Возьмите: скажем, у клиента прыщик на подбородке вскочил. Раньше до заражения крови доходило, а теперь в Москве, говорят, – не знаю, правда это или неправда, – на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается.
Граждане протяжно вздохнули.
– Это ты, Андрей, малость перехватил…
– Где же это видано, чтоб на каждого человека отдельная кисточка? Выдумает же!
Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусис даже разнервничался:
– Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписи, больше двух миллионов жителей? Так, значит, нужно больше двух миллионов кисточек? Довольно оригинально.
Разговор принимал горячие формы и черт знает до чего дошел бы, если б в конце Осыпной улицы не показался Ипполит Матвеевич.
– Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит.
– Помрет старуха. Недаром Безенчук по городу сам не свой бегает.
– А доктор что говорит?
– Что доктор! В страхкассе разве доктора? И здорового залечат!
«Пьер и Константин», давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись:
– Теперь вся сила в гемоглобине.
Сказав это, «Пьер и Константин» умолк.
Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина.
Когда поднялась луна и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спине можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ругательство.
Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года в ночь, наступившую непосредственно после открытия памятника. И как представители полиции, а впоследствии милиции ни старались, хулительная надпись аккуратно возобновлялась каждый день.
В деревянных, с наружными ставнями, домиках уже пели самовары. Был час ужина. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись. Подул ветер.
Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы.
Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соболезнующие письма родственников. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук.
– Так как же прикажете, господин Воробьянинов? – спросил мастер, прижимая к груди картуз.
– Что ж, пожалуй, – угрюмо ответил Ипполит Матвеевич.
– А «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает! – заволновался Безенчук.
– Да пошел ты к черту! Надоел!
– Я ничего. Я насчет кистей и глазета. Как сделать, туды ее в качель? Первый сорт, прима? Или как?
– Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб. Сосновый. Понял?
Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился восвояси. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что мастер смертельно пьян.
На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую, замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившей у него большие удобства и широкие привычки. «Жениться? – подумал Ипполит Матвеевич. – На ком? На племяннице начальника милиции, на Варваре Степановне, сестре Прусиса? Или, может быть, нанять домработницу? Куда там! Затаскает по судам. Да и накладно».
Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. Полный негодования и отвращения ко всему на свете, он снова вернулся в дом.
Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посматривала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго.
– Ипполит, – прошептала она явственно, – сядьте около меня. Я должна рассказать вам…
Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее. Но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье.
– Ипполит, – повторила теща, – помните вы наш гостиный гарнитур?
– Какой? – спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям.
– Тот… обитый английским ситцем…
– Ах, это в моем доме?
– Да, в Старгороде…
– Помню, отлично помню… Диван, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамбсовская… А почему вы вспомнили?
Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковой пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагерротипами сановных родственников на стенах.
Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала:
– В сиденье стула я зашила свои брильянты.
Ипполит Матвеевич покосился на старуху.
– Какие брильянты? – спросил он машинально, но тут же спохватился: – Разве их не отобрали тогда, во время обыска?
– Я спрятала брильянты в стул, – упрямо повторила старуха.
Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит.
– Ваши брильянты! – закричал он, пугаясь силы своего голоса. – В стул! Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне?
– Как же было дать вам брильянты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? – спокойно и зло молвила старуха.
Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть.
– Но вы их вынули оттуда? Они здесь?
Старуха отрицательно покачала головой.
– Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином.
– Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! – закричал Ипполит Матвеевич полным голосом.
И уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей, с грохотом отодвинул стул и засеменил по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича.
– Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смирнехонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши р-регалии?
Старуха ничего не ответила.
У делопроизводителя загса от злобы свалилось с носа пенсне и, мелькнув у колен золотой дужкой, грянулось об пол.
– Как? Засадить в стул брильянтов на семьдесят тысяч! В стул, на котором неизвестно кто сидит!..
Тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тотчас же упала на стеганое фиолетовое одеяло.
Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к соседке.
– Умирает, кажется!
Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам Воробьянинов ошеломленно забрел в городской сад.
Покуда чета агрономов со своей прислугой прибирала в комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натыкаясь на скамьи и принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты.
В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли «танго-амапа», представлялись ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые, упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны.
Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся о тело гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал.
– Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов, – сказал он горячо, как бы продолжая начатый давеча разговор. – Гроб – он работу любит.
– Умерла Клавдия Ивановна, – сообщил заказчик.
– Ну, царствие небесное, – согласился Безенчук. – Преставилась, значит, старушка… Старушки, они всегда преставляются… Или Богу душу отдают, – это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, – значит, преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее – та, считается, Богу душу отдает…
– То есть как это считается? У кого это считается?
– У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай Бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал».
Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:
– Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?
Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и, по обыкновению, бормоча.
Луна давно сгинула. Было по-зимнему холодно. Лужи снова затянуло ломким вафельным льдом. На улице имени товарища Губернского, куда вышли спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопанской площади, со звуками опускаемой шторы, выехал пожарный обоз на тощих лошадях.
Пожарные, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами в касках и пели нарочито противными голосами:
Нашему брандмейстеру слава,
Нашему дорогому товарищу Насосову сла-ава!..
– На свадьбе у Кольки, брандмейстерова сына, гуляли, – равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. – Так неужто без глазету и без всего делать?
Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. «Поеду, – решил он, – найду. А там посмотрим». И в брильянтовых мечтах даже покойница-теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку:
– Черт с тобой! Делай! Глазетовый! С кистями!