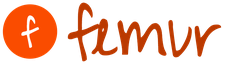Диктанты, изложения и уроки чтения. Тексты для чтения, диктантов и изложений
Текущая страница: 1 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Георгий Марков
Отец и сын (сборник)
© Марков Г.М., наследники, 2013
© ООО «Издательство «Вече», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес
Отец и сын
Роман
Книга первая
Глава перваяВ знойную июльскую пору тысяча девятьсот двадцать первого года вверх по Васюгану плыли караваном проконопаченные паклей с варом, просмоленные тесовые лодки. В лодках под брезентом и берестой – груз, на кормовых и носовых лавках – мужики, бабы, ребятишки. Лодки осели в воду по самые верхние бортовины и двигались медленно, тяжело, будто взбирались на крутую гору. Хотя река Васюган тихая, без волны, и темная-темная, как из навара чаги, а все ж не стоит она на месте, катит непроглядное, мутное месиво из воды, ила, древесного мусора к глубоким обским омутам. В версте от каравана – два баркаса. В них – кони и коровы на тугих привязях.
Взрывая вековечную тишину Васюгана, гулко хлопали о воду плицы гребей, пронзительно взвизгивали от натуги уключины, перекрикивались по-богатырски звонкими и сильными от эха голосами горластые мужики.
Старый, матерый глухарь взгромоздился на сухую вершину высоченного кедра, вытянул вороненую шею и замер, будто окаменел. Птичий век его подходил к концу, а такого скопления людей ему видывать на этой безмолвной реке не доводилось.
На третий день пути Васюган изогнулся, словно змея перед прыжком, и рассек глухую холмистую тайгу длинным и прямым, наподобие охотничьего ножа, плесом. Слева поднимался белый, чуть не меловой яр в отменных лесах: кедр, сосна, береза – и все как на подбор; а справа тянулся серебрящийся и днем, и в лунные ночи песок, чисто промытый в половодье. Вдоль реки по песку стояла зеленая стена из тополей, ветлы и тальника. За этой стеной расстилались гладкие, покрытые густой травой заливные луга. Вдали их разбег преграждала непроглядная, дремучая тайга. Она сливалась с небом, и думалось, нет у нее ни конца ни края.
Когда прямой плес пошел на закругление, первая лодка причалила к берегу. Из нее выпрыгнул высокий длиннорукий мужик. Он был в броднях с завернутыми голенищами, в просторных холщовых шароварах, в сатиновой рубашке без пояса. Большую лобастую голову покрывали волнистые, почти кудрявые светло-русые волосы. На щеках и под губами лохматилась небогатая бородка, тоже почти кудрявая. На сухощавом лице – крупный нос и неспокойные серые глаза, зоркие, в прищуре, диковатые, как у рассерженной рыси, а минутами добрые, буйно-веселые. Это был Роман Захарович Бастрыков.
– Правь сюды! – крикнул он кормовым в лодках и зазывно замахал руками.
– Чуем, Роман! – отозвались с лодок, и они одна за другой повернули к берегу.
– Ну айда, ребятушки, на смотрины, – сказал Бастрыков мужикам, вместе с ним сошедшим с лодки.
Сокрушая бурьян сильными ногами, Бастрыков шагнул прямо в чащобу леса, полез в гору. За ним цепочкой потянулись: толстый, с повисшей сухой рукой Васюха Степин; его братан Митяй – жилистый, гибкий парень с отчаянными, озорными глазами и усмешкой на веснушчатом лице; грудастый силач Тереха, крепкий и тяжелый, будто выпиленный из лиственничного сутунка, и десятилетний парнишка, щуплый цыпленок, розовощекий и светлоглазый, как девчонка, Алешка, сынок Бастрыкова, нигде и никогда не покидавший отца. Лес скрыл мужиков, голоса их стали неразборчивыми, а потом и вовсе затерялись в неподвижной немоте тайги.
Лодки пристали, но на берег никто сходить не рисковал: а вдруг придет Роман с мужиками и доведется снова плыть по Васюгану дальше и дальше?
Ждали долго – может быть, час, а то и поболе. Вот стал слышен хруст сушняка под ногами мужиков, потом их говор. Они были веселы, разговаривали громко, смеялись, Митяй Степин присвистывал и от озорства и от удовольствия. Гоготал и сам Роман Бастрыков. Его любимец Алешка попискивал наподобие бурундучка тонюсенько-тонюсенько, будто дул в соломинку.
– Над чем вы там ржете-то, как жеребцы стоялые? – крикнули с лодок, когда головы мужиков замелькали в прибрежном бурьяне.
Алешка обогнал всех, подбежал к лодкам первым, давясь смехом, принялся рассказывать:
– Михайла Топтыгин… учудил… Идем, а он на полянке балуется… Испужались мы… убечь хотели. А тятя говорит: «Давайте тумнем все разом». Мы и крикнули. Ка-а-ак он сиганет! И пошел и пошел, только хруст стоит. Так перепужался, что с перепугу всю поляну обмарал…
Алешка закинул вихрастую головенку, залился звонким смехом.
– Господи боже, и куды нас нелегкая занесла! – запричитала на одной из лодок баба, повязанная, невзирая на жару, теплым полушалком.
– А если б он кинулся на вас – тогда что? Голой рукой разве его возьмешь?! Подмочил бы ты тогда, Алешка, штаны-то! – ухмыльнулся кормовой самой большой лодки Иван Солдат, степенный мужик со смолево-черной окладистой бородой.
– Голой рукой?! А вот он – топор! Хрясь по черепку между глаз – и готов! – подходя к лодкам, сказал Митяй и поиграл топором, перебрасывая его из руки в руку.
Последним вышел из лесу Бастрыков. Люди в лодках примолкли, бросали на него нетерпеливые и вопрошающие взгляды. Бастрыков вытер рукавом рубахи взмокшее, в крупных каплях пота, раскрасневшееся лицо.
– Тут и осядем, братаны.
– Обскажи выгоды, – попросил Иван Солдат.
И все вокруг насторожились, чтобы не упустить чего.
– Перво-наперво – место, – заговорил Бастрыков. – Видимость во все стороны. Мы видим, и нас видят. Избы срубим по яру, вдоль реки. Лес тут же: сосна, ель, пихта. Что тебе по душе, то и руби. Чуть подале – кедрач, а раз кедрач, то и орех, и зверь, и ягоды под рукой.
– А под пашню чистина найдется? – спросила баба, низко повязанная полушалком. На нее зашикали: не перебивай, мол, дойдет черед и до этого, Роман не без головы.
Но Бастрыков услышал и ответил без промедления:
– Чистины есть, а только сразу не вспашешь. Выжигать и корчевать придется.
– Ой, мужики, насидимся без хлеба! – воскликнула баба.
– Проживем, Лукерья! Рыба, дичь, ягода…
– Обсказывай, Роман, выгоды…
– Ну, вон напротив нас луга, – продолжал Бастрыков. – Есть где скотине мясо и жир нагуливать. А рядом с нами еще одна речка. – Он махнул длинной рукой. – Вот этот заливчик устье обозначает. В случае, если в большой реке рыбы нету, в малой ее будем брать…
– Будто для нас сотворено это место, – подтвердил Васюха Степин.
– От добра добра не ищут. Давайте выгружаться да балаганы к ночи готовить. Не ровен час гроза соберется. Припаривает, как в бане. – Иван Солдат похлопал себя широкой ладонью по нечесаной, лохматой голове.
– С богом! Не один ли шут, где помирать: здесь или еще где. – Лукерья встала, сбросила с себя полушалок и, сразу чудом помолодевшая, легко и ловко выпрыгнула из лодки.
– Ты у меня докаркаешься! – крикнул на жену Тереха и угрожающе, без шутки, поднял кулаки-кувалды на уровень крепкой, выгнутой груди.
Мужики, бабы, ребятишки – все кинулись из лодок на берег. Митяй подошел к толстой сосне, ловкими ударами топора стесал боковину. Алешка сбегал в лодку, принес банку со смолой, Митяй корявыми буквами вывел: «Сдеся поселилась сельскохозяйственна коммуна “Дружба”.
– Как, Роман, вывеска подходяща? – спросил он, когда работа была окончена.
Бастрыков сидел на пеньке, плановал с мужиками, как расставить балаганы, где поместить общую кухню и построить склад для хранения припасов и прочего имущества.
– Какая вывеска? – Бастрыков озабоченно взглянул на Митяя и своего сынка Алешку, который, как вьюн, крутился то возле отца, то возле парня.
– А вона… Пусть все знают, что пришла на Васюган советска власть и коммуния, – указывая на толстую прибрежную сосну, с торжественностью в голосе произнес Митяй.
– Глянь, тятя, глянь! – схватив отца за руку, Алешка тянул Романа за собой.
Бастрыков встал, подошел к сосне. Мужики все до едина двинулись за Романом.
Около сосны Роман остановился, уставил длинные руки в бока, откинул голову и замер с тихой улыбкой на губах.
– Эх, чертяка, угораздил! – Бастрыков бросил на Митяя довольный взгляд. – Вывеска неслыханна, никто мимо такой вывески не пройдет, не проедет. – Он прищурил глаза, вслух по складам прочитал: – «Сдеся поселилась сельскохозяйственна коммуна “Дружба”. – Потом произнес эти слова еще и еще раз. По гордой осанке, по задорно взбитой бороденке, по блаженству, которое отражалось на худощавом, забронзовевшем на солнцепеке лице, чувствовалось, что слова эти вызывают в душе Романа и радость и гордость и нет в жизни у него слов, которые были бы сейчас дороже этих.
Тереха сердито покосился на жену, и опять его увесистые кулаки угрожающе поднялись. Но Бастрыков посмотрел на Тереху осуждающе и Лукерье ответил с подчеркнутым уважением:
– Для самих себя это, Лукерья! Мало ли люди напридумали себе всяких удовольствий. Ну вот и мы: знай, дескать, наших, как-никак – коммунары!
– Да разве мы одни тут? Раскиданы здесь люди, как суслоны по пашне, – сказал Васюха Степин и повернулся к брату. – Доброе дело Митюшка придумал.
– Остяк, он хоть и не прочитает, потому что темен, а заметить – заметит. Глаз у него страсть какой зоркий, – обращаясь по-прежнему к Лукерье, пояснил Бастрыков. – И любопытен он, как ребенок. Вот пройдет слух, что мы на Белом яру поселились, и зачтут они к нам ездить… Придется привечать. Угнетенный был народ, обиженный…
– Парижски коммунары всем трудовым людям дружки были. Абы ты черны мозолисты руки имел, – хвастнул своими познаниями Митяй.
Алешка взглянул на него с завистью и поближе встал к парню. Тот, к великой радости мальчишки, обнял его при всех.
– Ну, братаны, дело надо делать, – сказал Бастрыков. – Одни будут лес валить, другие с неводом на рыбалку поедут. Вася, ты тут на берегу за старшего, а я там – на воде.
– А где я буду, тятя? – влез в разговор Алешка.
– Где иголка, там и нитка, – ласково усмехнулся Бастрыков.
– А Митяй куда пойдет, тятя?
– Митяй – лесоруб. Пойдет лес валить.
Алешка задумался: хорошо бы пойти с Митяем, весело с ним, но жалко покидать и отца, с ним всегда спокойно, хорошо: что не знаешь – он расскажет, что попросишь – непременно уважит, сделает.
– А ты, может, со мной, Алешка, пойдешь котелки чистить? – подскочила к парнишке Мотька – дочь Васи Степина, крепкая, мускулистая девка, проворная, как огонь.
– Вались-ка ты со своими котелками в болото, – отмахнулся Алешка и заспешил вслед за отцом.
Ушли мужики на работу, и опустел взлобок около обтесанной сосны. Остались тут одни бабы выгружать пожитки, только Лукерья отошла в сторону, привалилась к сосне, окинула взглядом по лихорадочному мятежных черных глаз широкий разлет лугов, блестящую, всю в золотых бликах реку, яр с нависшими над круговертью бездонных омутов соснами и березами, тяжело вздохнула. Нет, чужим и неприветливым казался ей этот далекий, пустынный край. Ни обилие рыбы в непроглядной, темной реке, ни эти безлюдные просторы, полные нетронутого богатства, ни радости коммунарской жизни, которые с такой щедростью обещал Роман Бастрыков, – ничто не трогало Лукерьиного сердца. Неужели ради прозябания тут, в этой глуши, стоило бросать насиженное гнездо в хлебопашеской родной сторонке, плыть пять суток на полуразбитом пароходишке все к северу, все к северу, а потом скрестись три дня на утлых лодчонках, рискуя в любую минуту наскочить на коварный подводный карч? Нет…
Лукерья закрыла лицо полушалком, всхлипнула.
Лукерья вздрогнула, выпрямилась.
«Господи, хоть бы ты-то, постылый, забыл меня в этот час! Ни детей с тобой не прижито, ни добра с тобой не нажито».
Вдруг на яру ударили острые топоры, рассыпался по тайге их стукоток, потом зазвенели поперечные пилы, рассекая дремотную тишину знойного полудня, рухнула первая сосна, да так рухнула, что земля задрожала.
Лукерья торопливо перекрестилась, со стоном произнесла:
– Батюшки светы, неужто не будет конца этой распрочертовой жизни!..
Глава втораяНикто, ни один посторонний человек не видел, как выгружались из лодок коммунары, как они три дня и три ночи без передышки ладили балаганы, амбар, рубили лес на постройку домов. Рано утром на четвертый день жизни у Белого яра произошел случай, который хочешь не хочешь заставил думать, что весть о прибытии коммунаров разнесли по Васюгану птицы.
Сидели у костров, завтракали. Бабы нажарили язей, напекли белых пышек из государственной муки, выданной коммуне наряду с двумя неводами, двумя баркасами, двенадцатью лодками, двадцатью охотничьими ружьями, с припасом «в порядке поддержки рабоче-крестьянской власти коммунистических устремлений бедноты и батрачества», как говорилось в постановлении губисполкома.
Ели у костров на длинных столах, сколоченных из толстых кедровых плах. Ели не спеша, деловито и основательно: впереди предстояла тяжелая работа.
– Лодка на реке! – вдруг крикнул Алешка, выскакивая из-под прибрежного куста, где он сидел с самого рассвета с удочками.
Коммунары отодвинули еду, встали из-за столов, потянулись один за другим поближе к реке. Отсюда, с изгиба берега, хорошо, насквозь просматривался и нижний плес, прямой как стрела, и верхний плес, круглый и тихий, как таежное озеро. Лодка плыла по этому верхнему плесу, ближе к левому берегу, возле которого было все-таки небольшое течение.
– Откуда же он плывет? И кто он?
– А может быть, он не один!
– А что, возьмет помашет нам платочком, и был таков, – переговаривались коммунары.
Подошла Лукерья, сложила руки крестом на груди, прислушалась к разговору, поблескивая глазами, с усмешкой сказала:
– Эка невидаль – человек едет! Совсем скоро одичаем, друг на дружку бросаться начнем.
– Тебе, Лукерьюшка, такое в привычку. Тебе только моргни, ты в момент фонарей Терехе под глаза наставишь, – съязвил под смех коммунаров Митяй.
– Черт ты сухоребрый! Язык у тебя, как помело, всяку грязь метет! – не осталась в долгу Лукерья.
Митяй не ждал такого удара, на мгновение опешил, тараща глаза на молодую, гибкую Лукерью, смачно выплюнул окурок, собираясь сказать ей в ответ такое, что аж лес закачается. Но Бастрыков опередил его:
– Не груби ей, Митяй. Грубостью не убедишь. Вот подожди: она сама скоро нашу жизнь поймет…
Лукерья отступила на шаг, внимательно, благодарным взглядом посмотрела на Бастрыкова.
– Спасибо тебе, Роман. Будь все такие, как ты, не то что коммунию – царство небесное на земле люди давным-давно воздвигли бы.
Бастрыков ухмыльнулся в клочковатую бородку, приветливо взглянул на рослую красавицу, вразумляющим тоном сказал:
– Коммуния, Лукерья, куда лучше царства небесного. Это царствие для мертвых, коммуния же для живых.
– Тять, в лодке остяк, в платке, с трубкой в зубах! – снова подал голос глазастый Алешка.
Все замолкли, пристально всматриваясь в приближавшегося человека. Вскоре стало видно, что человек плывет в легком обласке, по бортам обитом свежим ободком из черемухового прута. На середине обласка в железном ведерке курится синеватым дымком огневище. Таежный человек без огня ни шагу. И против гнуса и против зверя огонь – первое средство. Тлеет на угольках березовый нарост – трут, источает горьковатый запах. Без этого запаха остяк дня не проживет, как не проживет он и одного часа без крепкого табака. Приткнется остяк к берегу, сунет уголек под горсть сухого мха, а запылает огонь во всю силу.
– Здравствуй Ленин, а царь Миколашка нет! – закричал остяк, размахивая веслом.
– Ты смотри-ка, Роман, он про политику, – подмигнул Васюха Степин.
– Чует трудовой люд нашу Ленинску природу, – с важностью в голосе заключил Митяй.
Бастрыков разглядывал гостя.
Когда обласок ткнулся в песчаную косу, остяк поднялся, вышел на берег. Это был маленький, сухонький старичок с желтым морщинистым лицом, жидкими – в три волоска – усами и такой же бородкой, росшей на шее. Подслеповатые глаза его в красных, воспаленных веках слезились. Щеки запали, скулы заострились. Остяк был в броднях и ветхих, латаных штанах. Жесткая, полубрезентовая рубаха, прогоревшая по подолу, висела на нем, как бесформенная мешковина. Седая голова была по-бабьи повязана пестрой, ношеной-переношеной тряпкой. Чуткая к чужой нужде, отзывчивая на всякое горе душа Бастрыкова содрогнулась. Он заторопился навстречу бедняку, протягивая руку. Но старик, завидев его приближение, упал на колени, вскинул руки, забормотал:
– Здравствуй, большой начальник! Ёська пить-есть хочет. Ёська зверя бить хочет. Порфишка припас прячет, соболя дай, белку дай.
Смущенный Бастрыков подхватил старика под мышки, поднял его, поставил на ноги, виновато сказал:
– Так нельзя, дружище! Не старое время. Знай, я не начальник. Я председатель коммуны. А у нас все равные… Лукерья, приготовь-ка ему что-нибудь. Перво-наперво покормить его надо.
Остяка увели к столам, посадили, окружили стеной.
Он обжигался горячими пышками, жадными глотками пил сладкий, с сахаром, чай. Бастрыков посоветовал коммунарам идти на работу. При себе оставил Васюху Степина и Митяя. Остался, конечно, Алешка, не спускавший глаз с остяка.
Когда старик подкрепился и, набив табаком самодельную трубку с длинным березовым мундштуком, украшенным латунным колечком, задымил, мужики принялись расспрашивать, какая нужда заставила его приехать в коммуну. Старик сморщился, запыхтел, из воспаленных глаз потекли слезы.
– Ёська жить хочет. Ёська бабу кормит, парня кормит, девку кормит… Порфишка-купец товар прячет, припас прячет…
Старик рассказывал долго. Он то плакал, то негодовал, потрясая сухонькими, в пятнах смолы и ссадинах кулачками, то плевался желтой табачной слюной. Мужики слушали, стараясь правильно понять сбивчивый рассказ.
– Стало быть, дружище, – заговорил Бастрыков, – ты у коммуны подмоги просишь. Знай сам и другим расскажи: подмогу мы тебе окажем, хоть сами мы небогаты. Муку дадим и припас дадим. Наша вера такая: есть у тебя кусок – отломи от него и товарищу дай.
Ёська соскочил со скамейки, намереваясь снова встать перед Бастрыковым на колени. Но Митяй довольно бесцеремонно схватил старика за шиворот и опять посадил на скамейку.
– У коммунаров, братуха, равенство-братство и все, что есть, мое – твое, твое – мое.
Старик понял, что Митяй сказал что-то очень значительное, и принялся ему кланяться.
Васюха Степин, назначенный общим собранием коммунаров заведовать складами, направился под навес, где, прикрытый брезентами, лежал продовольственный запас коммуны, а также в особом ящике порох, дробь, пистоны, несобранные, все в смазке, двуствольные ружья центрального боя.
Пока Васюха отвешивал на скрипучем, изржавленном кантаре муку, Бастрыков и Митяй разговаривали с остяком.
– А что, дружище, много вас тут по Васюгану обитается? – спросил Бастрыков, не переставая смотреть на старика участливыми, с ласковой искринкой глазами.
Остяк в задумчивости стянул к губам подвижные морщины, перебирая пальцы, долго молчал, потом заговорил неожиданно оживленно и даже бойко:
– Ёська все здесь знает. В устье бывал, в вершине бывал, на большом болоте зверя бил. На Чижапке птицу промышлял. Ёська считать будет – слушай: стойбище Югино – пять юрт, еще пять юрт, еще две юрты.
– Двенадцать юрт, – подытожил Митяй.
– Стойбище Маргино – пять юрт, еще две юрты.
– Двенадцать юрт плюс семь юрт, итого девятнадцать юрт, – вел свой счет Митяй. – Стойбище Наунак… много юрт?
– Ну все-таки скажи, сколько там юрт? Намного Наунак больше, чем Югино? – заинтересовался Бастрыков.
Старик вскинул голову, повязанную платком, уставился подслеповатыми глазами куда-то в небо, твердо сказал:
– Наунак два Югино и еще Маргино.
– Двадцать четыре плюс семь будет тридцать один.
Значит, в твоем Наунаке, отец, тридцать одна юрта, – быстро подсчитал Митяй.
– Будет так, – утвердительно кивнул старик.
– А где живет Порфишка? – спросил Бастрыков, с усмешкой взглянув на Митяя.
– А, язва ему в брюхо! – Остяк сердито махнул рукой и опасливо огляделся. – Порфишка сильно худой человек… До него от вас семь плесов. – Старик погрозил полусогнутым пальцем в пространство. – Помирать будет – Бог спросит: за что, Порфишка, остячишков мучал? Зачем братишку Кирьку стрелял?
– Нет, дружище, так не пойдет, – замахал кудлатой головой Бастрыков. – Об этом Порфишку надо до его смерти спросить и на Бога эту работу не перекладывать.
– У коммунаров, братуха, так: на бога надейся, а сам не плошай, – засмеялся Митяй и обнял худенького, сгорбленного старика.
Остяк понял Митяевы слова, тронутый лаской, заглянул ему в лицо:
– Смелый ты, а Порфишка хитрый. Днем следы прячет, ночью живет.
– Ты позволь мне, Роман, съездить к этому Порфишке, испытать его хитрость.
– Подожди, Митяй, вместе поедем. Я тоже хочу на этого зверя посмотреть. Пусть знает: остяков обижать не дадим!
Алешка не упустил подходящего случая, встрял в самый решающий момент:
– Я, тятя, вместе с Митяем в греби сяду. Ты в корму. Ладно будет?
Подошел Васюха Степин с узелком и мешком в руках.
– Ну вот тебе, отец, пуд муки и на двести зарядов пороха и дроби.
Такой щедрой помощи остяк не ожидал. Он встал, посмотрел просветленными глазами на Васюху и Бастрыкова, на Митяя с Алешкой, размахнул руками, как бы заключая их в объятия. Потом не по-стариковски проворно сгреб узелки и мешок с мукой и бросился рысцой к лодке, как бы опасаясь, не отнимут ли у него полученное сокровище.
– Таежна душа, а ласку чует не хуже нас, – заметил Митяй.
Когда лодка остяка заскользила по воде, удаляясь от берега, Бастрыков сказал:
– Наша коммуна для них – защита от всех бед. И путь у них один – к нам.
14-12-2008
Лизина бабка замечательно готовила котлеты. Это все признавали.
Котлеты получались у нее сочные, пухлые, с поджаристой корочкой. Но когда Лиза их ела, старалась не вспоминать, как в глубокой эмалированной миске бабка руками разминала, перемешивала фарш, отлепляла от пальцев приставшие мясные катушки, и масло трещало на раскаленной сковородке, кухня наполнялась едким чадом, хотя бабка и открывала форточку.
Бабку Лиза называла бабусей, не помня, кто ее такому обращению обучил. Но точно, не она сама его придумала: ее вполне бы устроила просто бабушка, но досталась ей бабуся , что все же, вероятно, не было случайностью.
Имя-отчество бабуси произносилось трудно, и, привыкнув, что ее каждый раз переспрашивают, она, знакомясь с кем-то, кокетливо щурясь, роняла снисходительно: "Ах, не мучьтесь! Давайте так: Полина Александровна.
Ну уж, пожалуйста, запомните!" – с шутливой строгостью грозила пальцем.
Как в паспорте, Олимпиадой Аристарховной, бабусю называл, кажется, только отец Лизы. И тоже, надо думать, не случайно. Хотя внешне отношения у бабуси с зятем представлялись безупречными, они были друг другу абсолютно чужими, но у обоих хватало мужества скрывать взаимную неприязнь.
Ссорилась, ругалась бабуся взахлеб, до беспамятства, со своей единственной дочерью, мамой Лизы. И тут уже сложнее разобраться почему.
Жила бабуся от них отдельно, на Сретенке. Потом на Четвертой Мещанской. Потом на Мещанской, но уже в другом доме. Потом... Лизиной маме приходилось устраивать для нее то один, то другой обмен: бабуся с соседями не уживалась. А начиналось, как правило, с безмерной восторженной дружбы, влюбленности прямо-таки в соседку, скажем Клавдию Петровну, тоже вдовствующую, тоже пожилую, которая – так была мила! – что предложила передвинуть на кухне свой столик, чтобы столик бабуси ближе к окну уместился, и теперь они вечерами вместе пьют чай, по очереди сладости покупая.
Но, увы, восторгам дружбы наступал конец. Бабуся вскорости уже кляла коварство, теперь ненавистной, Клашки, специально подкручивавшей в плите газ, чтобы у бабуси суп выкипал, каша пригорала. Подобных надругательств нет больше сил выносить! Бабуся плакала. Мама молчала. Лиза, радуясь, что не осталась дома одна, глазела по сторонам.
Хотя бабуся и переезжала из дома в дом, обстановка в ее комнате не менялась. Те же вещи лепились друг к дружке, сохраняя прежнюю тесноту, духоту, создаваемую даже не запахами, а скорее окрасом предметов: буро-темными плотными шторами, тусклой люстрочкой в пыльных стекляшках, ковриком-гобеленом в травянисто-серых тонах, висящим над диваном с валиками.
В серванте у бабуси за рисунчатым морозным стеклом стояла посуда, разрозненная, собранная из остатков бывших сервизов: только две парные тарелки остались с букетиками изумительно ярких фиалок, и их бабуся выставляла для дочери с внучкой.
Всхлипывая, жалуясь на козни соседей, бабуся заплетала тощие Лизины косицы, вскакивала, выбегала в кухню за чайником, вываливала варенье из банки в вазочку, начинала очищать для Лизы апельсин, торопилась, суетилась – и тут Лизина мама удерживала ее за локоть. "Погоди. Посиди.
Давай поговорим серьезно. Мы ведь торопимся".
"Ах да..." Бабуся садилась, но глаза ее, небольшие, карие, беспокойно метались туда-сюда. "Но чаю вы выпьете? Можно же выпить чаю! Хорошо...– Затихла, смирилась. И вдруг, с отчаянием, громко, обрывая на полуфразе дочь: – Ну надо же, дура какая! Совсем забыла про торт!"
А они, Лиза и Лизина мама, уже в дверях стояли. Запахнув на груди цветастый халат, озираясь, будто отовсюду чуя опасность, бабуся вела их темным, длинным коридором к выходу. Ждала на пороге, пока они по широким плоским ступеням вниз спускались. Подъезды домов, в которых бабуся жила, всегда были гулкие, холодные, и всегда, вышагнув из них, хотелось вздохнуть глубоко, жадно, и улица радовала, и люди вокруг, машины, троллейбусы, трамваи.
Случались периоды, когда бабуся у них поселялась. Происходило это, если ситуации в доме складывались критические: не с кем малолетнюю Лизу оставлять, ремонт затеян, мама приболела, и прочее, прочее, во что ребенка вовсе не обязательно посвящать, а можно сообщить коротко: с тобой будет жить бабуся.
В твоей комнате. Рядом, на оттоманке. За полночь начнет лампу жечь, листая журнал, ворочаясь, вздыхая. Утром, гортанно смеясь, и щекоча тебя за пятки, неумело играя с тобой, изобретая неутомимо чем тебя побаловать, как оградить от родительских строгостей, что тоже – напрасный труд. Ведь родители вовсе не строги с тобой: им просто некогда.
Лизе и в голову не приходило искать какое-либо сходство между бабусей и своей мамой. Положения их настолько разнились, что не угадывалось ни внешнее, ни внутреннее родство. Во всяком случае, на взгляд Лизы. Тем более что появление бабуси каждый раз увязывалось с огорчающими обстоятельствами, разочарованиями, неудачами. Скажем, обещала мама Лизе пойти в театр, но в последний момент дело какое-то возникло, и отправлялась Лиза на представление с бабусей. Что, конечно, было совсем не то! В бабусе так явственно, так обидно недоставало маминого великолепия, уверенности, силы, что рядом с ней и Лиза менялась, чувствовала себя как бы обделенной.
Ни новые, тупомордые, лаковые, с тугой, трудной застежкой туфли не радовали, ни колючая газировка, ни пломбир в хрустко-пресном вафельном стаканчике всё блекло, затенялось томящим, стыдливым беспокойством: вдруг бабуся сделает что-нибудь не так, не то...
Да, доверия она не внушала. У нее метались глаза, и в руку Лизы она с такой силой вцеплялась, точно боялась потеряться. Долго у зеркала при гардеробе прихорашивалась, пудрилась, приглаживала прическу, что тоже неловко получалось как-то, даже унизительно.
Она волновалась. Откровенность ее волнений, возбужденной, лихорадочной веселости накладывала на Лизу непривычный груз ответственности.
Бабусю, возможно, следовало бы и защитить, и одернуть, и выговорить что-нибудь по-взрослому назидательное. Какой уж тут праздник! Вот она размазала свою помаду, и Лиза протянула ей платок, вот номерок потеряла, перепугалась, потом места после антракта перепутала и долго-долго извинялась. И вместе с тем, что было уж вовсе непереносимо, она ликовала, смеялась заливисто, то и дело спрашивала Лизу: нравится? правда, хорошо? по-моему, ну просто чудесно!
А сам ее облик... Высоченные каблуки, крашенные хной волосы, длинные позвякивающие сережки, да еще гортанный хохоток, взгляд, как она сама выражалась, "с искоркой" – все это несло на себе след упорной, упрямой, натужной борьбы. Она, бабуся, молодилась.
Лиза бывала свидетельницей ее усилий и надолго сохранила презрительное отвращение к ухищрениям женского кокетства, так называемым,заботам о своей внешности. Это были моменты, когда бабуся прочно умолкала.
Держа перед собой круглое зеркальце на длинной бронзовой ручке, с одной стороны с нормальным стеклом, с другой увеличительным, пинцетом выщипывала брови, а после, вытянув губы трубочкой, усики, заметного появления которых она боялась пуще всего. Процесс это был не только кропотливым, но и болезненным бабуся то и дело страдальчески морщилась,– а главное, в понимании Лизы, предельно скучным: временами ей даже казалось, что бабуся нарочно испытывает ее терпение, из вредности, чтобы, ну например, не идти им гулять.
Хотя и от прогулки с бабусей тоже немного радости получалось.
Она всего боялась: и машин, и дурного общества – то есть знакомств тепличной Лизы с дерзкими умными девчонками, и ветер ей мешал, потому что сорвать мог шляпку, и холод – тогда покраснел бы нос, а если жара – тогда надо пудриться часто, а в дождик – так лужи, лужи, можно туфли испортить.
Туфли бабуся берегла. Говорила, что обувь, походка самое важное в облике женщины. И что было в ее жизни событие, решающее, пожалуй,– тут вздох, прищур, игривая улыбка,– когда именно туфли положение спасли, и правильно оказалось, что она карточки продуктовые на них обменяла, поголодала, но зато... Платье, правда, было на ней бумазейное, сама шила.
Еще была история про сережки. Ее Лиза тоже выслушивала не раз. И с каждым разом все с меньшим вниманием, все явственней над бабусей подхихикивая, нащупывая как бы осторожно тот предел, где бабуся наконец очнется, вспомнит об утраченном авторитете, выкажет, пусть с запозданием, свою взрослую власть.
Но она медлила, а Лиза, наблюдала, распускалась. В пестром тряпичном мешочке у бабуси хранилась коса с петлей, дополнявшая бабусину прическу в дни особо торжественные. Злодейство – косу скрасть – Лизой еще не свершилось, но уже обдумывалось. И другие, как бы в шутку, пакости вызревали. Поцелуи бабусины мелкие, частые, ее нежно-нудные расспросы, ищущий, прилипчиво-заботливый взгляд никакого раскаяния не рождали. Сомнений не возникало, что она, бабуся, Лизу любила, а вот Лиза могла отвечать на ее чувство или не отвечать.
Иной раз, правда, бабусина любовь приходилась кстати.
К примеру, когда Лиза заболевала, жар будоражил, туманил мозг, малиново–красная, маслянисто–атласная занавеска колыхалась перед глазами, падала, залепляла рот, дышать не давала, и на хриплый, из бредовой пучины вопль бабуся подбегала к кровати. Так и осталось в памяти: болезнь, детство, склоненное бабусино лицо.
С мешочками набрякшими под глазами, полоской неровно растущих, крашенных хной волос, тряпичными вялыми щеками и взглядом птицы, испуганно-самоотверженным.
В какой момент Лиза догадалась, что бабуся ну не очень, что ли, умна? Да сразу, пожалуй. Когда бабуся ее к своей мягкой, обтянутой цветастым халатом груди притискивала, Лиза еле терпела, давила в себе протест. Ласки эти в ее глазах ничего не стоили – не то, что редкий, суховатый поцелуи мамы, не то, что ободряюще-шутливый взгляд отца. Бабуся даже, казалось, не была допущена в клан взрослых, не считалась там ровней: она так же рано, как Лиза, ложилась спать, в обществе гостей чувствовала себя поначалу стеснительно, а после излишне поддавалась возбуждению. Да и в домашней обстановке слово ее не только никогда не являлось решающим, но даже когда она собиралась о чем-то рассказать, мама Лизы настораживалась, взгляд ее отвердевал, и Лизе мгновенно это передавалась. Она чувствовала: маме стыдно, и маму жалко, из-за бабуси мама мучается.
Особенно в присутствии отца Лизы. Он вроде бы глупости своей тещи не замечал, но иной раз, за обедом, поднимал глаза от тарелки и добро-добро, терпеливо-терпеливо на маму взглядывал. Мама вспыхивала.
Им не надо было вслух ничего говорить, и Лиза тоже их понимала. Не понимала только бабуся. Увлеченно несла свой вздор. Пока сама себя вдруг не одергивала: "Ой, компот пора разливать! Тебе, Лиза, в большую чашку?"
На кухне, в домашних хлопотах она как бы за всё брала реванш. Паря, жаря, кастрюлями гремя, как-то сразу серьезнела, и важность, солидность в ней появлялись, да и очки, которые она лишь во время готовки надевала, ей даже шли, но она сама очков стеснялась, прятала их.
Как и вставную, розовую, похожую на морскую раковину челюсть, ночами плавающую в стакане с водой, которую Лиза изучала, пока бабуся не отгоняла ее: "Ну, вот еще, поди отсюда... нечего..."
Лиза жалела маму. Представлялось ужасным, как мама в своем детстве могла существовать, живя с такой легкомысленной, такой невзрослой бабусей! Наверно, маме, бедной, все приходилось решать самой, не ожидая, не рассчитывая на бабусину помощь. Чем, когда, кому бабуся была бы в состоянии помочь? Со всеми ссорясь, на всех обижаясь, сердясь, плача... И вдруг обрушивая шквал любви, теперь на Лизу, а прежде, верно, на маму, и следовало этот шквал переносить, пережидать.
"Родная моя, деточка",– бабуся, громко сморкаясь, рыдала, возвратившись к Лизе в детскую после какого-то разговора с Лизиной мамой. Лиза цепенела, пока бабуся притискивала ее к себе. Такое проявление любви ничуть не радовало. Тут буря только что отгремела, но от чего страсти разверзлись, нисколько не хотелось вызнавать. Кроме того, двойственное, противоречивое ощущение давило: бабуся вынуждала к сочувствию, а сочувствовать не получалось, не хотелось.
Сочувствие – все, целиком – принадлежало маме. Скрытному, тайному ее страданию. Ее усмешке, горестной и гордой. Шепоту ее, стыдливым, отчаянным вскрикам: помолчи, мама! тише, прошу тебя...
Лизина мама, ясное дело, отца Лизы остерегалась. Отец вроде бы не принимал участия ни в чем, но когда мама, что-то ему втолковывая, спрашивала: "Ты согласен?" – он скороговоркой, рассеянно ронял: "Конечно. Ведь она твоя мать".
Как прорези к свету, к празднику часы эти в сознании остались. Ворвавшись, тугой, наотмашь бьющий ветер свободы поначалу ослеплял, оглушал. Дурацкая улыбка губы невольно разлепляла, и пульс учащался, прыгал, трусливо, по-заячьи, дергался: опасность – риск, опасность – риск.
А в опьянении, в вихре, поверх всего всплывали шалые бабусины глаза, примятая ее прическа, хохоток гортанный. Да, господи, ничего особенного! Они просто по Москве-реке на пароходике катались, в неподходящую погоду, в неподходящее время, в неподходящем окружении. Бабуся с дядей лысоватым познакомилась и уверяла, что Лиза её самая-самая младшая дочь.
А в тот раз они в кино прорвались на фильм "детям до шестнадцати". Арабский, кажется, надрывный, жгучий. С волнением Лиза вживалась в его сюжет, отмахиваясь от бабуси, пытающейся прикрыть ей ладонью глаза в сценах, по бабусиному мнению, предосудительных. Разумеется, сцены эти с полной яркостью в сознании запечатлелись. Как, впрочем, и оловянный взгляд билетёрши, когда ей сунули рубль. Как и заискивающие бабусины интонации уже при выходе из кинотеатра: "Но ты, конечно, не скажешь маме?"
В другой раз бабуся пенсию свою мотала . То, вдовье, к чему Лизина мама ежемесячную еще сумму приплюсовывала. Лиза, не вдаваясь, знала: бабуся ждет, и мама приносит, или присылает. Бабуся же всё равно еле сводит концы, потому что такой у нее нрав, такие замашки.
Какие именно Лиза слабо представляла, пока не отправилась однажды с бабусей по магазинам почти на целый день. Ничего увлекательного, веселого Лиза тут для себя не открыла. Бабуся в очередной раз разочаровала: она толкалась у прилавков, расспрашивала, разглядывала, сомневалась, решалась и в результате приобрела прозрачные капроновые серо-голубые перчатки с рюшем, флакон терпких сладких духов, моток блестящей тесьмы и под конец внезапно сказала: "А что, если мы тебе клипсы купим?" Лиза оторопела: "Мне?!" Ей было шесть лет, и в голове уже вроде бы прочно сложились правила поведения воспитанной, разумной девочки. "Мне-е?!" "Тебе. Ты хочешь?" – "Да-а!"
Как все оказалось зыбко. Исчезли представления о приличиях, запретах, предостережениях, и строгий, пристальный мамин взгляд забыт.
Латунные прищепки больно сдавливали мочки, но Лиза помнила сверкание синих искристых камней – цена три рубля – и царский жест, с которым бабуся подарок ей свой вручила. Ужас от свершения непотребного, и восторг, и удаль. Но когда они подошли к родительскому дому, бабуся вдруг сказала: "снимай".
Лиза остолбенела. "Ну ты же не собираешься,– бабуся улыбнулась, так в клипсах и разгуливать. Повеселились мы с тобой – и хватит".
Освобожденные мочки ушей все еще ныли, бабуся клипсы в кошелек убрала: "Ко мне когда придешь, тогда и наденешь. И – ни слова маме. Зачем неприятности на себя навлекать, ты согласна?"
В суть разногласий между бабусей и мамой Лиза еще не умела вникать, но то, что отношения их постоянно взрывы сопровождают, давно стало ясно. Как это и случается у взрослых, то мама, то бабуся время от времени по недогляду кидали фразы-камушки, и Лиза их собирала, копила.
Как-то мама, не выдержав, прокричала: "А за что мне тебя благодарить? Родила? Ну спасибо. А еще? Напомни, скажи – ну скажи!
В пояс буду кланяться".
Лиза пятилась к двери, но успевала еще на лету поймать.
Бабусино: "... последнее отдавала. Крохи, что наскребала. И ты брала".
Дверь захлопывалась. Но дуновение чужого, чуждого лицо оцарапывало. Скорченные чьи-то тени метались, махали руками-крыльями.
Бабуся первая решилась дать кое-какие разъяснения Лизе.
На свой, разумеется, лад, хотя и силясь быть объективной, в минувшем, давнем черпая хмель, как бы с надеждой, что настоящее, сегодняшнее может вдруг обернуться иначе, пока она поведет свой подробный рассказ.
Красота, любовь, судьба, удача – вот из каких блоков повествование бабусино строилось. Только на этом концентрировалось ее внимание, остальное покрывала тьма.
Красота, ухоженная, телесная, женская, все в себе содержала.
Все события, характеры, как планеты, вращались вокруг красоты. Красота и любовь – больше ничто не имело ценности. Женщины должны были быть красивыми иначе, зачем жить?
Бабуся жила. В первую мировую, в гражданскую, в голод, в эвакуацию, но личная ее линия сохранялась одна: женщиной, женщиной всегда оставаться, хоть полумертвой, но в сережках, в чулках, пусть под рейтузами, тонких, с кружавчиками на белье.
Быть может, односложность задачи и оградила ее от многого.
Уберегла от жестких, сухих морщин. От этого и от того , когда редело ее поколение, а вот она выжила, сумев даже и не поумнеть.
После всех болей, потерь, осталась привычка ложиться спать в папильотках, а проснувшись, сразу в зеркало глядеть настороженным, ищущим взглядом: а не появились ли вдруг эти портящие, порочащие её усики?
Был у бабуси муж, которого она рано потеряла и о котором вспоминала вскользь. По ее словам, главным достоинством покойного являлось любящее сердце, а также способность – буквально из ничего!–создать домашний уют. Впрочем, способность такая в годы бабусиного супружества – то есть в двадцатые, скорые, бурные – подразумевала еще и другие свойства: хваткость, гибкость, настойчивость, иначе не удалось бы, надо думать, бабусиному мужу свить гнездо, пусть не на многих, но все же жилых квадратных метрах.
Да к тому же в центре Москвы. Для приезжего, провинциала, это был рывок, победа.
В особнячке, где они поселились, прежде нумера помещались. Бабусин муж затеял ремонт, чтобы дух порочный изгнать из их семейной обители, и собственноручно – о чем бабуся с восторгом отзывалась фанерную перегородку соорудил, так что вместо одной у них получилось две комнатки.
И рукодельный был, и смекалистый. Недаром пошёл по снабженческой линии. Взгляд же его миндалевидных, с поволокой глаз на ломкой коричневатой фотографии казался томным, кротким, но твердо вычерчен рисунок рта, лоб высокий, в залысинах, а голова яйцевидной формы.
Он умер от сердечного удара. Удивительно – бабуся все еще будто недоумевала – он не жаловался никогда ни на что.
И жених у бабуси был. Его фотографий не сохранилось.
В семнадцать лет, в шестнадцатом году, когда на фронт бабуся жениха своего провожала, она не о фотографиях думала, а чтобы скорей он вернулся, чтобы к нему прижаться, чтобы он ее обнял.
Он погиб. Бабуся имени его никогда не называла, говорила: мой суженый, мой любимый. Говорила: он был такой умный, а выбрал такую дуру, как я.
И улыбалась. Сквозь привычные уже, не тяжкие слезы. Жених, не ставший мужем и даже имя утративший,– может, ему как раз назначалось душу в смуглую девочку вдохнуть? Ту, что на фронт его провожала и хотела дождаться, хотела любить, взрослеть, страдать, стариться. Но он не вернулся.
Душа девочкина отлетела вместе с ним. Остались копна курчавившихся волос, взгляд "с искоркой" и странная мучительная неудовлетворенность.
Близкая и к смеху, и к слезам. Бабуся нередко сквозь слезы хохотала. Сама не зная будто, куда её поведет. Ожидая точно ветерка.
И ее несло частенько.
И конечно же не безродной бабуся явилась на свет. Родители у нее были, дом, сестры. В Белоруссии, на самой границе с Польшей. Что–то там потом случилось – погибли все.
Осталась у бабуси только дочь, мама Лизы.
– Я ей платье пошила, голубое, с оборками, свадебное, бабуся еще и еще раз вспоминала,– так ей шло! Отец твой,– объясняла Лизе, в военном был, а она – ну как фея. Волосы распущены, личико нежное, тоненькая шейка. Я, конечно, всплакнула. "Берегите ее",– твоему отцу говорю.
А она, дочка моя, как изогнется, зашипит как: "Перестань. Надоело.
Сил нету".
Тут бабуся рыдала безудержно. А Лиза представляла выражение маминого лица, с гордой усмешкой, румянцем, гнев выдававшим, с тайным страданием в светлых прозрачных глазах. Отец держался, конечно, как ни в чем не бывало.
Бабуся хотела с молодыми поселиться, но мама Лизы отрезала: "Нет. Ни за что. Не будет у меня свар, склок, не будет салфеточек вязаных, ковриков, тарелочек с амурчиками на стенах. Мне нужен простор, свет, чистота. Я, мама, устала..."
Что еще было высказано тогда? Что накопилось, пока мать и дочь вдвоем существовали в комнатках с фанерной перегородкой? Может быть, с той поры у Лизиной мамы и осталась морщинка между бровей, своей суровостью, пасмурностью противоречащая ее нежному облику? Тогда же вошло в привычку брезгливо вздергивать верхнюю губу? Кто знает... Но наверняка повадки, вкусы Лизиной мамы вырабатывались в противоположность бабусиным.
И мамин характер обнаруживался как бабусин контраст.
Бабуся болтала, мама молчала- бабуся плакала, мама крепилась- бабуся исцеловывала внучку, мама сухими губами касалась дочкиного лба.
Лиза маму обожала, над бабусей вполне открыто подсмеивалась. А в сердце что-то щемило.
У них была дружная, крепкая семья, просторный дом, светлые стены, светлый, серебристый мамин смех, чуть, правда, временами колкий, колющий Она вела семейный корабль, а папа, как кочегар, трудился, потому и редко появлялся на палубе, где гуляли, дышали дети. Лиза и ее младший брат.
И время наступило светлое, здоровое, как казалось. Умирать стали от болезней, а не от пуль. Несчастьям, бедам случающимся находились понятные объяснения. Люди переезжали в новые дома, в моду вошла функциональная, как считалось, мебель, оказавшаяся, к сожалению, непрочной, но об этом узнали потом.
Родителям Лизы по душе пришелся новый стиль, отвергающий без сожалений старье, безделки, шкатулки с пряным, шелковым, выстеганным квадратами нутром, где кто-то когда-то хранил зачем-то чьи-то письма и прочую, прочую ерунду, от которой лишь пыль собиралась. Окна– настежь, комнаты надо проветривать, избавляться от лишних вещей. И эмоций.
Веселым, размашистым жестом сбрасывали с подоконников цветы в горшках, всякие там герани, фикусы, освобождали книжные полки от разных ненужностей, устарелых брошюрок, растрепанных сборников заумных стихов, разрозненных томов из собраний с "ятями". Снимали со стен пейзажи, где тянулись, длились как бы на одной печальной низкой ноте поля, леса, даль, ширь – снимали, заворачивали в газету, несли в комиссионки: одно время затор там образовался из этюдов Серова, Левитана, Коровина...
Бронзовые, в подвесках, люстры заменялись пластиковыми абажурами, в чём сказывалась и варварская дикость, и варварское же простодушие, а также потребность, человеческая, понятная, в переменах, в закреплении их. Так спешат при первом снеге надеть валенки, при первом дуновении весны скинуть шубы, так дети стремятся поскорее стать взрослыми, так люди всегда мечтают, жаждут новую, праведную, благоразумную жизнь начать. С понедельника, после отпуска, с чистой страницы.
Самым ругательным словом в устах Лизиной мамы было "мещанство".
Мещанством она считала не только плюшевые коврики, не только фарфоровых китайчат с подергивающейся головой, не только альбомные собрания семейных фотографий, не только портьеры с кистями на дверях, но и чрезмерность в выражении чувств, вскрики, вздохи, взгляды увлажненные.
Сама она, когда ликовала и когда ей больно делали, только еще сильнее распрямлялась и подбородок гордо вскидывала. Её слово, интонация, жест для близких много значили. Много вмещалось и в молчание. Вообще в семье Лизы умели молчать.
В семье, безусловно, благополучной, и непонятно почему вдруг, когда Лизе, исполнилось четырнадцать лет, она однажды выбежала из дома в пальто нараспашку, в состоянии исступленности, с намерением твердым, безумным – не возвращаться под родительский кров никогда.
Стояла осень. Туман щекотал лицо, она мчалась из переулка в переулок и, наконец, завидев сквер, на скамейку плюхнулась. Сквер был как остров, со своими сырыми, кисловатыми запахами, тишиной, темнотой, неспешностью, от которой, как от твердыни, отлетали бурливые волны города, его отголоски.
Сквер окутал, одурманил, почти усыпил, но ненадолго.
Дух осени, проникновенный, грустно-внимательный, умиротворяюще-скорбный, еще сильнее душу разбередил, обострил обиду, чувство одиночества. В домах теплели, желтели окна, и там, казалось, все любили друг друга, все были счастливы, дружны. Лиза всхлипнула и встала со скамейки. Троллейбусная остановка находилась недалеко: в карманах пусто, но она решилась: пусть, подумала, хоть в милицию заберут.
Троллейбус шел через мост, огибая Красную площадь, выше, дальше. Лишь в родном городе можно так чутко ощущать каждый спад, подъем, изгибы рельефа, течение струящихся то вниз, то вверх улиц, заводи площадей и вот плывешь, дышишь им, своим городом, шепчешь: моя Москва.
Троллейбус ехал, тормозил толчками, кое-где прискакивал, а Лиза – плыла. Плыла на Мещанскую улицу, в коммуналку, к бабусе. К коврику с оленями над диваном, выводку китайчат с кивающими головами, портьерам с кистями, обрамляющими дверь, – туда, где ее, Лизу, ожидали те самые вздохи, вскрики, увлажненный взгляд.
Она поднялась на второй этаж. Дверь – как аккордеон, столько кнопок-звонков, белых, черных, узкие таблички с фамилиями. К бабусе четыре раза нажимать.
Первое, что навстречу из растворенной двери ринулось, запахи. Лиза подобралась, приказала себе быть стойкой. Переступила порог.
"Ты?" – бабуся вскрикнула. Обрадовалась, испугалась? Взгляд её метнулся, затрепетал и вбок соскользнул. За прошедшие годы многое изменилось в их с Лизой отношениях, все больше обеих в разные стороны относило, бабуся вроде уже не пыталась дозваться внучки, а может, голос сорвала.
Во всяком случае, первый момент был неловким. Лиза, пока ехала, и не вспоминала, когда видела бабусю в последний раз, и что в тот последний раз происходило. Да разве важно? Она ведь пришла.
Как всегда, долгим темным коридором бабуся повела ее за собой в свою комнату. Как всегда, во всех известных Лизе коммуналках, тут, в коридоре, висело на вбитом в стенку гвозде цинковое корыто, в прыжке, замер, распластавшись, велосипед. Бабусина комната, портьера с кистями – а на что Лиза надеялась, с чем ехала сюда?
Бабуся захлопотала, скатеркой стол накрыла, расставила чашки. Ей тоже надо было сориентироваться, собраться с мыслями. Но растерянность, как и все в ней чувства, настолько зримо проступала, что Лиза уже пожалела: какая глупость, как могла она явиться сюда?
В расчете на что? На ободрение, поддержку? От бабуси?
Кого, когда бабуся умела поддержать? Если плакали при ней, она тоже заливалась слезами, веселилась – с готовностью веселье подхватывала. Только в этом заключалось её участие. Флюгер, бабочка, легкомысленное существо.
Правда, на сей раз, бабуся держалась серьезно. Взглядывала на Лизу, и опять куда-то вбок соскальзывал ее взгляд. Вопрос у нее явно на языке вертелся: что случилось? Но она себя обуздывала, выдержку, значит, хотела показать.
А Лиза совсем за другим к ней примчалась. Впервые, кажется, проснулось в ней желание рыдать в объятиях бабуси, в один с ней голос, ныть, жаловаться – на маму, на отца, на дом родительский, просторный, светлый, где всё у всех слишком на виду и все подсмеиваются друг над другом или друг друга будто не замечают, а за утешениями не к кому прийти, потому что искать утешений не принято и не обучены – утешать.
Да, собственно, от чего? Ты, матушка, жизни еще не хлебала, не получала затрещин, лиха не нюхала, вот и расквасилась, разнюнилась из-за ерунды. Па-а-думаешь, что тебе такого-то сказали, а ты уж и взвилась, к вешалке бросилась, к лестнице, дробя ступени – на улицу, в осень, а дальше что?
Бабуся на стол накрывала. Лиза, сидя спиной к коврику-гобелену, глядела, ждала. Смутное чувство в ней нагнеталось, и было предшественником того, что где-то уже близко брезжила догадка. Ну типа того, что нет и не должно быть между людьми простых отношений, нет и не должно быть только умных и только глупых, нет и не должно быть таких дурочек, дурачков, которые не заметят, что их обидели, нет и не должно быть таких умников, умниц, которым все всегда всё простят. И короче: ты, Лиза, примчалась за утешениями к бабусе, а забыла, когда видела ее в последний раз.
– ... ты что? Ты слышишь?– бабуся ее звала.– Спрашиваю, чаи с лимоном будешь пить или со сливками?
– С лимоном,– Лиза буркнула. Облизнула губы, рот у нее пересох.
– Садись.
Тон бабусин показался непривычно строгим, непривычно было и выражение ее лица, взгляд высматривающий, пристальный, но все равно пугливый по-птичьи.
– Я хочу пожить у тебя,– Лиза выдавила и с сомнением, сама не веря, обвела глазами тесную бабусину комнатку.
– Хорошо, конечно,– бабуся заторопилась, испугавшись, верно, возможной паузы. Как она ни крепилась, но не могла не дрогнуть при виде бледности, нахохленности, жалкости обычно дерзкой внучки.– Не волнуйся,– еще больше она заспешила,– все уладится, вот увидишь. А пока я очень даже рада, что ты побудешь у меня. Придется в школу подальше ездить, на зато тут рядом каток. Кондитерская, кулинария...
Речь ее превратилась в скороговорку, она старалась успеть всё сказать, по пауза все равно повисла. Лиза мрачно уставилась на громоздкий, явно великоватый для такой комнаты, с морозными стеклами сервант. Ей было стыдно. Она понимала, что тут ее давит, во что упирается ее взгляд, какие мелочи в плену ее держат, и как она слаба, как ничтожна, если не может пересилить себя.
Но, боже мой, ведь как представишь... Проснуться на этом диванчике, в тесноте, духоте, плестись по долгому коридору в ванную, которая вдруг занята? И холодно там, голо, колонку надо зажигать, спички ломаются, и как вдруг полыхнет, сине, страшно, и сама ванна на чугунных корявых ногах, от пола дует, стены склизкие, крашенные коричнево-бурой краской, нет, не могу! Да, такое ничтожество. А главное, мама, папа – разве они заслужили? Ненужное мучение, ненужная жестокость – вообще все это ненужно было, нелепо всё.
Лиза отхлебнула из блюдца чай. Песочное пирожное лежало на тарелке с изумительно яркими сочными фиалками. Тонкого, голубоватого фарфора. Из прошлой жизни, бабусиной, далекой, непонятной. Ком в горле стоял, и не удавалось его проглотить. И как посмотреть ей, бабусе, в лицо?
– Бабуся,– Лиза двинула онемелыми губами,– я поеду. Поздно уже. Мама, наверно, волнуется.
– Да? Конечно! Может, тебя проводить? Обязательно. Хотя бы до остановки. А как приедешь, сразу мне позвони. Обещаешь, сразу же!
Сколько с того вечера прошло? Лиза не подсчитывать, месяцы, недели? Забыла. Всё забыла. И вот мамин день рождения настал.
Как всегда, с утра начались хлопоты. Мама, совсем непраздничная, озабоченная, с семи утра стояла уже у плиты на кухне. Что можно было папе поручить? Ну, разве что стол раздвинуть. Как и прежде, он явится наверняка за полчаса до прихода гостей, сбросит пиджак, кинет портфель и радостно сообщит, что ужасно проголодался. Мама скажет: "Ничего, подождешь.
Отстань! Ну что ты, Павел, как маленький. Не смей хватать огурцы, они для салата. Павел... Я же в креме, ты рубашку испачкаешь. И кстати, иди сейчас же галстук перемени. Вообще все отсюда – брысь! Вот, ты так себя ведешь, что и дети сразу распускаются".
От детей тоже мало оказывалось проку. Если Лизе велели ветчину, скажем, нарезать и на блюде разложить, она в процессе половину съедала. При гостях ведь неинтересно, соблюдая приличия есть, кусочничать куда веселее.
Младший брат, второклассник, путаясь, начиная сначала, приборы считал, тарелки. Вбегал к маме: "Я забыл, сколько их?" Мама снова загибала пальцы: "Ивановы, Петровы, Сидоровы... Ох, восемнадцать человек! Табуретки тащите с балкона, и протрите хорошенько влажной тряпкой."
Приглашенные подразделялись на милых и дорогих. Папа так и обращался к ним в тостах: дорогие гости, милые друзья. Сам он, возможно, и не придавал значения подобным различиям, но Лиза их ловила. Скажем, Петровы совершенно точно должны были явиться. Мама позвонила Зое Петровой, попросила: пожалуйста, захвати майонез. А вот некто Иванов мог приехать, а мог и не приехать. Мама спрашивала папу: он ответил определенно? Адрес ты ему толково объяснил? И тон мамы делался раздраженным, точно Иванову этому она ни в чем не доверяла, но очень хотела, чтобы он пришел, и недовольна им была, что вот из-за него столько волнений, но в случае чего папа будет виноват, хотя лишь папа и сможет маму утешить: да не растраивайся, скажет, черт с ним, с надутым индюком.
Хотя обычно, некто Иванов все же прибывал, пусть и с запозданием. Лиза отмечала мамин облегченный вздох. От других гостей мама, разумеется, ожидание свое скрывала и виду не желала показать, но когда некто Иванов входил, шептала Лизе: "Можешь кулебяку нести. Рядом с заливным, под полотенцем".
Самая колготня возникала за полчаса до сбора гостей.
Мама кричала из душа: обувь приберите под вешалкой! форточку на кухне откройте! надо уменьшить огонь в духовке, а то баранина подгорит!
К тому моменту в доме уже появлялась бабуся. Привозила с собой холодец, что, после котлет, тоже считалось ее коронным блюдом: ни у кого, все признавали, так прозрачно не застывало желе, не хрустели так сладко хрящики.
Бабуся на маминых днях рождения как гостья держалась.
По крайней мере, при гостях. Мыть посуду предстояло назавтра, уже в будни.
Но пока кружавчики на манжетах и у ворота бабусино платье украшали, пудра от избытка сыпалась, перламутровый лак на ногтях сиял, а руки лежали на коленях в непривычной, с трудом переносимой праздности.
Если бы дать рукам занятие – любое,– в голове бы, наверно, не гудело, обрывки мыслей не мелькали бы – аж до дурноты – и молчание зятя, его взгляд, невидящий, равнодушный, перестали бы, верно, как обида восприниматься. Всё бы улеглось, утишилось, если бы она, бабуся, дело какое-то себе нашла.
Выручали гости. Бабуся их встречала, с кем-то ее знакомили, кому-то сама представлялась, и в тот момент, когда ей, улыбаясь, жали руку, она, хоть краешком, ухватывала Другую Судьбу, почти реальную, почти осуществимую, где и не подразумевалось особых каких-то перемен, но может быть её бы уважали? Бабуся вспыхивала, румянец проступал сквозь слой пудры: "Не мучайтесь,– выговаривала счастливо, давайте так: Полина Александровна.
Но уж, пожалуйста, запомните!" – с шутливой строгостью грозила пальцем.
Усаживалась бабуся по левую от мамы руку, ближе к двери: и достойно, и на подхвате, если понадобится. Вино отпивала мелкими глоточками, и при ее гортанном смехе Лизина мама подбиралась, предостерегающе поглядывала, но бабуся, увлеченная беседой с соседом справа, никак на эти сигналы не реагировала. "Лиза,– мама шептала,– позови бабусю на секунду. Пусть проверит: пирог остыл?"
Бабуся в чуждые для себя роли легко входила, с явным удовольствием. Сосед справа чем-то серьезным делился с ней, и она гасила свой взгляд "с искоркой", понимающе кивала, втайне ликуя, что человек этот новый, о ней ничего не знает, а она уж ничем никак не выдаст себя.
И все же ее прорывало. "Сорок пять, говорите? Да дочери моей... сколько – не скажу". Лизина мама при озорных таких возгласах каменела, зато бабусин сосед справа от каких-либо подозрений оказывался далёк: улыбчивая, смешливая, очень живая женщина с ним рядом сидела, в годах, конечно, но держалась молодцом.
"Мама, ты не устала?" – Лизина мама к бабусе наклонялась. Чай выпили, пирог съели, некоторые из гостей уже и отбыли.
Но бабуся с такой жадностью, так увлеченно следила за танцующими под радиолу, что кто-то просто-таки обязан был её пригласить.
Нет, нисколько она не уставала. Скорее Лизиной маме веселость гостей начинала надоедать, и Лизу с братом в сон клонило, и папа Лизин поскучнел, зевнул откровенно, нелюбезно, мама грозно нахмурилась, он виновато ей улыбнулся:
Бабуся ночевать у них оставалась. Либо в большой комнате, на диване, но накурено, и она предпочитала на раскладном кресле в детской.
Долго ворочалась, что-то шептала, а как-то стала напевать: сердце, ах, се-ердце-е мое!
Но в тот раз, в тот день рождения бабуся с самого начала была какая-то притихшая. Собрались Петровы, Сидоровы, Иванов – другой некто... И та же кулебяка на столе красовалась, и тот же холодец, но не очень почему-то казалось весело, а может быть, просто Лиза взрослела.
Они с братом расставляла посуду, брат оставался добродушным, Лиза же сделалась колючая, мрачная. Мама теперь не только за бабусино поведение опасалась, но и за Лизино.
Но отчего вдруг бабуся сникла? Быстрым, жестким взглядом Лиза усекла: хна не всюду одинаково седину прокрасила, некоторые пряди розоватым оттенком выделялись, и пучок на затылке будто усох, и что-то иное в бабусе проступило, старушечье.
То есть она всегда представлялась Лизе старой, но тут как бы еще грань была перейдена, еще одна сделана уступка, верно, и небольшая, по сразу изменилась осанка, опали, сузились плечи, глаза поблекли, дальше вглубь ушли.
Лизина мама бережно рядом с собой бабусю усадила: почувствовала, верно, сердцем толчок. Но как хозяйке ей следовало гостями заниматься: бабуся осталась без присмотра. Справа от нее оказалась Зоя Петрова, давняя мамина подруга, и бабуся, видно, совсем потеряла голову, если именно Зое решила душу изливать.
Поначалу осторожно, по сторонам оглядываясь, но все более увлекаясь, возвышая тон, не замечая, что Зоя Петрова е ей не отвечает, смотрит растерянно,– и наконец: "Извините, Полина Александровна, но вы зря это говорите. О своей дочери. Совершенно зря".
Лизина мама услышала. Улыбка, вспорхнув, на губах ее засохла.
– Машенька,– всхлипнув, бабуся позвала.– Прости меня, прости старую дуру. Но Зоя не так поняла. Я ведь тебя люблю, поэтому мне и обидно.
– Да... конечно... да... хорошо,– Лизина мама отозвалась автоматически.– Кому с гарниром, кому без?– она привстала.– Алексей Дмитриевич, вам поджаристей кусочек?– С другого конца стола на нее глядел Лизин отец, и она, поймав его взгляд, быстро обернулась, проговорила еле слышно, одними губами:– Мама, прошу. В день моего рождения. Не порть, не мучь. Не надо, умоляю.
Лизина мама не плакала. Плакала бабуся, в детской, на раскладном кресле, ночью. Брат уже спал. Лиза тоже хотела притвориться спящей, но пришлось встать, присесть сбоку, слышать, слушать, поглаживая старенький, в черно-белую клетку плед, которым бабуся укрылась с головой.
– Ведь знаю, знаю,– доносилось до Лизы из-под пледа, знаю, что Маша ко мне добра. Столько у нее дел, хлопот, а она и обо мне заботится. Подарки шлет, гостинцы. Я понимаю... Не то чтобы я неблагодарная.
Но только,– бабуся край пледа с лица отбросила,– ты, Лиза, не представляешь, какие матери бывают, прямо разбойницы. А их любят, уважают. Так за что же меня, почему? Необразованная я, глупая, но ведь старалась, как могла, воспитывала Машу. У нее характер совсем другой и взгляды, значит... Она говорит: "А что мне твои бантики? Родители детей учить должны, а ты порхала". Так ведь нет! За мной Михаил Борисыч ухаживал, очень даже серьезно, но Маше он не понравился, и вот я осталась одна. Были и другие варианты... Да ведь я не о том! Невозможно так жить! У меня очень развито родственное чувство, мне кого-то обязательно надо любить, Лиза, ты же меня знаешь... Я хочу кое-что рассказать из твоего детства, я все помню! Я гуляла с тобой, встречала тебя – и все прошло... Ты слышишь?
Глаза слипались. Лиза поглаживала машинально в черно-белую клетку плед, слушая и не слыша, воспринимая больше обрывки:
– Но чтобы она сказала: едемте к бабусе? А? Ну почему?..
Слушай, откуда у меня еще слезы берутся?.. Я для всех чужая. Я во всем себе отказывала... У меня хватило бы любви на всех вас. Лиза, ты понимаешь?
Лиза кивала и завидовала брату, который спал.
…Они поехали на рынок. В субботу, с утра. Сентябрьская солнечная дымка высветлила город. В решетчатых загонах лежали навалом арбузы. В резиновых сапогах по сухому шлепали с корзинами грибники. Золотая листва еще на деревьях держалась, шуршала при ветре. Лето кончилось, как всегда, неожиданно быстро. Но казалось, что новые радости принесёт зима.
Лизина мама шла по рядам, где приезжие с юга торговали персиками, гранатами, виноградом. Смуглые усачи, глядя на нее, причмокивая, вращая глазами, произносили игриво: да задаром отдам! Лизина мама улыбалась, вздергивая верхнюю губу, но светлые ее глаза оставались строгими, внимательными.
За ней плелись Лиза и младший брат. Густо пахло медовыми сладкими ароматами, жужжали пчелы, по одну сторону прилавков сновали озабоченные покупатели, с другой стороны на них взирали гордые продавцы.
Лизе больше нравились те ряды, где продавалась зелень, морковь, репа. Цены там были куда скромней, и предлагали свой товар, как правило, старички, старушки, похожие друг на друга сходством одной породы, корневой, исконной, российской, сходством прожитых лет, сходством груза, что лёг на их плечи, если и не притиснув к земле, то сильно придавив.
Но как разнятся в лесу старые деревья, так, при общности, лица эти отличались штучной выразительностью, в исплаканных глазах вспыхивали веселые огонечки, морщинистые, запавшие губы улыбались лукаво. Торговаться до одури они не умели и не хотели. Если покупатель какой-нибудь оказывался уж очень приставучим, махали рукой – да ладно, бери. Может быть, то, что рождала земля, для них все еще представлялось благодатным даром, и забывался собственный тяжкий труд: лишь бы и в будущем ожидался урожай, -а сегодня можно, казалось, уступить цену.
Лизина мама передала детям по авоське, сама тяжелую сумку несла. Уже при выходе у ворот они цветы купили, а брат выпросил себе деревянную копилку-кубышку, крашеную, липнувшую к пальцам. Там же и мочалки, и веники продавались, похожие по форме на балалайки, с распущенной пшеничной бородой.
Сели в такси, ехать далеко предстояло. Мама за целое утро ни словом лишним не обмолвилась: думала о чем-то своем. А Лиза не думала. Глядела по сторонам, где мчала их машина, и острая жажда жить трепетала в ней, а вместе с тем грусть, жалость ко всем и к себе самой тоже, и полнота такая чувств уже не укладывалась в разумение. Лиза боялась поглубже вздохнуть, чтобы слезы не пролились. Но всё, что мелькало перед ней тогда, глубоко, крепко западало.
С шоссе съехали на боковую дорогу. Золотым пожаром парк горел. Водитель притормозил, они выгрузили свои сумки. Мама здесь хорошо уже ориентировалась, и они сразу направились к корпусу "б".
Лиза шла следом, будто во сне. Защитный рефлекс, верно, сработал. Эти долгие коридоры, линолеум тусклый, скользкий, ряды дверей, размытые лица хотелось вычеркнуть раз и навсегда. Это не следовало беречь, хранить. Это пугало.
Но мама всё видела, всё понимала, и она их вела. Стук ее каблуков разносился по коридору. Мама знала, что не смеет паниковать: за дверью в палате лежала бабуся.
Они вошли гуськом. Окна без занавесей, и свет их ослепил, ослепила белизна, больничная одинаковость. Под одеялами закопошились.
"Маша!" – бабуся вскрикнула, и Лизина мама, точно ее толкнули, шагнула туда.
Маша, Маша... Ни на Лизу, ни на ее младшего брата бабуся не обратила внимания, вроде и не заметив их присутствия. Лизина мама сидела на краю постели, а Лиза с братом у спинки кровати стояли, металлической, крашенной белой краской. Лиза глядела и не узнавала: вдруг поняла, что прежде ни разу не видела бабусиной седины, не видела ее непричесанной от разлохмаченных волос лицо бабуси сделалось меньше, сморщеннее, как у киснувшего младенца.
Мама стала доставать из сумок персики, яблоки, сливы.
Бабуся лежала безучастно, зато другие больные в палате с откровенным любопытством ловили каждый мамин жест. Соседка бабусина, видимо, армянка, приподнявшись, на локоть для удобства оперлась. Подстриженная под мальчика, с горбатым носом, глазами, полуприкрытыми выпуклыми коричневатыми веками, похожая на скульптурный портрет какого-то римлянина, она бормотала: "Это очень важно – уход, очень важно – внимание". Лизина мама протянула ей в бумажной салфетке виноградную кисть. Старуха улыбнулась, сверкнув противоестественной белизной искусственных зубов. "Это очень важно внимание..." – снова Лиза услышала.
Никаких других посетителей в палате за это время не появилось.
Бабуся оставалась в центре всеобщего наблюдения, и вдруг что-то будто до нее дошло. Знакомое выражение в лице ее проступило.
– Маша,– она произнесла деланно небрежно,– а что, теперь такие каблуки вошли в моду?– указала на мамины туфли, которые видела не раз. – Это Павел привез? Там такие носят?– Обернулась к старухе армянке.– Знаете, мой зять...
Лизина мама склонилась зачем-то к уже пустой сумке.
А мои внуки...
Лизина мама взглянула на часы. Бабуся мгновенно себя оборвала:
– Маша, ты уже уходишь? Маша, хоть еще немного посиди.
Возьми меня отсюда, мне здесь плохо, Маша! Возьми меня с собой, к себе...
…Лет до двенадцати образцом во всем Лизе виделась мама.
Спустя время родство с отцом стала все больше отмечать. Брата младшего долго не замечала, пока не обнаружила, как это увлекательно, важно, на кого-то самой влиять. Защищать и командовать, делиться самым секретным, зная, что не выдаст, не продаст. И очень надежной представлялась семейная их крепость, где спрятаться, казалось, будет возможным всегда и в любой момент.
Поступки родителей, их решения воспринимались безоговорочно.
Если Лиза и восставала когда, буянила, так потому, что огонь плавал в крови, дурной характер искал выхода во вспышках, неожиданных и неразумных, что Лиза сама сознавала и раскаивалась.
Вообще себя она оценивала сурово. Знала, что не хороша, не добра, и нет в ней общительности, легкости, а, значит, справедливо, что её не любят. Но скрытую силу вынашивала в себе тайком, сплетая ее, как канат, из сомнений и уверенности, опасливости и риска, надменности и постоянного мучительного недовольства собой.
Но что она приняла как аксиому, так это необходимость свои чувства скрывать. Особенно те душевные переливы, где и ранятся всего глубже.
Специально ее скрытности не обучали, но как урок воспринимался и мамин холодноватый поцелуй, и ироничные отцовские словечки, сама атмосфера их дома, дружного, спаянного и не допускающего вторжений извне. Гости, разумеется, не считались: их звали, когда были готовы. Всему задан был строгий, размеренный ритм. И мать, и отец шагали по жизни смело, но помнили об опасностях, гордились, что удавалось им их обходить. А значит, маршрут выбирался определенный, без нарушений, известных запретов, в согласии с нормами.
Чудачеств в доме не одобряли, хотя и сочувствовали некоторым чудакам, наблюдая со стороны. Ценили ум. Уважали труд. Бестолковые чьи-то метания осуждали.
И скорее жестковатость готовы были простить, подразумевая под ней недосказанное, сокровенное, чем мягкость, податливость, излишнюю откровенность, считая, что высказанное вслух обесценивается.
Следовать таким установкам было, возможно, полезно, но иногда тяжело. Временами, точно муть со дна, поднималось всхлипывающее, жалкое что-то. И как ни отмахивалась, не могла Лиза, не признать, откуда, от кого это в ней.
Да, хотелось, чтобы ее, Лизу, любили, страстно, пылко.
Невыносимо было чувствовать себя ни для кого не главной, не "самой".
Набухала потребность против несправедливости такой восстать – орать, требовать, объясняться, оправдываться. Что же вы?.. Разве я так уже плоха? Ну не очень добра, не очень легка, но ведь я живу – живу!– и хочу любить, хочу, чтобы меня любили. Ничего нет важнее, нужней... Бабуся, перестань смеяться, слышишь?
У них было три комнаты. В одной Лиза с братом жили, другая, родительская, считалась спальней, в той, что побольше, все собирались, и папа работал там по вечерам. Вроде площадь большая, но каждая вещь крепко с другими спаялась. Не втиснешься. И вот мама озабоченная ходила по комнатам, что-то вымеряла, подсчитывала. "А если телевизор передвинуть?– сама с собой рассуждала.– Не-ет, не встанет. А если кресло убрать?"...
И ничего так не решила, когда звонок в дверь раздался.
Подруга пришла, Зоя Петрова, высокая, носатая, с сизым румянцем. Эдакая тетя-лошадь. Процокала за мамой в спальню, и Лизе велели принести туда чай.
А муж у Зои Петровой был маленький, кучерявый. карманный.
Очень общительный, что вынуждало Зою постоянно быть настороже. Пока он шутил, покачиваясь слегка с носка на пятку, заложив руки в карманы брюк, так что фалды пиджака вздергивались залихватски, Зоя рядом стояла, тянула по-лошадиному длинную шею, косила глазом по сторонам. Она его любила, и он ее любил, но, часто бывая в гостях, они вдруг ссорились и уже до конца вечера самозабвенно ругались.
Тем не менее, в чужих семейных делах Зоя разбиралась как профессионал. Даже Лизина мама призывала ее порой в советчицы, когда следовало обсудить, к примеру, ехать либо не ехать ей одной с детьми отдыхать или дождаться отпуска мужа.
Теперь же проблема, верно, возникла поважнее: Лизина мама и Зоя Петрова в спальне затворились, и ни разу хохот оттуда не раздался, сопутствующий обычно их беседам.
Лиза в кухне нагрузила на поднос чайник, чашки, вернулась, взяла еще сахарницу, блюдечки для варенья, приблизилась к двери, но не успела постучаться: говорила Зоя Петрова. Лиза застыла с подносом в руках.
– Ты подумай. Ты крепко подумай,– Зоя говорила.– Потом поздно будет, и ничего уже не вернешь.
– Знаю,– мама отзывалась слабо.– Раньше мне бы и в голову не могло прийти. Но сейчас... ты не представляешь, такой здесь камень...
– Врачи как раз считают, что сердце великолепное и легкие...
Себе бы, пошутили, пожелали. Не в том дело. Ты бы ее увидела... Так изменилась, так стала слаба.
– Месяц в больнице – каждый ослабеет. Без воздуха. Но обследование закончилось? Все в порядке?
– Да нет порядка! – мама воскликнула.– Нет и не может теперь его уже быть. Она, как ребенок, плачет, просит...
– Мне трудно тебе советовать, Маша. Но вспомни, такие слезы потом скандалами, ссорами заканчивались. И тебя она не щадила, ты молодая, все, мол, выдержишь, а твое сердце... Нет, дай досказать!
– Я понимаю,– снова начала Зоя.– Абсолютно все понимаю.
Это тяжелый в твоей жизни момент. Тем более надо с умом, внимательно разобраться.
Не поддаваться излишне эмоциям. Именно... Как сделать разумней? Ты– дочь.
Но и мать, и жена. У Полины Александровны есть своя прекрасная комната, в прекрасном районе. Меняться? Оставить как вариант, на случай если разругаетесь вдрызг? А это будет, будет. Она и вас всех еще перессорит... Была бы другая какая–нибудь, ну, безобидная старушка, от которой пусть и нет помощи, но и выверта никакого не ждешь. Помню, как она на твоем дне рождения...
Да что там! Павел у тебя, конечно, золото, терпелив, благороден, но и тут бы я не поручилась. Ты только представь, представь, как это будет, может быть...
Лизина мама молчала. Зоя тоже не торопилась продолжать.
Верно, обе они это себе представляли. И Лиза, слушающая за дверью, тоже.
– Боже мой, голова кругом,– Лизина мама вздохнула.– Не знаю, что и решать, С Павлом еще не говорила. Он, конечно...
– И не говори,–Зоя твердо произнесла.–Неизвестно, что еще дальше будет, боюсь накликать беду, но ведь если бы действительно какая-то неизлечимая была бы болезнь, беспомощность, неподвижность, твой долг, конечно... Но теперь? Почему? Старая? Но так это всех нас ждет.
И заранее стоит подумать, чтобы не оказаться обузой.
– Да, правда,– Лизина мама обронила глухо.– Как это страшно, неужели...
– Ну, перестань. Живи и не выдумывай глупостей. Прекрасный у тебя муж, дети, Бога-то не гневи. Ты умница и все сумеешь. К матери съездишь, вкусненькое отвезешь, вернешься домой, к себе,– а так хорошо у тебя, ладно, дружно! Действительно, по-доброму завидую. Не осложняй, не омрачай. И не вынуждай меня к цинизму, но жизнь-то у нас одна.
Лизина мама молчала.
– И все же,– наконец она произнесла,– почему мы так жестоки?
Так проще? Но есть справедливость? Зоя, милая, если с нас спросят, успеем ли мы объяснить?
Дверь распахнулась. Лиза отпрянула, держа поднос обеими руками.
– Чай,–пробормотала,–готов. Только остыл наверно...
…Было лето. Не часто они себе позволяли вот так, встав спозаранку, отрешиться сразу от всех дел, которых и в воскресенье оказывалось достаточно. А тут – поехали купаться! Купальники, правда, не скоро нашлись.
Брат еле втиснулся в прошлогодние плавки, мама уверяла, что просто на берегу посидит, а папа надел "семейные" трусы, прошелся в них, и все чуть не попадали со смеху.
Погрузились в недавно купленный "Москвич", вела его мама, трусила, волновалась, жала резко на тормоз, из проезжающих мимо машин летела ругань, папа, сидевший рядом с мамой, в окно высовывался и тоже что-то едкое маминым обидчикам орал. Лиза с братом на заднем сиденье черешню ели, в горсть собирая липкие косточки.
И снова Лиза чувствовала, как все туже, звонче натягивается в ней струна, восторгом грудь распирает, но ноет, щемит где-то в межреберье, и ликующий, тревожный шепот будто слышится со всех сторон – живи, гляди, спеши, не упусти, не медли.
На загородную трассу выехали, влились в поток машин, мама сделалась увереннее. Оборачивала к папе свой нежный профиль, и папа поглядывал на нее, губы их шевелились, но Лиза вдруг перестала их слышать: как им хорошо, думала, как они довольны, купаются в своем счастье, плывут, ныряют, отфыркиваются по-дельфиньи – глядела на их головы, профили, заговорщические улыбки.
И все туже, все больнее натягивалась в ней струна.
Белесое жаркое солнце глаза слепило, искали тенек, где можно оставить "Москвич". Лиза, вылезая, ударилась о дверцу колонкой, послюнила: коленка была шершавая, толстая. Сознавая свою непривлекательность, уязвленная этим, Лиза огляделась по сторонам и вздёрнула подбородок.
Пляж оказался песчаным, утоптанным. Плоская желтая вода теснилась в узких берегах. Брат попросил надуть резиновую зеленую в желтых пятнах лягушку, чтобы с ней плавать. Лиза, дыша больничным запахом нагретой резины, подумала: это большая разница – пять лет.
Мама шла впереди босая, оставляя маленькие округлые следки.
Папа сказал, что можно взять напрокат лодку, лодочная станция во-о-он там!
Пока сталкивали в воду лодку, у мамы взмок подол, ноги облепил, ее усадили и уже вместе с ней лодку толкали. Папа на весла сел, греб, и река вдруг стала широкая, просторная, и берег с ее середины виделся четче, ярче, круто поднимались, проворачивались жестко весла в уключинах, смачно плюхались о воду, папа грёб, грёб...
…Мы плыли. Мама сидела на корме, улыбалась задумчиво, странно, ветер, на берегу неслышный, ее волосы перебирал, папа грёб, наклонялся вперед, назад почти навзничь откидывался – и это конечно же было счастье, следовало его схватить, сжать в горсти, чтобы потом снова и снова, раскрывая ладонь, видеть, как мы плыли, как грёб папа, мамины волосы перебирал ветер, и мы еще не подозревали, как она, наша мама, стара.
ПАНТЕЛЕЕВ И.И.
Алёшка с Агула
Цып, цып, цып!..- в который уже раз, присев на корточки, позвал Алешка.
Все десять кур суматошно толпились перед ним. Один петух, огнехвостый красавец, стоял поодаль, гордо подняв свой нахлобученный набок мясистый гребень, и делал вид, что хлебные крошки его нисколечко не интересуют.
А Алешку интересовал именно петух, вернее, его рыжие перья, из которых получались отличные мушки на хариусов.
—Цып, цып...
Петух, как показалось Алешке, презрительно скосил на него левый глаз.
Алешка отщипнул кусочек мякиша и бросил ему. Петух помедлил в нерешительности, потом сделал неуверенный шаг вперед, воровато склюнул мякиш и, отступив назад, снова гордо выпрямился.
Алешка раскрошил в руках оставшийся хлеб и начал горстями бросать через плечо. Куры наперебой кинулись за хлебом. Петух не вытерпел, тоже сорвался с места, но вовремя опомнился и остановился на полпути. Теперь до него было два шага, не больше. Алешкино сердце радостно задрожало. Тихонько, чтобы не вспугнуть петуха, он протянул ему на ладони крошки, ласково приговаривая:
—Петя, Петя... Цып, цып...
Петя недоверчиво наклонил набок голову.
И тогда Алешка прыгнул. Петух испуганно заорал, захлопал крыльями, но цепкие мальчишеские пальцы крепко держали его за хвост. Переполошенные куры с отчаянным кудахтаньем рассыпались по двору.
—Опять за петуха взялся!
Алешка не успел сообразить, в чем дело, как получил увесистый подзатыльник.
А тебе жалко, да? — все-таки огрызнулся он и напоследок хватанул пучок перьев из петушиной шеи.
Отпусти сейчас же, кому говорят!
Петух вырвался из Алешкиных рук и, растрепанный, ошалело помчался к сеновалу.
—Ты смотри — весь хвост выдрал!
Гошка, конечно, приврал — половина петушиного хвоста была целой, только слегка помятой, но Алешка возражать не стал, вскочил и тоже дал стрекача. У калитки в огород обернулся и ляпнул первое, что пришло в голову:
Сам ты селедка... соленая!
За огородом, перемахнув через изгородь и убедившись, что Гошка за ним не гонится, рукавом клетчатой рубашки вытер потное, раскрасневшееся лицо и облегченно вздохнул. Тут же на траве разобрал добытые трофеи. Огненные перья из петушиного хвоста он безжалостно выбросил — добрых мушек из них не получится, зато перья из шеи аккуратно сложил и завернул в клочок газеты. С удовольствием подумал, что теперь ему хватит мушек до конца лета, если даже половину отдать Гошке. Нет, половину он не отдаст, а штуки две-три, не больше. В обмен на кованые крючки, что на прошлой неделе дали брату приезжие рыбаки. Правда, Алешке они тоже дали крючков, но ведь Гошка редко на рыбалку ходит. Он и мушек-то сам делать не умеет, его, Алешку, просит. Гошка все больше книжки читает, говорит, ученым будет. А Алешка будет самым знаменитым охотником, будет, как отец, добывать медведей, сохатых, соболей, ловить в Агуле рыбу.
Алешка глянул на солнце и спохватился: наверное, уже скоро обед, а он до сих пор прохлаждается. Сегодня утром отец с матерью и старшей сестрой Любкой уплыли в промхоз сдавать ягоды. Не воспользоваться этим просто немыслимо. И так в последнее время редко удается порыбачить, потому что они всей семьей плавают на острова по смородину. Алешка не любит это немужское занятие и всеми силами старается доказать, что собирать ягоды он совершенно неспособный человек. Он, например, не может удержаться, чтобы самую спелую смородину не положить в рот, и поэтому в его корзинке всегда полно мусору, а ягоды — одна зелень. Отец как-то посмеялся, что Алешка может зараз умять ведро смородины. Ведро не ведро, а полведра, если поднатужиться, пожалуй, осилит. В общем, на аппетит Алешка никогда не жаловался, недаром он такой толстощекий и коренастый, не то, что Гошка — худющий, одни черные глаза да волосы, как у цыганенка.
Гошка, как видно, давно забыл про петуха. Он читал книжку под навесом и не обратил на Алешку никакого внимания.
Обуть старенькие кеды, сунуть ломоть хлеба за пазуху (огурец он попутно прихватил в огороде) было минутным делом. Еще раз проверил, не забыл ли чего. Крючки в кепке. Леска, ножик — в кармане. Рогатка... С ней он никогда не расставался — пока это его самое сильное и грозное оружие. Удилище он вырежет на месте, потому что старое свое он недавно сломал, вываживая ленка. Подумал: хорошо бы захватить с собой Шарика или Дамку, но собаки увязались за бабушкой и младшими сестренками-близнецами, ушедшими в лес по грибы, и теперь свисти, не свисти — их не дозовешься. Придется идти без собаки.
Гошка оторвал взгляд от книжки, подозрительно посмотрел на брата.
Опять на рыбалку собрался?
Угу, — буркнул в ответ Алешка, — Хочешь — пойдем вместе.
Топай, раз собрался.
Подумаешь. Ну и кисни над своими книжками. А на Сахарном харюзья — во какие! Черные.
Топай, топай...
У Алёшки отличное настроение. Так и хочется припустить бегом по таежной тропе, но он сдерживается — охотник не должен позволять себе глупостей. А Алешка — охотник. Пускай у него нет ружья, зато всегда наготове рогатка. В умелых руках она что-нибудь да значит. У Алешки умелые руки и зоркий глаз. На двадцать шагов он может попасть в воробья. А недавно подстрелил рябчика. Правда, рябчик был молодой, нынешний, и подпустил совсем близко, но это не важно. Важно, что это был рябчик — дичь. Отец тогда похвалил и сказал, что из Алешки, пожалуй, со временем получится настоящий охотник. Один Гошка недоверчиво сузил свои цыганские глаза:
Нашел, небось, дохлого в тайге и хвастаешь.
Алешку взорвало:
Не веришь? Становись на тридцать шагов — в глаз попаду. Гошка, конечно, не встал, и Алешка торжествовал победу.
Тревожно пискнул бурундук. Прыгнул с обомшелого пня на сосну. Проворно, взбежал по корявому стволу и, высунувшись из-за лохматой ветки, с любопытством уставился на Алешку крошечными глазками-точками. Нет, Алешка не натянул резинку, не стал лишать жизни маленького забавного зверька, он вложил два пальца в рот и свистнул.
Мелькнула рыжая метелка бурундучьего хвостика, и попробуй-ка, отыщи его в густых колючках соседней елки! Охотник улыбнулся, довольный. Постоял немного, подождал, не покажется ли снова испуганный зверек, и, не дождавшись, зашагал дальше. Однажды знакомый геолог дядя Гриша сказал отцу:
— Живете вы в своей Соломатке на краю земли, богом забытые. Оттого все и разъехались отсюда.
Алешка с ним не согласен. Ну какой же это край земли, если тайга кругом! Идешь, идешь, а ей конца-краю нету.
И про бога он, тоже зря, потому что никакого бога на свете нет и не было никогда. Да и кто в бога верит? У них в семье одна бабушка в неделю раз перекрестит беззубый рот, вздохнет. Как-то Алешка спросил ее, зачем она крестится. Бабушка легонько шлепнула его сухой ладошкой по мягкому месту, велела не совать нос куда не следует. Так ничего и не ответила.
А вот про то, что разъехались, — правда. Говорят, когда-то было в Соломатке дворов двести, не меньше. Все больше переселенцы жили. Кто такие, Алешка не знает. Перед самой войной вышло им какое-то разрешение, они собрали пожитки, продали дома на снос, а некоторые так просто заколотили окна досками крест-накрест и уехали кто куда. И теперь в Соломатке всего шесть домов, половина из них пустует. Из старожилов осталось две семьи: они, Егоровы, да дед Жлобин с бабкой. Нынче весной приехала еще одна семья — рабочие по сбору живицы — и поселились в пустом доме на самом краю деревни.
У Алешки в Соломатке нет никого друзей. Откуда им взяться? Дед Жлобин — бездетный, а у приезжих две девчонки-малолетки, одна еще под стол пешком ходит.
Если подумать хорошенько, то и получается по дяди-Гришиному, навроде как живут они на краю земли. И правда, дальше вверх по Агулу нет никаких деревень — одни охотничьи избушки.
И все равно Алешка ни за какие калачи не согласен уехать из родной деревни. Где еще найдешь такую рыбную реку, как Агул, и тайгу, где так много дичи и зверья разного? А что народу мало, так уж недолго осталось ждать: народ будет. Говорят, собираются строить здесь то ли завод какой-то, то ли химлесхоз. Что-нибудь обязательно построят, не может быть, чтоб не построили, потому что сейчас везде строят, даже на самом дальнем-дальнем Севере, где и лесу-то никакого нет — одни болота да карликовые березки...
Алешка остановился: показалось, будто тоненько засвистел рябчик. Так и есть, но далеко, в черемушнике за протокой. Пускай свистит себе, рябый...
Лес начал постепенно редеть, расступаться. Сейчас будет большая поляна. По краям ее и дальше в глубь леса тут и там возвышаются одинокие старые сосны. На них часто садятся глухари. Алешка несколько раз видел их, пробовал подкрадываться к ним поближе, но — где там! — глухарь — птица зоркая, осторожная, сразу начинает беспокойно вытягивать шею, потом тяжело слетает с дерева и — поминай, как звали.
На этот раз глухарей не оказалось. Только высоко в голубом небе кружил над поляной коршун. Вдруг прямо из-под ног нежданно-негаданно выскочил молодой зайчишка. Алешка пульнул в него из рогатки. Промазал и рассмеялся — до того потешно, подкидывая задние лапы, удирал косой.
За поляной снова пошел тенистый прохладный лес. Деревья близко подступали к тропе. Когда-то это была не тропа, а самая настоящая дорога и вела она в поселок Сахарный, от которого остался один полусгнивший барак да черная, крытая трухлявым драньем баня.
До Сахарного было уже недалеко. Чтобы не отвлекаться на то и дело взлетающих сизарей, Алешка спрятал рогатку в карман. Пошел быстрее. Пересек кочкарник и, прежде чем выйти из березняка, не утерпел, свернул с тропы вправо к большому, превратившемуся в гнилушки пню. Там был муравейник. Срезал складником березовый прут, очистил его и сунул в податливую, как опилки, муравьиную кучу. Муравьи забегали, закопошились, облепили прут, поползли по Алешкиной руке. Он сбрасывал их, а они ползли и кусались. Наконец он вытащил прут, сдул с него оставшихся муравьев и на ходу с наслаждением стал обсасывать его: любил охотник полакомиться кисло-терпким муравьиным соком!..
Березняк кончился.
Алешка вышел на берег и невольно зажмурился— до того ослепительно сверкал на солнце Агул...
В глубине поляны среди буйно разросшейся дикой конопли виднелся барак. Алешке не нравилось это унылое с провалившейся крышей строение. Без особой нужды он редко заглядывал туда. Не то что боялся, а просто от одного вида замшелых бревен и острого запаха плесени, от густо вытканной по темным углам паутины и мышиной возни под прогнившими половицами становилось муторно на душе. Поговаривали, будто по ночам в бараке жутко, по-человечески стонет филин. Кто знает, может, и неправда это, но Алешка ни за что не остался бы ночевать в бараке.
Сейчас он лишь мельком взглянул на угрюмый барак. Его внимание привлекла голубая струйка дыма над лесом. В другое время он бы не обратил на дым никакого внимания — костер на берегу Агула — обычное явление. Мало ли ездит сюда охотников половить агульских черноспинных хариусов. Но дым был как раз над тем местом, где Алешка собирался рыбачить. Кто бы это мог быть? Приезжие или свои, агульские?
Алешка перебрел неглубокую протоку, обогнул мысок острова, заросший тальником, и по тропе вдоль берега направился к костру. В голове его возникали самые невероятные догадки. А что если это разбойники или бандиты? Да, да, самые настоящие! Сидят себе у костра и ждут ночи, чтобы напасть на Соломатку, или подкарауливают рыбаков с верховьев Агула, чтобы убить их и забрать бочонки с рыбой. От таких дум стало немножко не по себе, но отступать было поздно. Алешка и не собирался отступать. Он только свернул с тропы и пошел тише, чутко прислушиваясь к лесу, вздрагивая от легкого, шороха веток и хруста сучков под ногами. Сердце его то замирало, то, наоборот, отчаянно колотилось в груди.
Он подкрался к ним так близко и увидел их так внезапно, что невольно припал к земле и попятился назад за липкий, в потеках смолы, шершавый ствол, ели.
Их было двое, и они не походили ни на разбойников, ни на бандитов. Оба в одинаковых лыжных костюмах неопределенного, не то синего, не то темно-серого цвета, в высоких резиновых сапогах с завернутыми голенищами. У них не было кривых остро отточенных кинжалов, какие Алешка видел на картинках в книжке про Али-Бабу и сорок разбойников; у одного, который сидел на пне лицом к нему, висел на поясе обыкновенный магазинный охотничий нож.
Они пили из кружек дымящийся чай.
Успокоенный, Алешка хотел потихоньку отползти к тропе, чтобы, не скрываясь, как ни в чем не бывало подойти к ним, но тот, который сидел к нему спиной, выплеснул из кружки остатки недопитого чая и громко сказал:
— Что ни говори, Сергей, а чай из агульской водички — сила. Что-то знакомое почудилось в его хрипловатом голосе. Где-то Алешка слышал этот голос, видел этого невысокого плечистого дядьку с толстой красной шеей. Сергей тоже показался знакомым: такой же чернявый, как и напарник, но худощавый, широкоплечий, с большими костистыми руками... Ну, конечно же, это они с месяц назад причалили на лодке-долбленке к Соломатке в устье Колхи. Сергей сидел за рулем, а этот толстый, когда лодка ткнулась носом в берег, шагнул через борт прямо в поду. Припадая на левую ногу, подошел к Алешке и Гошке, вязавшим веники в тени под черемухой, и хрипловато спросил:
— Пацаны, далеко еще до Сахарного?
Гошка ответил, что недалеко, а Алешка поинтересовался:
Вы что, рыбачить туда?
Может, и порыбачим, если клевать будет, — не сразу, с усмешкой ответил дядька, пристально глядя на Алешку своими неприятно маленькими цепкими глазками.
Михаил, иди-ка помоги, — позвал Сергей.
Точно, этого толстого зовут Михаилом, Алешка все вспомнил. Они тогда долго копались в моторе, что-то регулировали. И еще Алешка хорошо запомнил их мотор «Москву», старенький, с облупившейся по бокам зеленой краской.
А вечером приплыл сверху отец и рассказал, что какие-то двое — один толстый, другой худощавый,— глушили рыбу в Велигжанином плесе. Бросили две бутылки. Их видели удившие неподалеку приезжие рыбаки, стали кричать, ругаться. Браконьеры струсили, завели мотор и удрали вниз.
Это ж столько рыбы загубить — все дно усеяно! — возмущался отец. — Ну, пускай они только появятся на Агуле...
И вот они появились снова. Алешка был уверен, что это именно они. Что делать? Бежать в Соломатку и рассказать о браконьерах отцу? Далеко, и отец, наверно, еще не вернулся домой. Пока дождешься его, они поглушат рыбу и удерут. Будь у Алешки ружье, он, не задумываясь, пальнул бы в этого толстого — он почему-то особенно ему не понравился — и обязательно солью, чтобы навек запомнил, как браконьерничать. Но ружья не было. Алешка, затаив дыхание, лежал под елкой и мысленно призывал на их головы самую тяжкую кару.
Браконьеры курили, о чем-то разговаривали вполголоса. О чем, Алешка не мог понять из обрывков фраз и отдельных слов, долетавших до него.
Все, — произнес Сергей, вставая. — Пойдем побродим вдоль протоки. В прошлый раз я видел там много смородины.
Алешка злорадно усмехнулся: в прошлый раз там, конечно, была смородина, да сегодня утром уплыла в промхоз. Это он уж знает совершенно точно — сам набрал вчера чуть не полную корзину, всю рубашку изодрал по кустам.
Сергей принес из лодки двустволку и два ведра. Одно ведро отдал Михаилу, и они не спеша, направились в лес.
Алешка выждал, когда они скрылись, осторожно озираясь, подполз к тлеющему костру. Закопченный котелок, две кружки, полбулки белого городского хлеба на измятой газете, недопитая бутылка водки, прислоненная к не завязанному рюкзаку... Как ели, так все и оставили, не прибрали даже.
Алешка ни к чему не притронулся, хотя его так и подмывало вылить из бутылки водку и набрать вместо нее воды. Он не стал мелочиться. Он придумал такое, от чего браконьеры взвоют... Пока они ищут ягоды, лодка их далеко уплывет, и Алешка тоже будет не близко.
Дрожащими пальцами он отвязал от березового пня веревку, и в тот самый момент, когда, быстрое течение готово было подхватить закачавшуюся на воде лодку, в голову пришла еще более дерзкая мысль. Алешка с силой оттолкнул нос лодки от берега и прыгнул в нее сам...
Съежившись от страха, он лежал на дне лодки и считал перекаты.
Первый…
И немного погодя — второй...
Шум переката быстро удалялся — это начался не широкий, но глубокий плес ниже Сахарного.
Третий...
Лодку упруго закачало на волнах. Алешка крепко зажмурился: в этом месте Агул свирепо бьет в левый берег, того и гляди, швырнет на упавшее в реку дерево или на корч — тогда не миновать купанья.
Но как будто все обошлось; лодку перестало качать; за бортом ласково хлюпала вода.
Алешка прислушался и, не услышав ничего подозрительного, тихонько высунул голову. Страшный перекат остался позади. Лодку несло кормой вперед мимо дремучего ельника и кустисто висевшего над водой тальника. И ни души кругом. Видать, браконьеры нашли необобранные кусты смородины и еще ничего не знают...
Почему-то подумал о том, что, вернувшись к костру и обнаружив исчезновение лодки, они обязательно начнут ругаться, бестолково бегать по берегу. У того, толстого, глазки, наверно, сделаются совсем маленькими и злыми... Пускай позлится!
От мысли, что все так удачно получилось и что, хоть злись-перезлись, браконьерам все равно не догнать его, Алешка успокоился. Страх прошел.
Лодку начало разворачивать поперек течения.
Он перебрался на корму. Взял шест и стал толкаться к противоположному берегу. Железный наконечник шеста беспомощно чиркал по каменистому дну, тяжелая вертлявая долбленка плохо слушалась, и он весь вспотел, пока переплыл Агул.
Теперь можно было немножко передохнуть.
Лодка бесшумно плыла по течению; безмолвно проплывал мимо нависший над водой берег, весь в зелени, разомлевшей от жары; прохладно блестела поверхность Агула. Кругом было так тихо и так покойно, что Алешка забыл о браконьерах. И вдруг его будто кольнуло: а что, если это не браконьеры и он зря угнал лодку?
Сразу противно заныло внутри.
Навстречу быстро приближался остров, отделенный от берега неширокой протокой.
Алешка изо всех сил заработал шестом, направляя лодку в протоку. Сейчас он все узнает, убедится... Если это браконьеры, то у них должна быть взрывчатка или сети. Сетями на Агуле запрещено ловить всем, кроме промхозовских рыбаков. Сейчас он все узнает...
Лодка поравнялась с островом, прошуршала днищем по гальке и прочно села на мель.
Алешка не любил и не умел долго раздумывать.
Через минуту, стоя по щиколотку в воде, он обшаривал лодку. В носу в холщовом мешке нащупал берестяные поплавки — сеть. Немного отлегло от сердца. Возле мешка под старой клеенкой оказался маленький фанерный ящик, и в нем, завернутые в тряпки отдельно друг от друга, бутылки с нацеленными вверх горлышками. Он осторожно вытащил одну — тяжелая. Сквозь зеленое стекло просвечивал какой-то порошок. Взрывчатка! Холодный пот выступил на лбу. Алешка чуть не выронил страшную бутылку.
Бутылка мирно блестела и, кажется, не думала взрываться.
Тогда, осмелев, дрожащими пальцами он попробовал ототкнуть ее. Она невольно легко ототкнулась. С опаской наклонил: из горлышка желто-серой струей тек порошок и тонул, оставляя на воде едва заметную пыльную дорожку.
Уже ничего не боясь, он одну за другой опорожнил все пять бутылок, пустые аккуратно составил обратно в ящик, прикрыв клеенкой.
Развязал мешок с сетью. Сеть-трехстенка была новая, капроновая, в точности такую недавно привез из города отец. Хорошо бы спрятать ее в кустах на острове, а после приплыть и забрать, но если узнает отец, тогда... У Алешки даже зачесался затылок. Со вздохом запустил в сеть острое лезвие складника.
Расправившись с трехстенкой, Алешка стал соображать, что бы такое сделать с мотором. Вспомнил, Как тогда, у Колхи, помогая Сергею, Михаил продувал фильтр отстойника и нечаянно уронил поддонник в воду. Сергей рассердился, обозвал его растяпой и сказал, что без этой штуки все равно, что без бензина — никуда не уплывешь. Михаил засучил рукава и долго шарил по дну руками, пока не отыскал злополучный поддонник.
Снять с мотора кожух для Алешки было пустяковым делом. И вот он держал в руке пластмассовую чашечку поддонника. Хотел бросить в воду, но передумал — пригодится — и сунул в карман.
Теперь все в порядке. Алешка представил себе, как браконьеры, найдя лодку, обрадованно кинутся к ней. Обнаружив изрезанную сеть и пустые бутылки, начнут трусливо оглядываться, оттолкнутся от берега, и Сергей изо всех сил будет дергать стартер, а мотор и не подумает заводиться. Волей-неволей придется спускаться вниз самосплавом, и все, кто увидит их, сразу поймут, что это браконьеры, и будут кричать им вслед, чтоб они сматывались вон с Агула. Вот если бы еще краской написать на борту... А что?.. Ведь буквы можно вырезать! После их ничем не соскоблишь и не замажешь — их все равно будет видно.
Не раздумывая, Алешка вооружился складником и приступил к делу. Стоя на коленях прямо в воде, он работал вдохновенно, как настоящий художник. Буквы получались большие, во всю ширину борта; белые, внушительно толстые, они четко выделялись на потемневшей обшивке лодки. Особенно хороша была первая. Остальные получились не очень: «Е», например, походило на обломанный трехзубый гребешок, «Н» напоминало разъехавшуюся, кое-как сколоченную лестницу. Зато последняя вышла под стать первой, ровная и красивая, Алешка критически оглядел свое творение и остался доволен— надпись, как он и рассчитывал, заняла весь левый борт от носа до кормы, впрочем, нет, на корме еще оставалось немного места, ровно столько, чтоб поместилась точка. И точка подвела: в самый решительный момент, когда она была почти готова, лезвие ножа хрупнуло и коротко булькнуло в воду. С досады Алешка прикусил язык, чуть не со слезами на глазах посмотрел на непохожую куцую ручку складника, теперь уже бесполезную, и в сердцах забросил ее в кусты.
Алешка недолго горевал о ноже. Нужно было что-то делать. Браконьеры, небось, уже обнаружили исчезновение лодки и теперь вовсю рыщут по левому берегу. Правда, сюда они никак не смогут попасть — мешал Агул, а тальниковый островок надежно скрывал от любопытных глаз, но не оставаться же здесь до ночи! Алешка хорошо знал и этот узкий длинный островок, и эту мелкую шумливую проточку. Агулом до устья Колхи отсюда километра два, не больше, а если перебрести протоку и идти берегом — целых три по бурелому и болоту.
А если... Нет, Алешка просто ненормальный человек! Как он мог забыть, что выше этого островка, под тем берегом река делится на два рукава? Браконьерам, хоть тресни, ни за что не перебраться через старый Агул — глубоко, и такая быстрина, что камни несет по дну. Выходит, Алешке нечего бояться. Он может спокойно плыть до самой Зонской протоки, а оттуда до Соломатки — рукой подать.
Алешка поднатужился, столкнул лодку с мели.
Мокрый с головы до пят, с разорванной штаниной, Алешка добрался до устья Колхи. Колха — мутная ленивая речушка — течет и не течет. За лето она совсем обмелела, заросла бледно-зелеными неприятно скользкими лопухами; вода в ней теплая и вонючая, как в болоте.
Алешка раздвинул перепутавшиеся ветви черемухи и краснотала, хотел соскользнуть с травянистого берега вниз, чтобы перебрести на ту сторону, но тут же попятился назад.
Это были они. Он их сразу узнал. Они были на том берегу, на мыске. И с ними — Гошка.
Алешка спрятался за черемухой и стал наблюдать. Сергей что-то спрашивал у Гошки. Михаил стоял рядом, сгорбившись под тяжестью рюкзака. А где же ведра? Ага, они засунули их в рюкзаки. Значит, ягод так и не нашли. Вид у обоих усталый, у Михаила (Алешка это сразу заметил) разорвано голенище правого сапога...
Гошка что-то объяснял, жестикулируя руками. Наверно, как лучше выйти к Зонскому перекату. Полчаса назад Алешка оставил там лодку и чуть не утонул. Хорошо, что течением сбило его у самого берега и он успел схватиться за талину. Он дешево отделался: ушиб колено да пострадали штаны. Догадайся они перебраться через старый Агул, они бы его как раз прищучили. Они не догадались...
Сейчас Алешка их ни капельки не боялся. Он просто не хотел попадаться им на глаза. Он сидел в засаде а ждал, когда они уйдут. И еще ему очень хотелось, чтобы они быстрей нашли свою лодку.
Кажется, дождался — идут. А что если им вздумается перебродить Колху в этом месте? Алешка съежился, прижался к земле. Нет, пошли выше — там мельче. Они торопились. Михаил едва поспевал за Сергеем, Теперь Алешка их не видел — мешали кусты. Он слышал, как они забрели в воду, как вышли на берег, по треску сучьев догадался — углубились в лес.
Он нарочно перебродил Колху не поперек, а наискосок, почти вдоль. Местами глубина доходила до пояса. Заметив, что брат отложил книжку и наблюдает за ним, нарочно поскользнулся и окунулся по шею. Теперь Гошка не будет приставать с расспросами, где да как искупался, не слепой — сам видел. И вообще Алешка ему ничего не скажет, по крайней мере, сегодня. Расскажет после, дня через три, когда все рыбаки на Агуле будут ломать головы над тем, чтобы узнать, кто же так здорово проучил браконьеров.
Не выходя на берег, Алешка остановился напротив брата.
Удивленный его необычным появлением, Гошка недоуменно посмотрел сперва на его разорванные штаны, потом на его круглую лукавую физиономию.
Ты... что? — наконец выговорил он.
На кедру лазил, — не моргнув, соврал Алешка.— Штаны порвал... Попадет от мамки.
По прищуренным Гошкиным глазам понял: не верит. Ну и пусть. Интересно, если бы ему все начистоту выложить? Не поверит: скажет — хвастаешь.
Вытащил из-за пазухи размокший хлеб, попробовал: липнет во рту — невкусно. Бросил малявкам в воду. Достал огурец.
Гошка все также недоуменно смотрел на младшего брата.
Алешка стоял по колено в воде, хрустел огурцом и тоже поглядывал то на малявок, дружно терзавших хлеб, то на Гошку. Не вытерпел, спросил:
Дядьки куда пошли?
Городские-то? — с готовностью отозвался Гошка. — Растяпы! Лодка у них уплыла. Так они по старому Агулу искали. Чудаки! Ее, поди, в Зонскую унесло. Не перевернуло, так где-нибудь на перекате застряла. Туда пошли.
Найдут.
Что?
Лодку. На перекате, — ухмыльнулся Алешка.
Ты видел ее, да? — Гошка настороженно сузил цыганские глаза.
Не-е... Я на кедру лазил. — Алешка бросил недоеденный огурец и начал стягивать с себя рубашку.
— Посушить надо, а то мокрая.
Выжал рубашку, расстелил ее на траве. Как бы между прочим, поинтересовался:
А ты что, папку ждешь?
Так сижу.
Врешь. Любка книжек обещала привезти.
А тебе не все равно?
Алёшке было все равно. Он многозначительно хмыкнул и промолчал. Гошка тоже не проронил ни слова.
…Они лежали на траве на почтительном расстоянии друг от друга. Каждый был занят своим очень важным делом. Гошка читал. Алешка, раздевшись до трусов, загорал, и время от времени хлопал себя по голому телу, норовя пришибить назойливого паута. Оба то и дело поглядывали на Агул: один налево — не идет ли снизу лодка, другой направо — не показалась ли сверху другая. Иногда их взгляды встречались и поспешно разбегались в разные стороны.
Неизвестно, как бы долго это продолжалось, если бы Алешка не вскочил и не воскликнул ликующим шепотом:
Плывут!
Из-за поворота показалась лодка. Это были они. Михаил грузно сидел впереди; Сергей, стоя на корме, толкался шестом; подвесной мотор безмолвствовал. Лодка быстро приближалась. Вот она поравнялась с братьями, и Алешка увидел на ее борту большие белые буквы. Они, видать, так торопились, что даже не попытались замазать их грязью. Буквы нахально лезли в глаза.

- «БРО-КОНЬ-Е-РЫ»... — по слогам прочитал Гошка и, скосив удивленный взгляд на ухмыляющуюся Алешкину физиономию, буркнул: — Ошибка: после «эр» — «а» надо.
Встреча с Дерсу
Мы попали в бурелом и потому подвигались очень медленно. Часам к четырем дня мы подошли к какой-то вершине. Оставив людей и лошадей на месте, я сам пошел наверх, чтобы осмотреться.
То, что я увидел сверху, сразу рассеяло мои сомнения. Куполообразная гора, где мы находились в эту минуту, была тот самый горный узел, который мы искали. От него к западу тянулась высокая гряда, падавшая на север крутыми обрывами. По ту сторону водораздела общее направление долин шло к северо-западу. Вероятно, это были истоки р. Лефу.
Когда я присоединился к отряду, солнце стояло уже низко над горизонтом и надо было торопиться разыскать воду, в которой и люди, и лошади очень нуждались. Спуск с куполообразной горы был сначала пологий, но потом сделался крутым. Лошади спускались, присев на задние ноги. Вьюки лезли вперед, и если бы при седлах не было шлей, вьюки съехали бы лошадям на головы. Пришлось делать длинные зигзаги, что при буреломе, который валялся здесь во множестве, было делом далеко не легким.
За перевалом мы сразу попали в овраги. Местность была чрезвычайно пересеченная — глубокие распадки , заваленные корчами, водотеки и скалы, обросшие мхом. Трудно представить себе местность более дикую и неприветливую, чем это ущелье.
Не хотелось мне здесь останавливаться, но делать было нечего. На дне ущелья шумел поток, я направился к нему и, выбрав место поровнее, распорядился ставить палатки.
Величавая тишина леса сразу огласилась звуками топоров и голосами людей. Мои спутники стали таскать дрова, расседлывать коней и готовить ужин.
Сумерки в лесу всегда наступают рано. На западе сквозь густую хвою еще виднелись кое-где клочки бледного неба, а внизу, на земле, уже легли ночные тени. По мере того, как разгорался костер, ярче освещались выступившие из темноты кусты и стволы деревьев.
Наконец, на нашем биваке стало все понемногу успокаиваться. После чая каждый занялся своим делом: кто чистил винтовку, кто поправлял седло, кто починял разорванную одежду. Покончив со своими делами, стали ложиться спать. Плотно прижавшись друг к другу и прикрывшись шинелями, мы заснули, как убитые. Не найдя корма в лесу, лошади подошли к биваку и, опустив головы, погрузились в дремоту. Не спали только я и Олентьев. Я записывал в дневник пройденный маршрут, а он починял свою обувь. Часов в десять вечера я закрыл тетрадь и, завернувшись в бурку, лег к огню. От жара, подымавшегося вместе с дымом, качались ветви старой ели, у подножья которой мы расположились, и они то закрывали, то открывали темное небо, усеянное звездами. Стволы деревьев казались длинной колоннадой, уходившей в глубь леса и незаметно сливавшейся там с ночным мраком.
Вдруг лошади подняли головы и насторожили уши; потом они успокоились и опять стали дремать. Сначала мы не обратили на это особого внимания и продолжали разговаривать. Прошло несколько минут. Я что-то спросил у Олентьева и, не получив ответа, повернулся в его сторону. Он стоял на ногах в ожидательной позе и, заслонив рукою свет костра, смотрел куда-то в сторону.
— Что случилось? — спросил я его.
— Кто-то спускается с горы, — отвечал он шепотом.
Мы оба стали прислушиваться, но кругом было тихо — так тихо, как только бывает в лесу в холодную осеннюю ночь. Вдруг сверху посыпались мелкие камни.
— Это, вероятно, медведь, — сказал Олентьев и стал заряжать винтовку.
— Стреляй не надо! Моя — люди!.. — послышался из темноты голос, и через несколько минут к нашему огню подошел человек.
Одет он был в куртку из выделанной оленьей кожи и такие же штаны. На голове у него была какая-то повязка, на ногах унты , за спиной большая котомка, а в руках сошки и старая длинная берданка.
— Здравствуй, капитан, — сказал пришедший, обращаясь ко мне.
Он поставил к дереву свою винтовку, снял со спины котомку, обтер потное лицо рукавом рубашки и подсел к огню. Теперь я мог хорошо его рассмотреть. На вид ему было лет сорок пять. Это был человек невысокого роста, коренастый и, видимо, обладавший достаточной физической силой. Грудь у него была выпуклая, руки крепкие, мускулистые, ноги немного кривые. Темное загорелое лицо его было типично для туземцев: выдающиеся скулы, маленький нос, глаза с монгольской складкой век и широкий рот с крепкими зубами. Небольшие темно-русые усы окаймляли его верхнюю губу, и маленькая рыжеватая бородка украшала подбородок. Но всего замечательнее были его глаза. Темно-серые, но не карие, они смотрели спокойно и немного наивно. В них сквозили решительность, прямота характера и добродушие.
Незнакомец не рассматривал нас так, как рассматривали его мы. Он достал из-за пазухи кисет с табаком, набил им свою трубку и молча стал курить. Не расспрашивая его, кто он и откуда, я предложил ему поесть. Так принято делать в тайге.
— Спасибо, капитан, — сказал он. — Моя шибко хочу кушай, моя сегодня кушай нету.
Пока он ел, я продолжал его рассматривать. У пояса его висел охотничий нож. Очевидно, это был охотник. Руки его были загрубелые, исцарапанные. Такие же, но еще более глубокие царапины лежали на лице: одна на лбу, а другая на щеке около уха. Незнакомец снял повязку, и я увидел, что голова его покрыта густыми темными волосами; они росли в беспорядке и свешивались по сторонам длинными прядями.
Наш гость был из молчаливых. Наконец, Олентьев не выдержал и спросил пришельца прямо:
— Ты кто будешь, китаец или кореец?
— Моя гольд , — ответил он коротко.
— Ты, должно быть, охотник? — спросил я.
— Да, — отвечал он. — Моя охота ходи, другой работы нету, рыба лови понимай тоже нету, только один охота понимай.
— А где ты живешь? — продолжал допрашивать его Олентьев.
— Моя дома нету. Моя сопка живи. Огонь клади, палатка делай — спи... Всегда охота ходи, как дома живи.
Потом он рассказал, что сегодня охотился за изюбрями, ранил одну матку, но слабо. Идя по подранку, он наткнулся на наши следы. Они завели его в овраг. Когда стемнело, он увидел огонь и пошел прямо на него.
— Моя тихонько ходи, — говорил он. — Думай, какой люди далеко сопка ходи. Посмотри, капитан есть, солдаты есть. Моя тогда прямо ходи.
— Как тебя зовут? — спросил я незнакомца.
— Дерсу Узала, — отвечал он.
Меня заинтересовал этот человек. Что-то в нем было особенное, оригинальное. Говорил он просто, тихо, держал себя скромно, незаискивающе... Мы разговорились. Он долго рассказывал мне про свою жизнь. Я видел перед собой первобытного охотника, который всю свою жизнь прожил в тайге. Из его слов я узнал, что средства к жизни он добывал ружьем и предметы своей охоты выменивал у китайцев на табак, свинец и порох, и что винтовка ему досталась в наследие от отца. Потом он рассказал мне, что ему теперь пятьдесят три года, что у него никогда не было дома, он вечно жил под открытым небом и только зимой устраивал себе временную юрту из корья или бересты. Первые проблески его детских воспоминаний были: река, шалаш, огонь, отец, мать и сестренка.
— Все давно помирай, — закончил Дерсу свой рассказ и задумался.
Он помолчал немного и продолжал снова:
— У меня раньше тоже жена была, сын и девчонка. Оспа все люди кончай. Теперь моя один остался...
Лицо его стало грустным от переживаемых воспоминаний. Я пробовал, было, его утешить, но что были мои утешения для этого одинокого человека, у которого смерть отняла семью, это единственное утешение в старости. Он ничего мне не отвечал и только еще более поник головой. Хотелось мне как-нибудь выразить ему сочувствие, что-нибудь для него сделать, но я не знал, что именно. Наконец, я надумал: я предложил ему обменять его старое ружье на новое, но он отказался, сказав, что берданка ему дорога как память об отце, что он к ней привык, и что она бьет очень хорошо. Он потянулся к дереву, взял свое ружье и стал гладить рукой по ложе.
Звезды на небе переместились и показывали далеко за полночь. Часы летели за часами, а мы все сидели у костра и разговаривали. Говорил больше Дерсу, а я его слушал, и слушал с удовольствием. Он рассказывал мне про свою охоту, про то, как раз он попал в плен к хунхузам, но убежал от них. Говорил он о злых духах, о наводнениях, рассказывал про свои встречи с тиграми, говорил о том, что стрелять их нельзя, потому что это запретные звери, охраняющие женьшень от человека.
Однажды на Дерсу напал тигр и сильно изранил. Жена искала его десять суток, прошла более двухсот верст и по следам нашла его обессиленного от потери крови. Пока он болел, она ходила на охоту.
Потом я стал его расспрашивать о том месте, где мы находимся. Он сказал, что это истоки реки Лефу, и что завтра мы дойдем до первой зверовой фанзы.
На земле и на небе было еще темно; только в той стороне, откуда подымались все новые звезды, чувствовалось приближение рассвета. На землю пала обильная роса — верный признак, что завтра будет хорошая погода. Кругом царила торжественная тишина. Казалось, природа отдыхала тоже.
Через час восток начал алеть. Я посмотрел на часы, — было шесть часов утра.
Небо из черного сделалось синим, а потом серым, мутным. Ночные тени стали жаться в кусты и овраги. Они выйдут оттуда, когда солнце скроется за горизонтом.
Вскоре бивак наш опять ожил: заговорили люди, очнулись от оцепенения лошади, заверещала в стороне пищуха, ниже по оврагу ей стала вторить другая; послышался крик дятла и трескотливая музыка желны.
Тайга просыпалась. С каждой минутой становилось все светлее, и вдруг яркие солнечные лучи снопом вырвались из-за гор и озарили весь лес. Наш бивак принял теперь другой вид. На месте яркого костра лежала груда золы; огня почти не было видно; на земле валялись порожние банки из-под консервов; там, где стояла палатка, торчали одни жерди и лежала примятая трава.
Охота на кабанов
После чая стрелки начали вьючить коней, Дерсу тоже стал собираться. Он надел свою котомку, взял в руки сошки и берданку. Через несколько минут отряд наш тронулся в путь. Дерсу пошел с нами.
Ущелье, по которому мы шли, было длинное и извилистое. Справа и слева к нему подходили другие такие же ущелья. Из них с шумом бежала вода. Распадок становился шире и постепенно превращался в долину. Здесь на деревьях были старые затески; они привели нас на тропинку.
Дерсу шел впереди и все время внимательно смотрел под ноги. Порой он нагибался к земле и разбирал листву руками.
— Что такое? — спросил я его.
Дерсу остановился и сказал, что тропа пешеходная, что идет она по соболиным ловушкам, что несколько дней тому назад по ней прошел один человек и что, по всей вероятности, это был китаец.
Слова Дерсу нас всех поразили. Заметив, что мы отнеслись к нему с недоверием, он воскликнул:
— Как ваша понимай нету? Посмотри сам.
После этого он привел такие доказательства, что все наши сомнения отпали разом. Все было так ясно и просто, что я удивился, как этого раньше не замечал. Во-первых, на тропе нигде не видно было конских следов, во-вторых, по сторонам она не была очищена от ветвей; наши кони пробирались с трудом и все время задевали вьюками за деревья. Затем повороты были так круты, что кони не могли повернуться и должны были делать обход; через ручьи следы шли по бревну, и нигде тропа не спускалась в воду; бурелом, преграждавший путь, не был прорублен, — люди шли свободно, а лошадей обводили стороною. Все это доказывало, что тропа не была приспособлена для путешествий с вьюками.
— Давно один люди ходи, — говорил Дерсу, как бы про себя. — Люди ходи кончай, дождь ходи, — и он стал высчитывать, когда был последний дождь.
Часа два мы шли по этой тропе. Мало-помалу хвойный лес начал переходить в смешанный. Все чаще и чаще стали попадаться тополь, клен, осина, береза и липа. Я хотел, было, сделать второй привал, но Дерсу посоветовал пройти еще немного.
— Наша скоро балаган найди есть, — сказал он и указал на деревья, с которых была снята кора.
Я сразу понял его. Значит, поблизости должно быть то, для чего это корье предназначалось. Мы прибавили шагу и через десять минут на берегу ручья увидели небольшой односкатный балаган, поставленный охотниками или искателями женьшеня. Осмотрев его кругом, наш новый знакомый опять подтвердил, что несколько дней тому назад по тропе прошел китаец, и что он ночевал в этом балагане. Прибитая дождем зола, одинокое ложе из травы и брошенные старые наколенники из дабы свидетельствовали об этом.
Тогда я понял, что Дерсу не простой человек. Передо мной был истинный следопыт, и невольно мне вспомнились герои романов Фенимора Купера и Майн-Рида.
Надо было покормить лошадей. Я решил воспользоваться этим, лег в тени кедра и тотчас же уснул. Часа через два меня разбудил Олентьев. Проснувшись, я увидел, что Дерсу наколол дров, собрал бересты и все это сложил в балаган. Я думал, что он хочет его спалить, и начал отговаривать от этой затеи. Но вместо ответа он попросил у меня щепотку соли и горсть рису. Меня заинтересовало, что он хочет с ними делать, и я дал ему просимое. Дерсу тщательно обернул берестой спички, отдельно в бересту завернул соль и рис и повесил все это в балагане. Затем он поправил снаружи корье и стал собираться.
— Верно, ты думаешь вернуться сюда? — спросил я Дерсу.
Он отрицательно покачал головой. Тогда я спросил его, для кого он оставил рис, соль и спички.
— Какой другой люди ходи, — отвечал Дерсу, — балаган найди, сухие дрова найди, спички найди, кушай найди — пропади нету.
Меня глубоко поразило это. Я задумался... Гольд заботится о неизвестном ему человеке, которого он никогда не увидит и который тоже не узнает, кто приготовил ему дрова и продовольствие. Таков был этот «дикарь».
К вечеру мы дошли до того места, где две речки сливаются вместе, откуда собственно и начинается Лефу.
После ужина я рано лег спать и тотчас уснул.
На другой день, когда я проснулся, все люди были уже на ногах. Я тотчас отдал приказание седлать лошадей, и пока стрелки возились с вьюками, я успел приготовить планшет для съемки и пошел вперед вместе с Дерсу.
От места нашего ночлега долина стала постепенно поворачивать на запад. Левые склоны ее были крутые, правые — пологие. С каждой верстой тропа становилась шире и лучше. В одном месте лежало срубленное топором дерево. Дерсу подошел, осмотрел пень и сказал:
— Весной рубили; два люди работали; один люди высокий — его топор тупой, другой люди маленький — его топор острый.
Для этого удивительного человека почти не существовало тайн. Как ясновидящий, он знал все, что здесь происходило. Тогда я решил быть внимательнее и попытаться самому разобраться в следах. Вскоре я увидел еще один порубленный пень. Кругом валялось множество щепок, пропитанных смолою. Я понял, что кто-то добывал растопку. Ну, а дальше? А дальше я ничего не мог придумать.
— Фанза близко, — сказал гольд как бы в ответ на мои размышления.
Действительно, уже опять стали попадаться деревья, частично лишенные коры (я уже знал, что это значит), а саженях в ста от них, на самом берегу реки, среди небольшой полянки стояла зверовая фанза. Это была небольшая постройка с глинобитными стенами, крытая корьем. Она оказалась пустой.
Внутренняя обстановка фанзы была грубая. Железный котел, вмазанный в низенькую печь, от которой шли дымовые ходы, согревающие каны (нары), два-три долбленых корытца, деревянный ковш для воды, кухонная тряпка, железная ложка, метелочка для промывки котла, две запыленных бутылки, кое-какие брошенные тряпки, две скамеечки, масляная лампа и обрывки звериных шкур, разбросанные по полу, — составляли все ее убранство.
Отсюда вверх по Лефу шли три тропы. Одна была та, по которой мы пришли, другая вела в горы на восток и третья направлялась на запад. Эта последняя была много хоженая — конная. По ней мы пошли дальше. Стрелки закинули лошадям поводья на шею и предоставили им самим выбирать дорогу. Умные животные шли хорошо и всячески старались не зацеплять вьюками за деревья.
В местах болотистых и на каменистых россыпях они не прыгали, а ступали осторожно, каждый раз пробуя почву ногою, прежде чем поставить ее как следует. Этой сноровкой отличаются именно местные лошадки, привыкшие к путешествиям в тайге с вьюками.
От зверовой фанзы Лефу начала понемногу загибать к северо-востоку. Пройдя еще верст шесть, мы подошли к земледельческим фанзам, расположенным на правом берегу реки, у подножья высокой горы, которую китайцы называют Тудинза.
Неожиданное появление воинского отряда смутило китайцев. Я велел Дерсу сказать им, чтобы они не боялись нас и продолжали свои работы.
Зверовые шкуры, растянутые для просушки, изюбриные рога, сложенные грудой в амбаре, панты, подвешенные для просушки, мешочки с медвежьей желчью , оленьи выпоротки , рысьи, куньи, собольи и беличьи меха и инструменты для ловушек, — все это указывало на то, что местные китайцы занимаются не столько земледелием, сколько охотой и звероловством. Около фанз были небольшие участки обработанной земли. Китайцы сеяли пшеницу, чумизу и кукурузу. Они жаловались на кабанов и говорили, что недавно целые стада их спустились с гор в долины и начали травить поля, — поэтому пришлось собирать недозревшие овощи. Но теперь на землю осыпались желуди, и дикие свиньи удалились в дубняки.
Солнце стояло еще высоко на небе, и потому я решил подняться на гору Тудинза, чтобы оттуда осмотреть окрестности. Вместе со мною пошел и Дерсу. Мы отправились налегке и захватили с собой только винтовки.
Гора была крутая. Раза два мы садились и отдыхали, потом опять лезли вверх. Кругом вся земля была изрыта. Дерсу часто останавливался и разбирал следы. По ним он угадывал возраст животных, пол их, видел следы хромого кабана, нашел место, где два кабана дрались и один гонял другого. С его слов все это я представил себе ясно. Мне казалось странным, как это раньше я не замечал следов, а если видел их, то, кроме направления, в котором уходили животные, они мне ничего не говорили.
Через час мы достигли вершины горы, покрытой осыпями. Здесь мы сели на камни и стали осматриваться.
— Посмотри, капитан, — сказал мне Дерсу, указывая на противоположный склон пади. — Что это такое?
Я взглянул в указанном направлении и увидел какое-то темное пятно. Я думал, что это тень от облака, и высказал Дерсу свое предположение. Он засмеялся и указал на небо. Я посмотрел вверх. Небо было совершенно безоблачным: на беспредельной его синеве не было ни одного облачка. Через несколько минут пятно изменило свою форму и немного передвинулось в сторону.
— Что это такое? — спросил я гольда в свою очередь.
— Тебе понимай нету, — отвечал он. — Надо ходи посмотрим.
Мы стали опускаться вниз. Скоро я заметил, что пятно тоже двигалось нам навстречу. Минут через десять гольд остановился, сел на камень и указал мне знаком, чтобы я сделал то же.
— Наша тут надо дожидай, — сказал он. — Надо тихо сиди, чего-чего ломай не надо, говори тоже не надо.
Мы стали ждать. Вскоре я опять увидел пятно. Оно возросло до больших размеров. Теперь я мог рассмотреть его составные части. Это были какие-то живые существа, передвигавшиеся с места на место.
— Кабаны! — воскликнул я. Действительно, это были дикие свиньи.
Их было тут более сотни. Некоторые животные отходили в сторону, но тотчас опять возвращались назад. Скоро можно было рассмотреть каждое животное отдельно.
— Один люди шибко большой, — тихонько проговорил Дерсу.
Я не понял, про какого «человека» он говорил, и посмотрел на него недоумевающе.
Посредине стада, как большой бугор, выделялась спина огромного кабана. Он превосходил всех своими размерами и, вероятно, имел пудов пятнадцать веса. Стадо приближалось с каждой минутой. Теперь ясно были слышны шум сухой листвы, взбиваемой сотнями ног, треск сучьев, резкие звуки, подаваемые самцами, хрюканье свиней и визг поросят.
— Большой люди близко ходи нету, — сказал Дерсу, и я опять его не понял.
Самый крупный кабан был в центре стада, множество животных бродило по сторонам, и некоторые отходили довольно далеко от табуна, так что, когда эти одиночные свиньи подошли к нам почти вплотную, большой кабан был еще вне выстрела. Мы сидели и не шевелились. Вдруг один из ближайших к нам кабанов поднял кверху свое рыло. Он что-то жевал. Я как сейчас помню большую голову, настороженные уши, свирепые глаза, подвижную морду с двумя носовыми отверстиями и белые клыки. Животное замерло в неподвижной позе, перестало есть и уставилось на нас злобными вопрошающими глазами. Наконец, оно поняло опасность и издало резкий крик. Вмиг все стадо с шумом и с фырканьем бросилось в сторону. В это мгновение грянул выстрел. Одно из животных грохнулось на землю. В руках у Дерсу дымилась винтовка. Еще несколько секунд в лесу был слышен треск ломаемых сучьев, затем все стихло.
Кабан, убитый гольдом, оказался двухгодовалой свиньей. Я спросил Дерсу, почему он не стрелял в секача.
— Его старый люди, — сказал он про кабана с клыками. — Его худо кушай, мясо мало-мало пахнет.
Меня поразило, что Дерсу кабанов называет «людьми». Я спросил его об этом.
— Его все равно люди, — подтвердил он, — только рубашка другой. Обмани понимай, сердись понимай, кругом понимай, — все равно как люди...
Для меня стало ясно. Этот первобытный зверобой очеловечивал окружающий животный мир.
На горе мы пробыли довольно долго. Незаметно кончился день. У облаков, столпившихся на западе, края светились так, точно они были из расплавленного металла. Сквозь них прорывались солнечные лучи и веерообразно расходились по небу.
Дерсу наскоро освежевал убитого кабана, взвалил его к себе на плечи, и мы пошли к дому. Через час мы были уже на биваке.
В китайских фанзах было тесно и дымно, поэтому я решил лечь спать на открытом воздухе вместе с Дерсу.
— Моя думай, — сказал он, поглядывая на небо, — ночью тепло будет, завтра вечером — дождь...
Я долго не мог уснуть. Всю ночь мне мерещилась кабанья морда с раздутыми ноздрями. Ничего другого, кроме этих ноздрей, я не видел. Они казались мне маленькими точками. Потом вдруг увеличивались в размерах... Это была уже не голова кабана, а гора, и ноздри — пещеры, и будто в пещерах опять кабаны, с такими же дырявыми мордами.
Три бивака
Утром я проснулся позже других. Первое, что мне бросилось в глаза, — отсутствие солнца. Все небо было в тучах. Заметив, что стрелки укладывают вещи так, чтобы их не промочил дождь, Дерсу сказал:
— Торопиться не надо. Наша днем хорошо ходи, вечером будет дождь.
Я спросил его, почему он думает, что днем дождя не будет.
— Тебе сам посмотри, — ответил гольд. — Видишь, маленькие птицы туда, сюда ходи, играй, кушай. Дождь скоро, — его тогда тихонько сиди, все равно спи.
Действительно, я вспомнил, что перед дождем всегда бывает тихо и сумрачно, а теперь — наоборот: лес жил полной жизнью; всюду перекликались дятлы, сойки и кедровки и весело посвистывали суетливые поползни.
Мы тронулись в путь. Мне хотелось поскорее добраться до корейской деревни и устроиться на ночь под крышу, но осенью в пасмурный день всегда смеркается рано. Часов в пять начал накрапывать дождь. Мы прибавили шагу. Скоро дорога разделилась надвое. Одна шла за реку, другая — как будто направлялась в горы. Мы выбрали последнюю. Потом стали попадаться еще другие дороги, пересекающие нашу в разных направлениях. Когда мы подходили к корейской деревне, было уже совсем темно.
Чтобы не беспокоить корейцев, мы разложили костры на берегу реки и начали ставить палатки. В стороне стояла старая развалившаяся фанза, а рядом с ней были сложены груды дров, заготовленных корейцами на зиму.
После чая я сел у огня и стал записывать в дневнике свои наблюдения. Дерсу разбирал свою котомку и поправлял костер.
— Мало-мало холодно, — сказал он, пожимая плечами.
— Иди спать в фанзу, — посоветовал я ему.
— Не хочу, — ответил он, — моя всегда так спи.
Затем Дерсу натыкал позади себя несколько ивовых прутьев и обтянул их полотнищем палатки, постлал на землю козью шкуру, сел на нее и, накинув себе на плечи кожаную куртку, закурил трубку. Через несколько минут я услышал легкий храп. Он спал. Голова его свесилась на грудь, руки опустились, погасшая трубка выпала изо рта и лежала на коленях... «И так всю жизнь, — подумал я. — Каким тяжелым трудом, ценою каких лишений добывал себе этот человек средства к жизни!..».
В стороне глухо шумела река; где-то за деревней лаяла собака; в одной из дальних фанз плакал ребенок. Я завернулся в бурку, лег спиной к костру и сладко уснул. Начался дождь...
На другой день чуть свет мы все были уже на ногах. В восемь часов утра мы выступили в путь.
Чем дальше, тем долина все более и более принимала характер луговой. По всем признакам видно было, что горы кончаются. Они отодвинулись куда-то далеко в сторону, и на место их выступили широкие и пологие увалы, покрытые кустарниковой порослью. Наша тропа стала подниматься влево, в горы, и увела нас от реки версты на четыре. В этот день мы немного не дошли до деревни Ляличи и заночевали в шести верстах от нее на берегу маленького и извилистого ручейка.
Вечером я сидел с Дерсу у костра и беседовал с ним о дальнейшем маршруте по р. Лефу. Мне очень хотелось взглянуть на озеро Ханка, воспетое Пржевальским. Гольд говорил, что далее пойдут обширные болота и бездорожье, и советовал плыть на лодке, а лошадей и часть команды оставить в Ляличах.
Совет его был вполне благоразумный. Я последовал ему и только изменил местопребывание стрелков.
На другое утро я взял с собой лишь Олентьева и стрелка Марченко, а остальных отправил в село Черниговку с наказом дожидаться там моего возвращения. Нам очень скоро удалось заполучить плоскодонку. Весь день был употреблен на оборудование лодки. Дерсу сам приспособлял весла, устраивал из колышков уключины, налаживал сидения и готовил шесты. Я любовался, как работа у него в руках спорилась и кипела. Он никогда не суетился, все действия его были обдуманы, последовательны и ни в чем не было проволочек.
Случайно в одной избе нашлись готовые сухари. А больше нам ничего и не надо было. Все остальное — чай, сахар, соль, крупу и консервы — мы имели в достаточном количестве. В тот же вечер, по совету гольда, все имущество было перенесено в лодку, а сами мы остались ночевать на берегу.
Ночь выпала ветреная и холодная. За недостатком дров большого огня развести было нельзя, и потому все зябли и почти не спали. Как я ни старался завернуться в бурку, но холодный ветер находил где-нибудь лазейку и знобил то плечо, то бок, то спину. Дрова были плохие, они трещали и бросали во все стороны искры. У Дерсу прогорело одеяло. Сквозь дремоту я слышал, как он ругал полено, называя его по-своему «худой люди».
— Его постоянно так гори — все равно кричи, — говорил он кому-то и при этом изобразил своим голосом, как трещат дрова. — Его надо гоняй.
После этого я слышал всплеск на реке и шипение головешки. Очевидно, гольд бросил ее в воду. Потом мне удалось согреться, и я уснул.
Ночью я проснулся и увидел Дерсу сидящим у костра. Гольд поправлял огонь. Ветер раздувал пламя во все стороны. Поверх бурки на мне лежало одеяло гольда. Значит, это он прикрыл меня, вот почему я и согрелся. Стрелки тоже поверх шинелей были прикрыты его палаткой. Я предложил Дерсу лечь на мое место, но он отказался.
— Не надо, капитан, — сказал он. — Тебе спи, моя буду караулить огонь. Его шибко вредный, — и он указал на дрова.
На лодке по реке Лефу
Когда совсем рассвело, Дерсу разбудил нас. Он согрел чай и изжарил мясо. После завтрака я отправил стрелков с лошадьми в Черниговку, затем мы спустили лодку в воду и тронулись в путь.
Подгоняемая шестами, лодка наша хорошо шла по течению. Верст через пять мы достигли железнодорожного моста и остановились на отдых. Дерсу рассказал, что в этих местах он бывал еще мальчиком с отцом.
После краткого отдыха мы поплыли дальше. Около железнодорожного моста горы кончились. Я вышел из лодки и поднялся на ближайшую сопку, чтобы в последний раз осмотреться во все стороны. Красивая панорама развернулась перед моими глазами. Сзади, на востоке, толпились горы; на юге были пологие холмы, поросшие лиственным редколесьем; на севере, насколько хватал глаз, расстилалось бесконечное низменное пространство, покрытое травой. Сколько я ни напрягал зрение, я не мог увидеть конца этой низины. Она уходила вдаль и скрывалась где-то за горизонтом. Порой по ней пробегал ветер.
Низина эта казалась безжизненной и пустынной. Ярко блестевшие на солнце в разных местах лужи свидетельствовали о том, что долина р. Лефу в дождливый период года затопляется водой. К полудню мы доехали еще до одной возвышенности, расположенной на самом берегу реки с левой стороны. Сопка эта, высотою 60—70 саж., покрыта редколесьем из дуба, березы, липы, клена, ореха и акации.
Во вторую половину дня мы проехали еще столько же и расположились биваком довольно рано.
Долгое сиденье в лодке наскучило, и потому всем хотелось выйти и размять онемевшие члены. Меня тянуло в поле. Олентьев и Марченко принялись устраивать бивак, а мы с Дерсу пошли на охоту.
С первого же шага буйные травы охватили нас со всех сторон. Они были так высоки и так густы, что человек в них казался утонувшим. Внизу, под ногами, — трава; спереди и сзади — трава; с боков — тоже трава, и только вверху — голубое небо. Казалось, что мы шли по дну травяного моря. Это впечатление становилось еще сильнее, когда, взобравшись на какую-нибудь кочку, я видел, как степь волновалась. С робостью и опаской я опять погружался в траву и шел дальше. В этих местах так же легко заблудиться, как в лесу.
Мы несколько раз сбивались с дороги, но тотчас же спешили исправить свои ошибки. Найдя какую-нибудь кочку, я взбирался на нее и старался рассмотреть что-нибудь впереди. Дерсу хватал полынь руками и пригибал ее к земле. Я смотрел вперед, в стороны, и всюду передо мной расстилалось бесконечное волнующееся травяное море.
Главное население этих болотистых степей — пернатое. Кто не бывал в низовьях р. Лефу во время перелета, тот не может себе представить, что там происходит.
Тысячи тысяч птиц большими и малыми стаями тянулись к югу. Некоторые шли в обратном направлении, другие — наискось, в сторону. Вереницы их то подымались кверху, то опускались вниз, и все разом, ближние и дальние, мелькали на фоне неба, в особенности внизу, около горизонта, который вследствие этого казался затянутым паутиной.
Выше всех были орлы. Распластав свои могучие крылья, они парили, описывая большие круги. Ниже их, но все же высоко над землей, летели гуси. Эти осторожные птицы шли правильными косяками и, тяжело, вразброд махая крыльями, оглашали воздух своими сильными криками. Рядом с ними летели казарки и лебеди. Внизу, ближе к земле, с шумом неслись торопливые утки. Тут были стаи грузной кряквы, которую легко можно было узнать по свистящему шуму, издаваемому ее крыльями. Совсем над водою тысячами летели чирки и другие мелкие утки.
Там и сям в воздухе виднелись канюки и пустельга. Грациозные и подвижные чайки и изящные проворные крачки своей снежной белизной мелькали в синеве лазурного неба. Кроншнепы летели легко, плавно и при полете своем делали удивительно красивые повороты. Остроклювые крохали на лету посматривали по сторонам, точно выискивали место, где бы им можно было остановиться. Сивки-моряки держались болотистых низин. Лужи стоячей воды, видимо, служили для них вехами, по которым они и держали направление. И вся эта масса птиц неслась к югу.
Вдруг совершенно неожиданно перед нами пробежали две козули. Они были от нас шагах в шестидесяти. В густой траве их почти не было видно — мелькали только головы с растопыренными ушами и белые пятна около задних ног. Отбежав шагов полтораста, козули остановились. Я выпалил из ружья — и промахнулся. Раскатистое эхо подхватило звук выстрела и далеко разнесло его по реке. Тысячи птиц поднялись от воды и с криками полетели во все стороны. Испуганные козули сорвались с места и снова пошли большими прыжками. Тогда прицелился Дерсу. И в тот момент, когда голова одной из них показалась над травою, он спустил курок. Когда дым рассеялся, животных уже не было видно. Гольд снова зарядил свою винтовку и не торопясь пошел вперед. Я молча последовал за ним. Дерсу огляделся, потом повернулся назад, пошел в сторону и опять вернулся обратно. Видно было, что он что-то искал.
— Кого ты ищешь? — спросил я его.
— Козулю, — ответил гольд.
— Да ведь она ушла...
— Нет, — сказал он уверенно. — Моя в голову его попади.
Я принялся тоже искать убитое животное, хотя и не совсем верил гольду. Мне казалось, что он ошибся. Минут через десять мы нашли козулю. Голова ее оказалась действительно простреленной. Дерсу взвалил ее себе на плечи и тихонько пошел обратно. На бивак мы возвратились уже в сумерки.
После ужина Дерсу и Олентьев принялись свежевать козулю, а я занялся своей работой.
На следующий день мы встали довольно рано, наскоро напились чаю, уложили свои пожитки в лодку и поплыли вниз по Лефу. Чем дальше, тем извилистее становилась река.
Течение становилось медленнее. Шесты, которыми мои спутники проталкивали лодку вперед, упираясь в дно реки, часто вязли, и настолько крепко, что вырывались из рук.
Почва около берегов более или менее твердая, но стоит только отойти немного в сторону, как сразу попадешь в болото. Среди зарослей скрываются длинные озерки. К вечеру мы немного не дошли до р. Черниговки и стали биваком на узком перешейке между ней и небольшой протокой.
Сегодня был особенно сильный перелет. Олентьев убил несколько уток, которые и составили нам превосходный ужин. Когда стемнело, все птицы прекратили свой лет. Кругом сразу водворилась тишина. Можно было подумать, что степи эти совершенно безжизненны, а, между тем, не было ни одного озерка, ни одной заводи, ни одной протоки, где не ночевали бы стаи лебедей, гусей, крохалей, уток и другой водяной птицы.
Вечером Марченко и Олентьев улеглись спать раньше нас, а мы с Дерсу, по обыкновению, сидели и разговаривали. Забытый на огне чайник настойчиво напоминал о себе шипением. Дерсу отставил его немного, но чайник продолжал гудеть. Дерсу отставил его еще, но чайник все же продолжал гудеть. Дерсу отставил его еще дальше. Тогда чайник запел тоненьким голосом.
— Как его кричи, — сказал Дерсу. — Худой люди.
Он вскочил и вылил горячую воду на землю.
— Как «люди»? — спросил я его в недоумении.
— Вода, — отвечал он просто. — Его могу кричи, могу плакать, могу тоже играй.
И долго еще говорил этот первобытный человек о своем мировоззрении. Он представлял себе живую силу в воде, — и в тихом течении ее, и во время наводнений.
— Посмотри, — сказал Дерсу, указывая на огонь. — Его тоже все равно люди.
Я взглянул на костер. Дрова искрились и трещали. Огонь вспыхивал то длинными, то короткими языками, то становился ярким, то тусклым; из углей слагались замки, гроты; потом все это разрушалось и созидалось вновь. Дерсу умолк, а я долго сидел и смотрел на «живой огонь».
В реке шумно всплеснула рыба. Я вздрогнул и посмотрел на Дерсу. Он сидел и дремал. В степи по-прежнему было тихо. Звезды на небе показывали полночь. Подбросив дров в костер, я разбудил гольда, и мы оба стали укладываться на ночь.
На следующий день мы все проснулись очень рано.
Как только начала заниматься заря, пернатое царство поднялось на воздух, и с шумом и гамом снова понеслось к югу. Первыми снялись гуси, за ними пошли лебеди, потом утки, и уже последними тронулись остальные перелетные птицы. Сначала они низко летели над землею, но по мере того, как становилось светлее, поднимались все выше и выше.
До восхода солнца мы успели отплыть от бивака верст восемь и дошли до горы Чайдынза, покрытой ильмом и осиной. Здесь долина реки Лефу достигает шириной более сорока верст. С левой стороны ее на огромном протяжении тянутся сплошные болота. Лефу разбивается на множество рукавов, которые имеют десятки верст длины. Рукава разбиваются на протоки и в свою очередь дают ответвления. Эти протоки тянутся широкой полосой по обе стороны реки и образуют такой лабиринт, в котором очень легко заблудиться, если не держаться главного русла и польститься на какой-нибудь рукав в надежде сократить расстояние.
Мы плыли по главному руслу и только в случае крайней нужды сворачивали в сторону с тем, чтобы при первой же возможности выйти на реку снова. Протоки эти, заросшие лозой и камышами, совершенно скрывали нашу лодку. Мы подвигались тихо и нередко подходили к птицам ближе, чем на ружейный выстрел. Иногда мы задерживались нарочно и подолгу рассматривали их.
Прежде всего, я заметил белую цаплю с черными ногами и желто-зеленым клювом. Она чинно расхаживала около берега, покачивала в такт головой и внимательно рассматривала дно реки. Заметив лодку, птица подпрыгнула два раза, грузно поднялась на воздух и, отлетев немного, снова опустилась на соседней протоке.
Потом мы увидели выпь. Серовато-желтая окраска перьев, грязно-желтый клюв, желтые глаза и такие же желтые ноги делают ее удивительно непривлекательной. Эта угрюмая птица ходила сгорбившись по песку и все время преследовала подвижного и хлопотливого кулика-сороку. Кулик отлетал немного, и как только садился на землю, выпь тотчас же направлялась туда шагом; когда подходила близко, бросалась бегом, стараясь ударить его своим острым клювом. Заметив лодку, выпь забилась в траву, вытянула шею и, подняв голову кверху, замерла на месте. Когда лодка проходила мимо, Марченко выстрелил в выпь, но не попал, хотя пуля прошла так близко, что задела рядом с ней камышины. Выпь не шелохнулась.
Дерсу рассмеялся.
— Его шибко хитрый люди. Постоянно так обмани, — сказал он.
Действительно, теперь выпь нельзя уже было заметить. Окраска ее оперения и поднятый кверху клюв совершенно затерялись в траве.
Дальше мы увидели опять новую картину. Низко над водой, около берега, на ветке лозняка уединенно сидел зимородок. Эта маленькая птичка с большой головой и большим клювом, казалось, дремала. Вдруг она ринулась в воду, нырнула и снова показалась на поверхности, держа в клюве маленькую рыбку. Проглотив добычу, зимородок сел на ветку и опять погрузился в дремоту, но, услышав шум приближающейся лодки, с криком понесся вдоль реки. Яркой синевой мелькнуло его оперение. Отлетев немного, он опять уселся на куст, потом отлетел еще дальше и, наконец, совсем скрылся за поворотом реки.
Раза два мы встречали болотных курочек-лысух. Эти черные, ныряющие птички с длинными тонкими ногами легко и свободно ходили по листьям водяных растений, но в воздухе казались беспомощными. Видно было, что это не их родная стихия.
Погода нам благоприятствовала. Стоял один из тех теплых осенних дней, которые так часто бывают в Южно-Уссурийском крае в октябре. Небо было совершенно безоблачное, ясное; легкий ветерок тянул с запада. Такая погода бывает часто обманчива, и нередко после нее начинают дуть холодные северо-западные ветры; чем дольше стоит такая тишь, тем резче будет перемена. Часов в одиннадцать утра мы сделали большой привал около реки Люганки. Во вторую половину дня мы прошли еще верст двенадцать и стали биваком на одном из многочисленных островов.
В этот день мы имели случай наблюдать на востоке теневой сегмент земли. Вечерняя заря переливалась особенно яркими красками. Сначала она была бледная, потом стала изумрудно-зеленой, и по этому зеленому фону, как расходящиеся столбы, поднялись из-за горизонта два светло-желтых луча. Через несколько минут лучи пропали. Зеленый свет зари сделался оранжевым и потом — красным. Самое последнее явление заключалось в том, что багрово-красный горизонт стал темным, словно от дыма. Одновременно с закатом солнца на востоке появился теневой сегмент земли. Одним концом он касался северного горизонта, другим — южного. Внешний край этой тени был пурпуровый, и чем ниже спускалось солнце, тем выше поднимался теневой сегмент. Скоро пурпуровая полоса слилась с красной зарей на западе, и тогда наступила темная ночь.
Я смотрел и восторгался, но в это время услышал, что Дерсу ворчит:
— Понимай нету.
Я догадался, что это замечание относилось ко мне, и спросил его, в чем дело.
— Это худо, — сказал он, указывая на небо. — Моя думай, будет большой ветер.
Вечером мы недолго сидели у огня. Утром мы встали рано, за день утомились и поэтому, как только поужинали, тотчас же легли спать. Предрассветный наш сон был какой-то тяжелый. Во всем теле чувствовались истома и слабость, движения были вялые. Так как это состояние ощущалось всеми одинаково, то я испугался, думая, что мы заболели лихорадкой или чем-нибудь отравились, но Дерсу успокоил меня, сказав, что это всегда бывает при перемене погоды.
Нехотя мы поели и нехотя поплыли дальше. Погода была теплая, ветра не было совершенно; камыши стояли неподвижно и как будто дремали. Дальние горы, виденные нами ясно, теперь совсем утонули во мгле. По бледному небу протянулись тонкие растянутые облачка, а около солнца появились венцы. Я заметил, что кругом уже не было такой жизни, как накануне. Куда-то исчезли и гуси, и утки, и все мелкие птицы.
По словам Дерсу, птицы любят двигаться против ветра. При полном штиле и во время теплой погоды они сидят на болотах. Если ветер дует им вслед, они зябнут, потому что холодный воздух проникает под перья. Тогда птицы прячутся в траве. Только неожиданное выпадение снегов может принудить пернатых лететь дальше, невзирая на ветер и стужу.
На озере Ханка
Чем ближе мы подвигались к озеру Ханка, тем болотистее становилась равнина. Деревья по берегам проток исчезли, и их место заняли редкие тощие кустарники. Замедление течения в реке тотчас сказалось на растительности.
Появились лилии, кувшинки, курослеп, водяной орех и т. п. Иногда заросли травы были так густы, что лодка не могла пройти сквозь них, и мы вынуждены были делать большие обходы.
С каждым днем ориентировка становилась все труднее и труднее.
Раньше по деревьям можно было далеко проследить реку, теперь же нигде не было даже кустов; вследствие этого на несколько сажен вперед нельзя было сказать, куда свернет протока: влево или вправо.
Предсказание Дерсу сбылось. В полдень начал дуть ветер с юга. Он постепенно усиливался и в то же время менял направление к западу. Гуси и утки снова поднялись на воздух и полетели низко над землею.
В одном месте было много плавникового леса, принесенного сюда во время наводнений. На р. Лефу этим пренебрегать нельзя, иначе рискуешь заночевать без дров. Через несколько минут стрелки разгружали лодку, а Дерсу раскладывал огонь и ставил палатку.
До озера Ханка оставалось немного, но для того, чтобы достигнуть его на лодке, нужно было пройти еще верст пятнадцать, а напрямик, целиною, — не более двух с половиной или трех верст. Было решено, что завтра мы, вместе с Дерсу, пойдем пешком и к сумеркам вернемся назад. Олентьев и Марченко должны были остаться на биваке и ждать нашего возвращения.
Вечером у всех было много свободного времени. Мы сидели у костра, пили чай и лениво разговаривали. Сухие дрова горели ярким пламенем. Камыши качались и шумели, и от этого шума ветер казался сильнее, чем он был на самом деле. На небе лежала мгла, и сквозь нее чуть-чуть только виднелись крупные звезды.
На другой день, часов в десять утра, сделав нужные распоряжения, мы с Дерсу отправились в путь. Полагая, что к вечеру возвратимся назад, мы пошли налегке, оставив все лишнее на биваке. На всякий случай под тужурку я надел фуфайку, а гольд захватил с собой полотнище палатки и две пары меховых чулок.
По дороге он часто посматривал на небо, что-то говорил сам с собою и затем обратился ко мне с вопросом:
— Как, капитан, наша скоро назад ходи или нет? Моя думай, ночью будет худо.
Я ответил ему, что до озера Ханка недалеко и что задерживаться мы там не будем.
Дерсу был сговорчив. Его всегда можно было легко уговорить. Он считал своим долгом предупредить об угрожающей опасности, и если видел, что его не слушают, покорялся, шел молча и никогда не спорил.
— Хорошо, капитан, — сказал он мне в ответ. — Тебе сам посмотри, а моя — «как ладно, так и ладно». — Последняя фраза была обычной формой выражения им своего согласия.
Идти можно было только по берегам протоков и озерков, где почва была немного суше. Мы направились левым берегом той протоки, около которой был расположен наш бивак. Она долгое время шла в желательном для нас направлении, но потом вдруг круто повернула назад. Мы оставили ее и, перейдя через болотце, вышли к другой, узкой, но очень глубокой протоке. Перепрыгнув через нее, мы снова пошли камышами. Затем я помню, что еще другая протока появилась у нас слева, — мы направились по правому ее берегу. Заметив, что она загибается к югу, мы бросили ее и некоторое время шли целиной, обходя лужи стоячей воды и прыгая с кочки на кочку. Так, вероятно, прошли мы версты три. Наконец, я остановился, чтобы ориентироваться. Теперь ветер дул с севера, как раз со стороны озера. Тростник сильно качался и шумел. Порой ветер пригибал его к земле, и тогда являлась возможность разглядеть то, что было впереди. Северный горизонт был затянут какой-то мглой, похожей на дым. Сквозь тучи на небе неясно просвечивало солнце, и это казалось мне хорошим предзнаменованием. Наконец, мы увидели озеро Ханка. Оно пенилось и бурлило.
Дерсу обратил мое внимание на птиц. Он заметил у них что-то такое, что начало его беспокоить. Это не был спокойный перелет, это было торопливое бегство. Птица, как говорят охотники, шла валом и в беспорядке. Гуси летели низко, почти над самой землей. Странный вид имели они, когда двигались нам навстречу и находились на линии зрения. В это время они были похожи на древних летучих ящеров. Ни ног, ни хвоста не было видно, — виднелось что-то кургузое, машущее длинными крыльями и приближающееся с невероятной быстротой. Увидев нас, гуси сразу взмывали кверху, но, обойдя опасное место, опять выстраивались в прежнем порядке и снова снижались.
Около полудня мы с Дерсу дошли до озера Ханка. Грозный вид имело теперь это пресное море. Вода в нем кипела, как в котле. После долгого пути по травяным болотам вид свободной водяной стихи доставлял большое удовольствие. Я сел на песок и стал глядеть в воду.
Озеро было пустынно. Нигде ни одного паруса, ни одной лодки.
— Утка кончай ходи, — произнес Дерсу.
Действительно, перелет птиц сразу прекратился.
Черная мгла, которая прежде была у горизонта, вдруг стала подниматься кверху. Солнца теперь уже совсем не было видно. По темному небу, покрытому тучами, точно вперегонки бежали отдельные белесоватые облака. Края их были разорваны и висели клочьями, словно грязная вата.
— Капитан, надо наша скоро ходи назад, — сказал Дерсу. — Моя мало-мало боится.
В самом деле, пора было подумать о возвращении на бивак. Мы переобулись и пошли обратно. Дойдя до зарослей, я остановился, чтобы в последний раз взглянуть на озеро. Точно разъяренный зверь на привязи, оно металось в своих берегах и вздымало кверху желтоватую пену.
— Вода прибавляй есть, — сказал Дерсу, осматривая протоку.
Он был прав. Сильный ветер гнал воду к устью Лефу, вследствие чего река вышла из берегов и понемногу стала затоплять равнину. Вскоре мы подошли к какой-то большой протоке, преграждавшей нам путь. Место это мне показалось незнакомым. Дерсу тоже не узнал его, остановился, подумал немного и пошел влево. Протока стала поворачивать и ушла куда-то в сторону. Мы оставили ее и пошли напрямик к югу. Через несколько минут мы попали в топь и должны были возвратиться назад к протоке. Тогда мы повернули направо, наткнулись на новую протоку и перешли ее вброд. Отсюда мы пошли на восток, но попали в трясину. В одном месте мы нашли сухую полоску земли. Как мост, тянулась она через болото. Ощупывая почву ногами, мы осторожно пробирались вперед и, пройдя с полверсты, очутились на сухом месте, густо заросшем травой.
Я взглянул на часы. Было около четырех часов пополудни, а, казалось, как будто наступили уже сумерки. Тяжелые тучи опустились ниже и быстро неслись к югу. По моим соображениям, до реки оставалось не более двух с половиной верст. Одинокая сопка вдали, против которой был наш бивак, служила нам ориентировочным пунктом. Заблудиться мы не могли, могли только запоздать.
Вдруг совершенно неожиданно перед нами очутилось довольно большое озеро. Мы решили его обойти. Но оно оказалось длинным. Тогда мы пошли влево. Шагов через полтораста перед нами появилась новая протока, идущая к озеру под прямым углом. Мы бросились в другую сторону, но вскоре опять подошли к тому же зыбучему болоту. Тогда я решил еще раз попытать счастья в правой стороне.
Скоро под ногами стала хлюпать вода; дальше виднелись большие лужи. Стало ясно, что мы заблудились. Дело принимало серьезный оборот. Я предложил гольду вернуться назад и разыскать тот перешеек, который привел нас на этот остров. Дерсу согласился. Мы пошли обратно, но вторично его найти уже не могли.
Вдруг ветер сразу упал. Издали донесся до нас шум озера Ханка. Начало смеркаться, и одновременно с тем в воздухе закружилось несколько снежинок. Штиль продолжался всего только несколько минут, и вслед затем налетел вихрь. Снег пошел сильнее.
«Придется ночевать», — подумал я и вдруг вспомнил, что на этом острове нет дров: ни единого деревца, ни единого кустика, — ничего, кроме воды и травы. Я испугался.
— Что будем делать? — спросил я Дерсу.
— Моя шибко боится, — отвечал он.
Тут только я понял весь ужас нашего положения. Ночью, во время пурги, нам приходилось оставаться среди болот, без огня и без теплой одежды. Единственная моя надежда была на Дерсу. В нем одном я видел свое спасение.
— Слушай, капитан, — сказал он, — хорошо слушай. Надо наша скоро работай. Хорошо работай нету — наша пропал. Надо скоро резать траву.
Я не спрашивал его зачем это было нужно. Для меня было только одно понятно: надо скорей резать траву. Мы быстро сняли с себя все снаряжение и с лихорадочной поспешностью принялись за работу. Пока я собирал такую охапку травы, что ее можно было взять в одну руку, Дерсу успевал нарезать столько, что еле охватывал двумя руками. Ветер дул порывами и с такой силой, что стоять на ногах было почти невозможно. Моя одежда стала смерзаться. Едва успевали мы положить на землю срезанную траву, как сверху ее тотчас же заносило снегом. В некоторых местах Дерсу не велел резать траву. Он даже сердился, когда я его не слушал.
— Тебе понимай нету! — кричал он. — Тебе надо слушай и работай. Моя понимай.
Дерсу взял ремни от ружей, взял свой пояс, у меня в кармане нашлась веревочка. Все это он свернул и сунул к себе за пазуху.
Становилось все темнее и холоднее. Благодаря выпавшему снегу можно было кое-что еще рассмотреть на земле. Дерсу двигался с поразительной энергией. В голосе его слышались нотки страха и негодования. Тогда я снова брался за нож и работал до изнеможения. На рубашку мне навалилось много снегу. Он стал таять, и я почувствовал, как холодные струйки воды побежали по спине. Я думаю, что мы резали траву более часа. Резкий, пронзительный ветер и колючий снег нестерпимо резали лицо. У меня озябли руки. Я стал согревать их дыханием и в это время обронил нож. Заметив, что я перестал работать, Дерсу вновь крикнул мне.
— Капитан, работай! Моя шибко боится! Скоро пропади!
Я сказал, что потерял нож.
— Рви траву руками! — крикнул он, стараясь перекричать шум ветра.
Автоматически, почти бессознательно я стал ломать камыши и порезал руки, но боялся оставить работу и продолжал рвать траву до тех пор, пока окончательно не обессилел. В глазах у меня начали ходить круги, зубы стучали, как в лихорадке, намокшая одежда коробилась и трещала. На меня напала дремота. «Так вот как замерзают», — мелькнуло у меня в го- лове, и вслед затем я впал в какое-то забытье. Сколько времени продолжалось это обморочное состояние, не знаю. Вдруг я почувствовал, что меня кто-то трясет за плечо. Я очнулся. Надо мною наклонившись стоял Дерсу.
— Становись на колени, — сказал он мне.
Я повиновался и уперся руками в землю. Дерсу накрыл меня своей палаткой, а затем сверху стал заваливать травой. Сразу стало теплее. Закапала вода. Дерсу долго ходил вокруг, подгребал снег и утаптывал его ногами. Я начал согреваться, потом впал в тяжелое дремотное состояние. Мне показалось, что я долго спал. Вдруг я услышал голос Дерсу:
— Капитан, подвинься...
Я сделал над собой усилие и прижался в сторону. Гольд вполз под палатку, лег рядом со мной и стал покрывать нас обоих своей кожаной курткой. Я протянул руку и нащупал на ногах у себя знакомую мне меховую обувь.
— Спасибо, Дерсу, — говорил я ему. — Покрывайся сам.
— Ничего, ничего, капитан, — отвечал он, — теперь бояться не надо. Моя крепко трава вяжи. Ветер ломай не могу.
Чем больше засыпало нас снегом, тем теплее становилось в нашем импровизированном шалаше. Капанье сверху прекратилось. Снаружи доносилось завывание ветра. Точно где-то гудели гудки, звонили в колокола. Потом мне стали грезиться какие-то пляски, песни, куда-то я медленно падал все ниже и ниже и, наконец, погрузился в долгий и глубокий сон... Так, вероятно, мы проспали часов двенадцать. Когда я проснулся, было темно и тихо. Вдруг я заметил, что лежу один.
Я поспешно вылез наружу и невольно закрыл глаза рукой. Кругом все белело от снега. Воздух был свежий, прозрачный. Морозило. По небу плыли разорванные облака; кое-где виднелось синее небо. Хотя кругом было еще хмуро и сумрачно, но уже чувствовалось, что скоро выглянет солнце. Прибитая снегом трава лежала полосами. Дерсу собрал немного сухой ветоши, развел небольшой огонек и сушил на нем мои обутки.
Теперь я понял, почему Дерсу в некоторых местах не велел резать траву. Он скрутил ее и при помощи ремней и веревок перетянул верх шалаша, чтобы его не разметало ветром. Первое, что я сделал, это — поблагодарил Дерсу за спасение.
— Сегодня ночью много люди пропади.
Я понял, что «люди», о которых говорил Дерсу, были пернатые.
После этого мы разобрали травяной шатер, взяли ружья и пошли снова искать перешеек. Оказалось, что наш бивак был очень близко от него. Перейдя через болото, мы прошли немного по направлению к озеру Ханка, а потом свернули на восток к р. Лефу.
После пурги степь казалась безжизненной и пустынной. Гуси, утки, чайки, крохали, — все это куда-то исчезло. По буро-желтому фону большими пятнами белели болота, покрытые снегом. Идти было хорошо: мокрая земля подмерзла и выдерживала тяжесть ноги человека. Скоро мы вышли на реку, а через час были на биваке.
Олентьев и Марченко не беспокоились о нас. Они думали, что около озера Ханка мы нашли жилье и остались там ночевать. Я переобулся, напился чаю, лег у костра и крепко заснул. По другую сторону огня спал Дерсу.
На следующий день утром ударил крепкий мороз. Вода всюду замерзла, по реке шла шуга. Переправа через протоки Лефу отняла у нас целый день. Мы часто попадали в слепые рукава и должны были возвращаться назад. Пройдя длинной протокой версты две, мы свернули в соседнюю. Она оказалась узкой и извилистой. Там, где эта извилистая протока опять соединялась с главным руслом, высилась отдельная коническая сопка, покрытая порослью дубняка. Здесь мы и заночевали. Это был последний наш бивак. Отсюда следовало идти походным порядком в Черниговку, где нас ожидали остальные люди с конями.
Уходя с бивака, Дерсу просил Олентьева помочь ему вытащить лодку на берег. Он старательно очистил ее от песка и обтер травою, затем перевернул ее вверх дном и поставил на катки. Я уже знал, что это делается для того, чтобы какой-нибудь «люди» мог в случае нужды ею воспользоваться.
Утром мы распрощались с рекой Лефу. В тот же день после полудня пришли в деревню Дмитровку, расположенную по другую сторону Уссурийской железной дороги.
В деревне мы встали по квартирам, но гольд не хотел идти в избу, — он, по обыкновению, остался ночевать под открытым небом. Вечером я соскучился о нем и пошел его искать.
Ночь была хотя и темная, но, благодаря выпавшему снегу, можно было кое-что рассмотреть. Во всех избах топились печи. Беловатый дым струйками выходил из труб и спокойно подымался кверху. Вся деревня курилась. Из окон домов выходил свет на улицу и освещал сугробы. В другой стороне, «на задах», около ручья виднелся огонь. Я догадался, что это бивак Дерсу, и направился прямо туда. Гольд сидел у костра, о чем-то думая.
— Пойдем в избу чай пить, — сказал я ему.
Он не ответил мне, и, в свою очередь, задал вопрос:
— Куда завтра ходи?
Я ответил, что пойдем в Черниговку, а оттуда — во Владивосток, и стал приглашать его с собой. Я обещал в скором времени опять пойти в тайгу, предлагал жалованье... Мы оба задумались. Не знаю, что думал он, но я почувствовал, что в сердце мое закралась тоска. Я стал снова рассказывать ему про удобства и преимущества жизни в городе. Дерсу слушал молча. Наконец, он вздохнул и проговорил:
— Нет, спасибо, капитан. Моя Владивосток не могу ходи. Чего моя там работай? Охота нету, соболя гоняй тоже не могу. Город живи — моя скоро пропади.
«В самом деле, — подумал я. — Житель лесов не выживет в городе, и не делаю ли я худа, что сбиваю его с того пути, на который он встал с детства»...
Дерсу замолчал. Он, видимо, обдумывал, что делать ему дальше. Потом, как бы отвечая на свои мысли, сказал:
— Завтра моя прямо ходи. — Он указал рукою на восток. — Четыре солнца ходи. Моя слыхал, там, на морской стороне, чего-чего много: соболь есть, олень тоже есть.
Долго мы еще сидели с ним у огня и разговаривали. Ночь была тихая и морозная. Изредка набегающий ветерок чуть шелестел дубовой листвою, еще не опавшей на землю. В деревне давно уже все спали, только в том доме, где поместился я вместе со стрелками, светился огонек. Созвездие «Ориона» показывало полночь. Наконец, я встал, попрощался с гольдом, пошел к себе в избу и лег спать. Непонятная тоска овладела мною. За это короткое время я успел привязаться к Дерсу. Теперь мне жаль было с ним расставаться. С этими мыслями я задремал.
На следующее утро первое, что я вспомнил, это то, что Дерсу должен уйти от нас. Напившись чаю, я поблагодарил хозяев и вышел на улицу. Мои товарищи были уже готовы к выступлению, Дерсу был тоже с ними. С первого же взгляда я увидел, что он снарядился в далекий путь. Котомка его была плотно уложена, пояс затянут, унты хорошо надеты.
Отойдя от Дмитровки с версту, Дерсу остановился. Настал тяжелый момент расставания.
— Прощай, Дерсу, — сказал я ему, пожимая руку, — желаю тебе всего хорошего. Я никогда не забуду того, что ты для меня сделал. Прощай. Быть может, когда-нибудь увидимся.
Дерсу попрощался с моими спутниками, затем кивнул мне головой и пошел в кусты налево. Мы остались на месте и смотрели ему вслед. В ста саженях от нас высилась небольшая горка, поросшая мелким кустарником. Минут через пять он дошел до нее. На светлом фоне неба отчетливо вырисовывалась его фигура с котомкой и ружьем за плечами и с сошкой в руке. В этот момент яркое солнце взошло из-за гор, осветив гольда. Поднявшись на гривку, он остановился, повернулся к нам лицом, помахал рукой и скрылся за гребнем. Словно что-то оторвалось у меня в груди. Я почувствовал, что потерял близкого мне человека.
— Хороший он человек, — сказал Марченко.
— Да, таких людей мало — ответил ему Олентьев.
«Прощай, Дерсу, — думал я. — Ты спас мне жизнь... Я никогда не забуду этого...».
К сумеркам мы дошли до Черниговки и присоединились к отряду. Вечером в тот же день я выехал во Владивосток к месту своей постоянной службы.
Приложение 4
Тексты для чтения, диктантов и изложений.
Принято считать, что курс ОБЖ родился в 1991 году. Как самостоятельный курс - да. Но в рамках отдельных дисциплин те или иные вопросы безопасности преподавались и раньше. Кому-то может показаться удивительным, тем не менее, они затрагивались не только на таких, напрямую касающихся ОБЖ уроков, как физика, химия, гeография, природоведение , но даже в ходе изучения русского языка и литературы.
Подтверждением тому могут служить методические материалы, подготовленные еще в 1980 году специалистами ВОСВОДа. Они были предназначены для использования при проведении различных школьных мероприятий, а также в качестве текстов для чтения и диктантов. Эти материалы не потеряли своей актуальности. Надеемся, они сослужат добрую службу школьным педагогам и учащимся и сегодня.
Для диктанта в 3-4 кл.
Муравей и голубка
Муравей спустился к ручью. Он захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не потопила. Голубка несла ветку. Вдруг она увидела, что муравей тонет. Голубка бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на го - лубку и хотел ее поймать. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу. Охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.
(По Л. Толстому)
Шалить в воде - быть беде!
Ты любишь купаться?! Это очень хорошо. Вода укрепляет здоровье, закаливает организм, доставляет удовольствие. Но с водой нужно быть осторожным. Не надо шалить в воде, в шутку «топить» товарищей, цепляться за их ноги. И нырять в незнакомых местах тоже не следует. Все это может привести к несчастью.
Клим Самгин (на катке)
Пятеро ребят пошли на речной каток. Они перелезли через ограждение и покатили по речному льду. Под двумя первыми детьми лед провалился, и они оказались в воде. Девочка сразу захлебнулась, но успела схватить за ноги еще барахтавшегося мальчика. Подоспевший Клим подполз к пролому и бросил товарищу ремень. Мальчик поймал конец ремня, потянул - и вместе с ремнем потащил к воде более легкого Клима. Клим испугался и выпустил ремень из рук. Рядом не было никого из взрослых. Дети утонули.
(По М. Горькому)
Для диктанта в 4- 5 кл.
И ближняя дорога далека бывает
Вот и март. С утра еще подмораживает, а днем уже тепло. Появились лужи, почернели дороги и лед на реке.
Петя и Миша всю зиму ходили в школу через реку. И сегодня они побежали быстро по почерневшему льду. Вдруг возле берега Миша по пояс провалился в воду. Петя не растерялся, подбежал, подал руку и вытащил Мишу. Мальчики во весь дух побежали домой. Друзья опоздали в этот день в школу, но все кончилось хорошо.
Обратить внимание учащихся на правописание слова «опоздали»
Диктанты для 5-6 кл.
Умеешь ли ты купаться?
Ты, конечно, купаешься не в запрещенных местах. Не лезешь в омут, потому что омут затягивает даже очень сильных пловцов. Не ныряешь в незнакомых местах. И, разумеется, не сидишь в воде до озноба и посинения. Ты купаешься не больше 10-15 минут, а потом загораешь, бегаешь, играешь с ребятами в мяч на пляже. А затем снова идешь купаться. Если так, то ты делаешь все правильно, ты умеешь купаться! Молодец.
Будьте осторожны на воде! Приближается лето - пора веселых каникул. Много интересного ожидает ребят: походы, рыбалка, игры у воды, купание. Но вода может принести и несчастье. Чтобы этого не случилось, нужно знать и выполнять правила поведения на воде и у воды. Не купайтесь в незнакомых и запрещенных местах. Рассчитывайте свои силы и не отплывайте далеко от берега. Будьте на воде!
Обратить внимание учащихся на знаки препинания в предложениях с вводными словами. Прокомментировать правописание слова « пловцов».
Как вести себя на воде и у воды
Наступает лето. С нетерпением ждут ребята каникул, когда можно будет искупаться и позагорать, посидеть на берегу с удочкой, совершить лодочную прогулку. Но нельзя забывать об опасности, которую таит в себе вода. Чтобы не случилось беды, запомните и строго соблюдайте правила поведения на водоемах . Купаться можно только в хорошо проверенных, безопасных местах. Никогда не подплывайте к проходящим судам, лодкам, катерам. Не пользуйтесь при купании досками, самодельными плотами, надувными камерами. Не допускайте шалостей на воде, это может привести к несчастью. Ребята, будьте осторожны на воде, не подвергайте свою жизнь и жизнь товарищей опасности!
Диктанты для 6 кл.
Всякий лед до тепла живет.
Наступает время весеннего потепления. Подтаявший лед становится рыхлым и слабым. В это время переход через реку или любой другой водоем становится опасен для жизни. Будьте осторожны! Пора попрощаться с играми на льду до следующей зимы.
Становится еще теплее, реки вскрываются, начинается ледоход. Ребята, последите за тем, чтобы ваши младшие товарищи, любители приключений, не отправлялись в путешествия на льдинах - это всегда кончается плохо. Объясните им, что во время ледохода всякие игры на льду, прыжки с льдины на льдину очень опасны. Будьте внимательны и осторожны!
На льдине
Зимой море замерзло. Рыбаки собрались ловить рыбу подо льдом. Взяли они сети и поехали на санях по льду. Выехали далеко-далеко. Насверлили во льду дырок и сквозь них стали запускать сети. День был солнечный, всем было весело. А к вечеру начался сильный ветер. «Почему нас качает»,- закричал кто-то. И вдруг понял: « Беда! Нас оторвало и несет на льдине в море». А ветер становился все сильнее. «Пропали!» - раздавались голоса со всех сторон. И вдруг в небе появился самолет. С самолета упал мешок, в нем была еда и записка: «Держитесь! Помощь идет!» Через час пришел пароход и перегрузил к себе людей, сани, лошадей и рыбу.
(По Б. Житкову)
Диктанты в 6-7 кл.
Соблюдай осторожность на льду
Хорошо в морозную погоду промчаться на коньках по ледяной глади, стремительно скатиться с крутого берега на санках. Много удовольствий сулит зима! Однако, чтобы избежать несчастных случаев, надо соблюдать осторожность на льду, строго выполнять простые, но обязательные правила. Следует опасаться мест, запорошенных снегом: под снегом лед нарастает значительно медленнее. Иногда случается, что по всему водоему толщина открытого льда достигает десяти сантиметров, а под снегом - всего трех. Нередко по берегам водоемов расположены фабрики и заводы. Некоторые из них спускают в водоемы отработанные теплые воды, которые на большом расстоянии во всех направлениях подмывают лед. Поэтому кататься на коньках, санках и лыжах и даже просто ходить по льду очень опасно. В местах, где бьет родниковая вода, где в водоем впадает ручей или река, а также в местах с быстрым течением образуются проталины, полыньи. Здесь вода покрывается лишь тонким льдом. Такие места опасны и для лыжников, и для пешеходов.
Как помочь провалившемуся под лед.
Оказывая помощь пострадавшему, помните, что к месту пролома во льду нельзя подходить, а надо ползти на животе с раскинутыми в сторону руками и ногами, иначе вы рискуете провалиться. Если у вас под рукой окажутся доска, шест, толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему за 4-5 м от провала. Как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на берег или на крепкий лед. Если вы сами неожиданно провалились под лед, старайтесь удержаться на поверхности воды и громко зовите на помощь. Не теряя самообладания, постарайтесь выбраться из пролома самостоятельно. Раскиньте для этого руки в стороны и положите их на кромку льда, осторожно вынесите на лед одну ногу, а затем вторую. Мягким движением выкатитесь на лед и отползите в сторону от места провала.
На реке
Поздний вечер. Ребята по домам разбежались. На речной горушке я один, туда-сюда хожу, катаюсь. К самой реке на фанерке скатился. Попробовал лед – крепкий. Сделал шаг, другой. Вот уж берег родной близко. Одна узенькая полоска незамерзшей воды осталась. Вот я ее сейчас перепрыгну!. Как же, перепрыгнул. С головой в воду ледяную окунулся. Лед у берега самый тонкий. Вынырнул. Кричать бесполезно. Кругом ни души. Кое-как за куст прибрежный ухватился. Шуба и валенки тяжеленными стали! Еле-еле я себя на берег вытащил. Поначалу в жар бросило, потом – в холод. По дороге домой через березовую рощу звенел, как ледяной колокольчик. Маме с папой ни в чем не признался. «Что такой мокрый?» - спросили они. « На горке в катался», - ответил я. Знали бы родители, что сын их на волосок, на ивовую веточку от гибели находился. Чтоб я еще на лед неокрепший ступил…Теперь, спустя годы, я понимаю, чем это могло закончиться. Если бы течением под лед утянуло, хлебнул бы воды побольше, и – все. Все, как в папиной шутливой поговорке: «Ты смотри, сынок, утонешь – домой не приходи!»
Олег Мошников
Для диктанта в 7-8 кл.
Осторожно - ледоход !
Идет весна. Лед на реках и озерах под действием солнечных лучей и теплых вод становится слабым, рыхлым. Скоро вскроются реки, и начнется ледоход. Это красивое зрелище всегда привлекает к себе многих детей.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной или причала, не перегибайтесь через перила и другие ограждения, так как можно упасть в воду.
Остерегайтесь любоваться ледоходом и с обрывистых берегов. Во время ледохода вода часто размывает берега, и они обваливаются. Весной опасно сходить на плотины и запруды - они могут быть неожиданно сорваны напором льда или размыты сильным течением воды. Наблюдая ледоход, не приближайтесь к ледяным заторам.
Не катайтесь на плывущих льдинах - это опасно для жизни. Долг каждого школьника, увидевшего, что с кем-то случилась беда, немедленно оказать помощь пострадавшему. Для этого можно использовать спасательные круги, лодки, шесты, веревки, жерди, лестницы, доски и любые предметы, имеющие хорошую плавучесть. Зовите на помощь старших товарищей. Не оставляйте младших ребят у воды без надзора. Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода!
Динка.
Динка уже стоит по щиколотку в воде. Минька хватает горсть мокрого песку и швыряет ей в голову. Трошка шлепал по воде, пытаясь достать ее кулаком. Но дно уже ускользает из - под ног Динки, и, оглянувшись на берег, девочка бросается вплавь. Берег уходит все дальше и дальше. «Может вернуться?» - думает она. Но гребет и гребет, не чувствуя страха. С пристани доносится гудок парохода. Куда он идет? Если мимо, то от него побегут большие волны. Динка пугается и поворачивает назад. Посредине реки с длинным протяжным гудком проплывает пароход. Девочка торопится. «Сейчас будут волны... Сейчас будут волны... », - зажмурившись, думает она. Динка гребет изо всех сил. Первая большая волна поднимает ее вверх и, опрокинув навзничь, бросает вниз. Динка поворачивается, вскидывает голову и снова видит берег. Теперь он кажется ближе, она выплевывает изо рта воду, жадно хватает воздух.
С баржи, подняв вверх руки и сложив вместе обе ладони, бросается в воду мальчик. Наклонив голову вниз, он плывет наперерез Динке. Динка видит его уже почти рядом.
Новая волна тащит Динку вниз и накрывает с головой. Чья-то рука больно вцепляется в волосы и сильным рывком поднимает захлебнувшуюся девочку над водой.
(По В. Осеевой)
Осторожный пешеход не провалится под лед
Осенний лед коварен. Кажется, что он уже прочен, даже выдерживает у берега тяжесть человека, но стоит сделать несколько шагов, как неожиданно раздается треск - и вы оказываетесь в воде. Не выходите на лед до наступления морозов. Не переходите реки по льду до полного их замерзания. Переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые (пешеходные или автогужевые) переправы. Безопасность вашего движения здесь гарантирована. В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при переходе следует обязательно проверять прочность льда палкой.
Будьте внимательны и осторожны при катании на санках или лыжах с крутого берега - внизу может оказаться прорубь или полынья. Опасно кататься на коньках или играть в хоккей за пределами специально оборудованного катка. Вы можете не заметить запорошенных снегом трещин или проломов.
При оказании помощи провалившемуся под лед приближайтесь к нему ползком (лучше всего подложив под себя лыжи, доску, лестницу или фанеру), за 4-5 м от пролома подайте шест, доску, веревку, ремень или шарф и, медленно отползая, вытягивайте пострадавшего на прочный лед.
Братики
В декабрьский день детвора рассыпалась на ледяном просторе речки, пересекающей деревню. Мальчишки с веселым шумом гоняли по льду жестяную консервную банку, катались на самодельных коньках. Шестилетний Леня и первоклассник Юра ушли вверх по речке. В течение получаса они шли не останавливаясь. Вскоре не стало видно ни играющих ребят, ни строений деревни. Тут-то и случилось несчастье: Леня очутился в полынье. При каждой попытке удержаться на кромке льда слабые ручонки Лени скользили, и он уходил в воду с головой. Юра не стал звать на помощь: он знал, что на берегу никого нет. Юра пополз к полынье, держа в руках прут, выдернутый из прибрежного куста ивы. Нелегко было Лене выбраться из полыньи: намокшая одежда тянула его на дно. На сильном морозе вся фигура Лени стала подобна ледяной глыбе. Все же Юре удалось помочь Лене подняться на поверхность речки. А потом Юра с трудом тащил друга по заснеженной поверхности коварной речонки. Когда показались первые избы деревень и навстречу выбежали люди, Юра в изнеможении упал. Позади мальчиков-друзей тянулся трехкилометровый след.
(По С. Алексееву)
С донесением - вплавь.
Мне нужно было переправиться через реку, чтобы доставить важное сообщение. Я знал, что раз нужно, я переплыву речку Кальва. Она не так широка, чтобы я выбился из сил и задохнулся. Но я знал, что стоит мне на мгновение растеряться, испугаться глубины, хлебнуть глоток воды, и я пойду ко дну, как это со мной было год тому назад. Я подошел к берегу, вынул из кармана тяжелый оловянный браунинг, повертел его и швырнул в воду. Полегоньку, уговаривая себя не волноваться и не торопиться, взмах за взмахом продвигался я вперед. Я переплыл эту речку и вовремя доставил порученное мне важное сообщение. Страх - самый страшный враг плывущего человека. Я преодолел его.
(По А. Гайдару)
Авария
Лодочка, на которой в глубочайшей тайне от родителей отправились в путешествие Никита, его младший брат Митя и собака Цыган, называлась «Воробей». Нужно твердо помнить, что путешественники всегда от одной опасности переходят к другой. Нет ничего приятнее, как преодолевать опасность, и смело плыть навстречу приключениям.
Торопиться было некуда. Никита положил весла, и «Воробей» все плыл да плыл вниз по реке. Течение подхватило лодку. «Воробей» накренился и все быстрее и быстрее заскользил мимо рыбаков, заборов, лодок к устью Ждановки, впадающей в Малую Невку.
Здесь началась качка. Волна била в борт. «Воробей» стал нырять, зарываться носом и полетел.В лицо било брызгами, посвистывал ветер. Митя тихо шипел от восторга. И вдруг сильный толчок. Раздался треск - лодка ударилась носом в зеленую сваю. Митины ноги болтнулись в воздухе, и он клубочком перелетел за борт лодки в воду. Никита не успел даже сообразить, что случилось, как Цыган выпрыгнул из лодки, схватил Митю за рубашку и поплыл с ним к берегу.
(по А. Толстому)
Диктанты для 8-9 кл.
Советы Нептуна
Наступают летние каникулы. Все вы, конечно, любите искупаться и позагорать в жаркий день, поваляться на горячем песке и снова броситься в прохладную воду, поплавать, понырять, поиграть в «морской бой». Что может быть лучше этого? Но не забывайте, что водная стихия сурова к тем, кто пренебрегает ее законами, не соблюдает мер безопасности. Чтобы не случилось несчастья, прежде всего нужно знать и не нарушать правила купания. Купаться и загорать лучше всего на оборудованном пляже. Не умеющим плавать не следует заходить в воду выше пояса. Находиться в воде рекомендуется не более 10-15 минут. После купания следует насухо вытереть лицо и тело. Не плавайте на надувных матрацах и автомобильных камерах. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной захлестнуть или перевернуть. Не допускайте грубых шалостей в воде. Запрещается взбираться на буи, бакены и другие технические знаки. Некоторые шутники при купании любят делать вид, что они выбились из сил, захлебываются или тонут. Пресекайте такие «забавы». Ложные сигналы о помощи отвлекают спасателей и мешают им выполнять свои обязанности. Всех правил, которые нужно соблюдать у водоема, не предусмотреть. Осторожность - вот единственный залог безопасности на воде.
Как оказать первую помощь пострадавшему на воде
На ваших глазах произошел несчастный случай - утонул человек. Что вы будете делать? Помощь ему нужно оказать немедленно. Пусть кто-нибудь срочно вызывает врачей, а вы, не дожидаясь их прибытия, приступайте к оказанию первой помощи пострадавшему. Помните - его жизнь в ваших руках! Действуйте спокойно, правильно и быстро. Прежде всего осмотрите извлеченного из воды человека, очистите ротовую и носовую полости. В случае обильного истечения жидкости изо рта и носа пострадавшего, положите его нижним краем грудной клетки (не желудком!) на бедро своей согнутой ноги так, чтобы голова находилась по уровню ниже желудка. Одной рукой удерживайте голову в таком положении, а другой ритмично нажимайте на спину, пока выходит вода. Эти действия, в случае их необходимости, не должны занимать более 10-15 секунд. Затем сразу же приступайте к проведению искусственного дыхания. Помните, что чем раньше вы его начнете делать, тем больше шансов спасти человека. Обязательно сочетайте искусственное дыхание с наружным массажем сердца, если у пострадавшего отсутствует сердцебиение. Хорошо, если помощь оказывают двое. В этом случае один производит искусственное дыхание, а другой массирует сердце. Ваши действия поддержали жизнедеятельность организма пострадавшего, и это облегчит врачам-реаниматорам мероприятия по дальнейшему оживлению человека.
Изложения для 9 кл.
Возвращение.
В конце розового марта утренние оловянные заморозки становятся нежными, как фиалки, а земля дышит прозрачной испариной.
Сегодня много солнца. Волга, покрытая тающим льдом, вздувшаяся, кажется огромным пегим волдырем. Она скоро сбросит с себя зимнюю кору - и разольется.
Через Волгу, по дороге, пробирался человек. Он осторожно, иногда по колено в воде, двигался по направлению к Широкому Буераку.
«Куда же это он идет?» - с тревогой подумал Николай, зная, что дорога оторвалась от берегов, что лед стал ломкий. Николай хорошо знает, какую опасность таит в себе Волга, когда она сбрасывает с себя ледяную рубашку. «Как же это он один идет!» - Николай хотел было помочь человеку, но, глянув на Волгу, на водяные прогалины около берегов, развел руками. Пешеход в это время спрыгнул с ухаба и двинулся вверх - туда, где лед еще лежал нетронутым.
«Эй! Пропадешь!» - Николай, надрываясь криком, замахал руками и со всего разбега ринулся вниз по скользкому обрыву. Раздался оглушительный треск, и льдина под пешеходом медленно поползла. Пешеход кинулся вперед, перескочил пространство между льдиной. Та часть льда, на которую он прыгнул, от удара рухнула. Пешеход снова кинулся вперед, но льдина накренилась, окунулась и, кружась, поплыла вниз.
Пешеход прыгал с льдины на льдину, падал, вскакивал и снова летел на другую льдину. И вдруг, прыгнув, он провалился... и толпа замерла в ожидании. «Ну, сгиб человек, сгиб безвозвратно», - заключил дедушка Катай. « Гляди, гляди, - перебил его Никита Гурьянов. - Лодка». Николай, вооружившись длинным шестом, вел лодку меж льдин, огибая их, и люди с берега смотрели только на него, пугаясь уже того, что лодку могут сжать льдины, и тогда она хрястнет, как орех на крепких зубах. Но Николай вел лодку умело, выбирая нужные прогалы, а, когда он схватил за шиворот человека и выволок его из воды, люди облегченно вздохнули.
Прогалина – место между льдинами . (По ФПанферову)
На рыбалку.
Было мне тогда лет 12, Санька - годом старше, а Лешке и 8 еще не было. Уж очень хотелось нам самим на налима пойти. Крючками мы запаслись еще с зимы - выменяли в кооперативе на крысиные шкурки, добытые своими руками. Наконец, Енисей тронулся. Теперь надо ждать, чтобы поднялась вода и унесла рыхлый лед, тогда лодки спустят на реку, и налим начнет брать. Вода поднялась, собрала и подчистила лед по берегам. Заревел и помчал мутную воду Енисей-батюшка.
Лодку мы отвязали худую, чтобы не так скоро хватились ее и ответственности было поменьше, и поплыли к острову. Кружилась, вскипала под лодкой густая от мути вода, гнала редкие льдины, швыряла их на боны . Лодку качало, подбрасывало, норовило развернуть и хрястнуть обо что-нибудь. Первый раз пересекали мы Енисей в ту пору, когда переплывать его и взрослые не решались. Силенок наших не хватило. Выдохлись мы, и лодку поволокло к Караульному быку. Санька судорожно пытался развернуть лодку носом навстречу течению, остепенить ее, утихомирить, но она мчалась и слушаться не хотела. Много натекло в лодку воды, отяжелела она.
Я перехватил Алешкино весло и мотнул головой на старое ведро, плававшее среди лодки. Алешка бросился отчерпывать воду, лодка шатнулась, черпанула бортом. Внизу мощно ревел Караульный бык. Разъяренная вода кипела под ним, закручивалась воронками. В воронках веретеньями кружились бревна и исчезали куда-то. Рев нарастал. Лодка закачалась как-то безвольно и обреченно. Бык приближался, словно он был живой и мчался на нас, чтобы подмять лодку и выбросить в реку. Я уже не силой, а страхом поднимал и бросал весла. Алешка все выхлестывал и выхлестывал воду. Лодка сделалась легче, поворотливей и выгреблись в затишек. Лодку подхватило и понесло обратным течением к острову. Я сложил весла и обернулся. Еще сажен сто, и нам бы несдобровать. «Порядок на корабле», - вяло сказал Санька и в изнеможении опустил весло. Руки его дрожали.
Боны - плавучие ограждения или заграждения на реках, озерах.
(По В. Астафьеву)
Как я стал водоплавающим
Воды я не боюсь ни капельки. Даже после того, как чуть не утонул, когда в яму провалился. Я может быть даже и не утонул бы, а выплыл, но меня папа сразу вытащил. Я даже ничуть не испугался, а мама вдруг взяла и заплакала.
А папа говорит:
Ну что ты, право, перестань, здесь вода пресная, питьевая, не надо ее химическую формулу портить... Между прочим, если хотите знать, есть даже такой способ - с лодки человека сбрасывать, чтобы он сразу плавать научился.
Я удивился и говорю:
А если с самолета сбросить, человек летать научится?
Папа засмеялся и говорит:
Со временем, возможно. А пока, пойдем - ка учиться плавать.
Папа дал мне руку, и мы пошли в воду. Сначала мне было по пояс, потом по шейку, папа вытянул руки, и я лег на них. Папа сказал, что надо набрать побольше воздуха и делать движения, будто плывешь. Мама ходила по берегу и так волновалась, что я нахлебался воды, и мы вышли на берег. Мама сначала была вся красная, а тут она даже побледнела.«Василий, - говорит, - дай мне слово, что ты этих опытов над человеком проводить больше не будешь. Мальчику и впрямь взбредет невесть что в голову, он потеряет осторожность и... Ты что, забыл, как у Петруниных единственный сын утонул». У папы еще оставались от отпуска две недели, и мы каждый день ходили купаться, но только он сказал, что сразу ничего не бывает и учиться нужно постепенно. Сначала мы играли в разные игры: то он разбрасывал по дну пятаки, а я должен был под водой их все собрать, то он полотенце бубликом клал на воду, и мне нужно было головой вынырнуть в бубличную дырку. Потом я у самого беpeгa ложился на воду, упирался руками в дно, а ногами болтал вверх-вниз. Потом я заходил в реку по грудь, набирал воздуха, отталкивался ногами от дна, вытягивал руки и скользил по воде как торпеда.
А потом отпуск кончился, мы вернулись домой, и я поехал на третью смену в лагерь. Я решил железно научиться плавать. Когда нас повели купаться, то спросили, кто умеет плавать, и я сказал, что умею, чтобы не ходить в «лягушатник». Меня вызвали, я вошел в воду, оттолкнулся, замолотил руками и ногами - и вдруг почувствовал, что плыву. Я думал, что проплыл целых метров десять, а когда оглянулся, то увидел, что отплыл всего шага на три. Но все равно - ведь отплыл... Каждый день я проплывал все больше и больше. Когда мы вернулись домой, я сходил в бассейн, и меня записали в секцию плавания.
Робинзон Крузо
Когда нас отнесло примерно мили на четыре от корабля, огромный вал величиной с гору неожиданно набежал с кормы, словно для того, чтобы последним ударом прекратить наши страдания. В один миг он опрокинул нашу шлюпку.
Ничем не выразить смятения в моих мыслях, когда я погрузился в воду. Я отлично плаваю, но я не мог вынырнуть на поверхность и набрать в грудь воздуху, пока подхватившая меня волна не разбилась и не отхлынула назад, оставив меня на мелком месте. У меня хватило самообладания настолько, что, увидев сушу гораздо ближе, чем я ожидал, поднялся на ноги и пустился бежать в надежде достичь берега прежде, чем нахлынет и подхватит меня другая волна. Но море шло горой.
Меня подхватило и долго с неимоверной силой и быстротой несло ко дну. Я уже почти задыхался, как вдруг почувствовал, что поднимаюсь кверху. Вскоре, к великому моему облегчению, мои руки и голова оказались над водой. Это придало мне силы и мужества. Меня снова захлестнуло, но на этот раз я пробыл под водой не так долго. Когда волна разбилась и пошла назад, я не дал ей увлечь себя обратно и скоро почувствовал под ногами дно. Я постоял несколько секунд, чтобы отдышаться и, собрав остаток сил, опрометью пустился бежать к берегу.
Увидев, что сейчас меня опять накроет волной, я крепко уцепился за выступ скалы и, задержав дыхание, решил переждать, пока волна не схлынет. Так как ближе к земле волны были не столь высоки, то я продержался до ее хода. Затем я снова пустился бежать и очутился настолько близко к берегу, что следующая волна хоть и перекатилась через меня, но уже не могла подхватить и унести обратно в море. Пробежав еще немного, я, к великой моей радости, почувствовал себя на суше, вскарабкался на прибрежные скалы и опустился на траву. Здесь я был в безопасности: море не могло достать до меня.
Диктант для 7-9 класса
Черемыш, брат героя
Аня Баратова, перепрыгнув через бортик, погналась за мячом. Мяч вылетел далеко за веточки, которыми были обставлены опасные участки льда. Она пронеслась мимо них и вдруг исчезла, только легонько всплеснулась вода на том месте..Первым добежал до полыньи Званцев. Но Званцева тут же обогнал Гешка. Сбросив ботинки с коньками, он то ползком, то на четвереньках добрался до края. Гешка подполз ближе, и вдруг что-то треснуло под ним. Лед стал наклонно, и жгучий холод залил Гешку с головой. «Спокойно! Все на месте!» - кричал летчик Климентий Черемыш. В руках летчика уже был бортик от хоккейного поля. Он сунул его вперед, и длинная доска, скользнув по льду, перекрыла полынью, упершись концом в другой край. Потом летчик лег плашмя на скрещенные лыжи и, действуя руками, мигом подполз к гибельному месту. Лыжи не давали ему проваливаться. Летчик вытянул на лед Аню, но в эту минуту Гешка, уставший от борьбы с быстрым течением, начал слабеть и погружаться. Держась одной рукой за лежавшую поперек пролома доску, Климентий, не задумываясь, спрыгнул в ледяную воду, окунулся и свободной рукой успел схватить за шиворот мальчика. Подтянувшись на одной руке, он выволок Гешку из воды на лед. Он тотчас укутал мальчика в шинель, которую сбросил еще прежде на бегу, отряхнулся и понес Гешку к берегу. Гимнастерка его обмерзла и хрустела, как накрахмаленная.