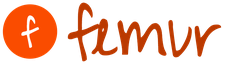Отношение Чичикова к Ноздреву. Анализ эпизода "Чичиков у Ноздрева"
Подъехавши к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам. С одной стороны, чтоб дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтоб и самому несколько закусить и подкрепиться. Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не значат все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра и какой бы обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот обед не иначе, как отправивши прежде в рот пилюлю; глотающие устерс, морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в Карлсбад или на Кавказ. Нет, эти господа никогда не возбуждали в нем зависти. Но господа средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком и потом как ни в чем не бывало садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжъя уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая расстегаем или кулебякой с сомовьим плёсом, так что вчуже пронимает аппетит, — вот эти господа, точно, пользуются завидным даянием неба! Не один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и незаложенных, со всеми улучшениями на иностранную и русскую ногу, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки; но то беда, что ни за какие деньги, ниже́ имения, с улучшениями и без улучшений, нельзя приобресть такого желудка, какой бывает у господина средней руки. Деревянный потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные его стены; на ставнях были нарисованы кувшины с цветами. Взобравшись узенькою деревянною лестницею наверх, в широкие сени, он встретил отворявшуюся со скрипом дверь и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую: «Сюда пожалуйте!» В комнате попались всё старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало выстроено по дорогам, а именно: заиндевевший самовар, выскобленные гладко сосновые стены, трехугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички пред образами, висевшие на голубых и красных ленточках, окотившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку; наконец натыканные пучками душистые травы и гвоздики у образов, высохшие до такой степени, что желавший понюхать их только чихал и больше ничего. — Поросенок есть? — с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе. — Есть. — С хреном и со сметаною? — С хреном и со сметаною. — Давай его сюда! Старуха пошла копаться и принесла тарелку, салфетку накрахмаленную до того, что дыбилась, как засохшая кора, потом нож с пожелтевшею костяною колодочкою, тоненький, как перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол. Герой наш, по обыкновению, сейчас вступил с нею в разговор и расспросил, сама ли она держит трактир, или есть хозяин, и сколько дает доходу трактир, и с ними ли живут сыновья, и что старший сын холостой или женатый человек, и какую взял жену, с большим ли приданым, или нет, и доволен ли был тесть, и не сердился ли, что мало подарков получил на свадьбе, — словом, не пропустил ничего. Само собою разумеется, что полюбопытствовал узнать, какие в окружности находятся у них помещики, и узнал, что всякие есть помещики: Блохин, Почитаев, Мыльной, Чепраков — полковник, Собакевич. «А! Собакевича знаешь?» — спросил он и тут же услышал, что старуха знает не только Собакевича, но и Манилова, и что Манилов будет повеликатней Собакевича: велит тотчас сварить курицу, спросит и телятинки; коли есть баранья печенка, то и бараньей печенки спросит, и всего только что попробует, а Собакевич одного чего-нибудь спросит, да уж зато всё съест, даже и подбавки потребует за ту же цену. Когда он таким образом разговаривал, кушая поросенка, которого оставался уже последний кусок, послышался стук колес подъехавшего экипажа. Выглянувши в окно, увидел он остановившуюся перед трактиром легонькую бричку, запряженную тройкою добрых лошадей. Из брички вылезали двое каких-то мужчин. Один белокурый, высокого роста; другой немного пониже, чернявый. Белокурый был в темно-синей венгерке, чернявый просто в полосатом архалуке. Издали тащилась еще колясчонка, пустая, влекомая какой-то длинношерстной четверней с изорванными хомутами и веревочной упряжью. Белокурый тотчас же отправился по лестнице наверх, между тем как черномазый еще оставался и щупал что-то в бричке, разговаривая тут же со слугою и махая в то же время ехавшей за ними коляске. Голос его показался Чичикову как будто несколько знакомым. Пока он его рассматривал, белокурый успел уже нащупать дверь и отворить ее. Это был мужчина высокого роста, лицом худощавый, или что называют издержанный, с рыжими усиками. По загоревшему лицу его можно было заключить, что он знал, что такое дым, если не пороховой, то по крайней мере табачный. Он вежливо поклонился Чичикову, на что последний ответил тем же. В продолжение немногих минут они вероятно бы разговорились и хорошо познакомились между собою, потому что уже начало было сделано, и оба почти в одно и то же время изъявили удовольствие, что пыль по дороге была совершенно прибита вчерашним дождем и теперь ехать и прохладно и приятно, как вошел чернявый его товарищ, сбросив с головы на стол картуз свой, молодцевато взъерошив рукой свои черные густые волосы. Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его. — Ба, ба, ба! — вскричал он вдруг, расставив обе руки при виде Чичикова. — Какими судьбами? Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить «ты», хотя, впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода. — Куда ездил? — говорил Ноздрев и, не дождавшись ответа, продолжал: — А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух! Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался. Ведь я на обывательских приехал! Вот посмотри нарочно в окно! — Здесь он нагнул сам голову Чичикова, так что тот чуть не ударился ею об рамку. — Видишь, какая дрянь! Насилу дотащили, проклятые, я уже перелез вот в его бричку. — Говоря это, Ноздрев показал пальцем на своего товарища. — А вы еще не знакомы? Зять мой Мижуев! Мы с ним все утро говорили о тебе. «Ну смотри, говорю, если мы не встретим Чичикова». Ну, брат, если б ты знал, как я продулся! Поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков — всё спустил. Ведь на мне нет ни цепочки, ни часов... — Чичиков взглянул и увидел точно, что на нем не было ни цепочки, ни часов. Ему даже показалось, что и один бакенбард был у него меньше и не так густ, как другой. — А ведь будь только двадцать рублей в кармане, — продолжал Ноздрев, — именно не больше как двадцать, я отыграл бы всё, то есть кроме того, что отыграл бы, вот как честный человек, тридцать тысяч сейчас положил бы в бумажник. — Ты, однако, и тогда так говорил, — отвечал белокурый, — а когда я тебе дал пятьдесят рублей, тут же просадил их. — И не просадил бы! ей-Богу, не просадил бы! Не сделай я сам глупость, право, не просадил бы. Не загни я после пароле на проклятой семерке утку, я бы мог сорвать весь банк. — Однако ж не сорвал, — сказал белокурый. — Не сорвал потому, что загнул утку не вовремя. А ты Думаешь, майор твой хорошо играет? — Хорошо или не хорошо, однако ж он тебя обыграл. — Эка важность! — сказал Ноздрев, — этак и я его обыграю. Нет, вот попробуй он играть дублетом, так вот тогда я посмотрю, я посмотрю тогда, какой он игрок! Зато, брат Чичиков, как покутили мы в первые дни! Правда, ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. У меня все, что ни привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене. Эх, братец, как покутили! Теперь даже, как вспомнишь... черт возьми! то есть как жаль, что ты не был. Вообрази, что в трех верстах от города стоял драгунский полк. Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, сорок человек одних офицеров было в городе; как начали мы, братец, пить... Штабс-ротмистр Поцелуев... такой славный! усы, братец, такие! Бордо называет просто бурдашкой. «Принеси-ка, брат, говорит, бурдашки!» Поручик Кувшинников... Ах, братец, какой премилый человек! вот уж, можно сказать, во всей форме кутила. Мы всё были с ним вместе. Какого вина отпустил нам Пономарев! Нужно тебе знать, что он мошенник и в его лавке ничего нельзя брать: в вино мешает всякую дрянь: сандал, жженую пробку и даже бузиной, подлец, затирает; но зато уж если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку — ну просто, брат, находишься в эмпиреях. Шампанское у нас было такое — что пред ним губернаторское? просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико-матрадура, это значит двойное клико. И еще достал одну бутылочку французского под названием: бонбон. Запах? — розетка и все что хочешь. Уж так покутили!.. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским, нет ни одной бутылки во всем городе, всё офицеры выпили. Веришь ли, что я один в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского! — Ну, семнадцать бутылок ты не выпьешь, — заметил белокурый. — Как честный человек, говорю, что выпил, — отвечал Ноздрев. — Ты можешь себе говорить, что хочешь, а я тебе говорю, что и десяти не выпьешь. — Ну хочешь об заклад, что выпью! — К чему же об заклад? — Ну, поставь свое ружье, которое купил в городе. — Не хочу. — Ну да поставь попробуй! — И пробовать не хочу. — Да, был бы ты без ружья, как без шапки. Эх, брат Чичиков, то есть как я жалел, что тебя не было. Я знаю, что ты бы не расстался с поручиком Кувшинниковым. Уж как бы вы с ним хорошо сошлись! Это не то что прокурор и все губернские скряги в нашем городе, которые так и трясутся за каждую копейку. Этот, братец, и в гальбик, и в банчишку, и во все что хочешь. Эх, Чичиков, ну что бы тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это, скотовод эдакой! Поцелуй меня, душка, смерть люблю тебя! Мижуев, смотри, вот судьба свела: ну что он мне или я ему? Он приехал Бог знает откуда, я тоже здесь живу... А сколько было, брат, карет, и все это en gros. В фортунку крутнул: выиграл две банки помады, фарфоровую чашку и гитару; потом опять поставил один раз и прокрутил, канальство, еще сверх шесть целковых. А какой, если б ты знал, волокита Кувшинников! Мы с ним были на всех почти балах. Одна была такая разодетая, рюши на ней, и трюши, и черт знает чего не было... я думаю себе только: «черт возьми!» А Кувшинников, то есть это такая бестия, подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты... Поверишь ли, простых баб не пропустил. Это он называет: попользоваться насчет клубнички. Рыб и балыков навезли чудных. Я таки привез с собою один; хорошо, что догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь едешь? — А я к человечку к одному, — сказал Чичиков. — Ну, что человечек, брось его! поедем ко мне! — Нет, нельзя, есть дело. — Ну вот уж и дело! уж и выдумал! Ах ты, Оподелдок Иванович! — Право, дело, да еще и нужное. — Пари держу, врешь! Ну скажи только, к кому едешь? — Ну, к Собакевичу. Здесь Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий, здоровый человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы, дрожат и прыгают щеки, и сосед за двумя дверями, в третьей комнате, вскидывается со сна, вытаращив очи и произнося: «Эк его разобрало!» — Что ж тут смешного? — сказал Чичиков, отчасти недовольный таким смехом. Но Ноздрев продолжал хохотать во все горло, приговаривая: — Ой, пощади, право, тресну со смеху! — Ничего нет смешного: я дал ему слово, — сказал Чичиков. — Да ведь ты жизни не будешь рад, когда приедешь к нему, это просто жидомор! Ведь я знаю твой характер. Ты жестоко опешишься, если думаешь найти там банчишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братец: ну к черту Собакевича, поедем ко мне! каким балыком попотчую! Пономарев, бестия, так раскланивался, говорит: «Для вас только, всю ярмарку, говорит, обыщите, не найдете такого». Плут, однако ж, ужасный. Я ему в глаза это говорил: «Вы, говорю, с нашим откупщиком первые мошенники!» Смеется, бестия, поглаживая бороду. Мы с Кувшинниковым каждый день завтракали в его лавке. Ах, брат, вот позабыл тебе сказать: знаю, что ты теперь не отстанешь, но за десять тысяч не отдам, наперед говорю. Эй, Порфирий! — закричал он, подошедши к окну, на своего человека, который держал в одной руке ножик, а в другой корку хлеба с куском балыка, который посчастливилось ему мимоходом отрезать, вынимая что-то из брички. — Эй, Порфирий, — кричал Ноздрев, — принеси-ка щенка! Каков щенок! — продолжал он, обращаясь к Чичикову. — Краденый, ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменял у Хвостырева... — Чичиков, впрочем, отроду не видел ни каурой кобылы, ни Хвостырева. — Барин! ничего не хотите закусить? — сказала в это время, подходя к нему, старуха. — Ничего. Эх, брат, как покутили! Впрочем, давай рюмку водки: какая у тебя есть? — Анисовая, — отвечала старуха. — Ну, давай анисовой, — сказал Ноздрев. — Давай уж и мне рюмку! — сказал белокурый. — В театре одна актриса так, каналья, пела, как канарейка! Кувшинников, который сидел возле меня, — «Вот, говорит, брат, попользоваться бы насчет клубнички!» Одних балаганов, я думаю, было пятьдесят. Фенарди четыре часа вертелся мельницею. — Здесь он принял рюмку из рук старухи, которая ему за то низко поклонилась. — А, давай его сюда! — закричал он, увидевши Порфирия, вошедшего с щенком. Порфирий был одет, так же как и барин, в каком-то архалуке, стеганном на вате, но несколько позамасленней. — Давай его, клади сюда на пол! Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все четыре лапы, нюхал землю. — Вот щенок! — сказал Ноздрев, взявши его за спинку и приподнявши рукою. Щенок испустил довольно жалобный вой. — Ты, однако ж, не сделал того, что я тебе говорил, — сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая тщательно брюхо щенка, — и не подумал вычесать его? — Нет, я его вычесывал. — А отчего же блохи? — Не могу знать. Статься может, как-нибудь из брички поналезли. — Врешь, врешь, и не воображал чесать; я думаю, дурак, еще своих напустил. Вот посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши, на-ка пощупай рукою. — Да зачем, я и так вижу: доброй породы! — отвечал Чичиков. — Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши! Чичиков в угодность ему пощупал уши, примолвивши: — Да, хорошая будет собака. — А нос, чувствуешь, какой холодный? возьми-ка рукою. Не желая обидеть его, Чичиков взял и за нос, сказавши: — Хорошее чутье. — Настоящий мордаш, — продолжал Ноздрев, — я, признаюсь, давно острил зубы на мордаша. На, Порфирий, отнеси его! Порфирий, взявши щенка под брюхо, унес его в бричку. — Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне, пять верст всего, духом домчимся, а там, пожалуй, можешь и к Собакевичу. «А что ж, — подумал про себя Чичиков, — заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем же он хуже других, такой же человек, да еще и проигрался. Горазд он, как видно, на все, стало быть у него даром можно кое-что выпросить». — Изволь, едем, — сказал он, — но чур не задержать, мне время дорого. — Ну, душа, вот это так! Вот это хорошо, постой же, я тебя поцелую за это. — Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались. — И славно: втроем и покатим! — Нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти, — говорил белокурый, — мне нужно домой. — Пустяки, пустяки, брат, не пущу. — Право, жена будет сердиться; теперь же ты можешь пересесть вот в ихнюю бричку. — Ни, ни, ни! И не думай. Белокурый был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое-то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противуположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что в особенности не согласятся плясать по чужой дудке; а кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупое назовут умным и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку, — словом, начнут гладью, а кончат гадью. — Вздор! — сказал Ноздрев в ответ на какое-то представление белокурого, надел ему на голову картуз, и — белокурый отправился вслед за ними. — За водочку, барин, не заплатили... — сказала старуха. — А, хорошо, хорошо, матушка! Послушай, зятек! заплати, пожалуйста. У меня нет ни копейки в кармане. — Сколько тебе? — сказал зятек. — Да что, батюшка, двугривенник всего, — сказала старуха. — Врешь, врешь. Дай ей полтину, предовольно с нее. — Маловато, барин, — сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностью и еще побежала впопыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против того, что стоила водка. Приезжие уселись. Бричка Чичикова ехала рядом с бричкой, в которой сидели Ноздрев и его зять, и потому они все трое могли свободно между собою разговаривать в продолжении дороги. За ними следовала, беспрестанно отставая, небольшая колясочка Ноздрева на тощих обывательских лошадях. В ней сидел Порфирий с щенком. Так как разговор, который путешественники вели между собою, был не очень интересен для читателя, то сделаем лучше, если скажем что-нибудь о самом Ноздреве, которому, может быть, доведется сыграть не вовсе последнюю роль в нашей поэме. Лицо Ноздрева верно уже сколько-нибудь знакомо читателю. Таких людей приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми, слывут еще в детстве и в школе за хороших товарищей и при всем том бывают весьма больно поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе «ты». Дружбу заведут, кажется, навек: но всегда почти так случается, что подружившийся подерется с ними того же вечера на дружеской пирушке. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный. Ноздрев в тридцать пять лет был таков же совершенно, каким был в осьмнадцать и двадцать: охотник погулять. Женитьба его ничуть не переменила, тем более что жена скоро отправилась на тот свет, оставивши двух ребятишек, которые решительно ему были не нужны. За детьми, однако ж, присматривала смазливая нянька. Дома он больше дня никак не мог усидеть. Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами; он уж в одно мгновенье ока был там, спорил и заводил сумятицу за зеленым столом, ибо имел, подобно всем таковым, страстишку к картишкам. В картишки, как мы уже видели из первой главы, играл он не совсем безгрешно и чисто, зная много разных передержек и других тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другою игрою: или поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густым и очень хорошим бакенбардам, так что возвращался домой он иногда с одной только бакенбардой, и то довольно жидкой. Но здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и вмещали в себе столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежних. И что всего страннее, что может только на одной Руси случиться, он чрез несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, которые его тузили, и встречался как ни в чем не бывало, и он, как говорится, ничего, и они ничего. Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другим никак не будет: или нарежется в буфете таким образом, что только смеется, или проврется самым жестоким образом, так что наконец самому сделается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти, и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнесши: «Ну, брат, ты, кажется, уже начал пули лить». Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Иной, например, даже человек в чинах, с благородною наружностью, со звездой на груди, будет вам жать руку, разговорится с вами о предметах глубоких, вызывающих на размышления, а потом, смотришь, тут же, пред вашими глазами, и нагадит вам. И нагадит так, как простой коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек со звездой на груди, разговаривающий о предметах, вызывающих на размышление, так что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего более. Такую же странную страсть имел и Ноздрев. Чем кто ближе с ним сходился, тому он скорее всех насаливал: распускал небылицу, глупее которой трудно выдумать, расстроивал свадьбу, торговую сделку и вовсе не почитал себя вашим неприятелем; напротив, если случай приводил его опять встретиться с вами, он обходился вновь по-дружески и даже говорил: «Ведь ты такой подлец, никогда ко мне не заедешь». Ноздрев во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все что ни есть на все, что хотите. Ружье, собака, лошадь — все было предметом мены, но вовсе не с тем, чтобы выиграть: это происходило просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупичатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду — насколько хватало денег. Впрочем, редко случалось, чтобы это было довезено домой; почти в тот же день спускалось оно все другому, счастливейшему игроку, иногда даже прибавлялась собственная трубка с кисетом и мундштуком, а в другой раз и вся четверня со всем: с коляской и кучером, так что сам хозяин отправлялся в коротеньком сюртучке или архалуке искать какого-нибудь приятеля, чтобы попользоваться его экипажем. Вот какой был Ноздрев! Может быть, назовут его характером избитым, станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева. Увы! несправедливы будут те, которые станут говорить так. Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане; но легкомысленно-непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком. Между тем три экипажа подкатили уже к крыльцу дома Ноздрева. В доме не было никакого приготовления к их принятию. Посередине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них, белили стены, затягивая какую-то бесконечную песню; пол весь был обрызган белилами. Ноздрев приказал тот же час мужиков и козлы вон и выбежал в другую комнату отдавать повеления. Гости слышали, как он заказывал повару обед; сообразив это, Чичиков, начинавший уже несколько чувствовать аппетит, увидел, что раньше пяти часов они не сядут за стол. Ноздрев, возвратившись, повел гостей осматривать все, что ни было у него на деревне, и в два часа с небольшим показал решительно все, так что ничего уж больше не осталось показывать. Прежде всего пошли они обсматривать конюшню, где видели двух кобыл, одну серую в яблоках, другую каурую, потом гнедого жеребца, на вид и неказистого, но за которого Ноздрев божился, что заплатил десять тысяч. — Десять тысяч ты за него не дал, — заметил зять. — Он и одной не стоит. — Ей-Богу, дал десять тысяч, — сказал Ноздрев. — Ты себе можешь божиться, сколько хочешь, — отвечал зять. — Ну, хочешь, побьемся об заклад! — сказал Ноздрев. Об заклад зять не захотел биться. Потом Ноздрев показал пустые стойла, где были прежде тоже хорошие лошади. В этой же конюшне видели козла, которого, по старому поверью, почитали необходимым держать при лошадях, который, как казалось, был с ними в ладу, гулял под их брюхами, как у себя дома. Потом Ноздрев повел их глядеть волчонка, бывшего на привязи. «Вот волчонок! — сказал он. — Я его нарочно кормлю сырым мясом. Мне хочется, чтоб он был совершенным зверем!» Пошли смотреть пруд, в котором, по словам Ноздрева, водилась рыба такой величины, что два человека с трудом вытаскивали штуку, в чем, однако ж, родственник не преминул усомниться. «Я тебе, Чичиков, — сказал Ноздрев, — покажу отличнейшую пару собак: крепость черных мясов просто наводит изумление, щиток — игла!» — и повел их к выстроенному очень красиво маленькому домику, окруженному большим загороженным со всех сторон двором. Вошедши на двор, увидели там всяких собак, и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей: муругих, черных с подпалинами, полво-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих... Тут были все клички, все повелительные наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Ноздрев был среди их совершенно как отец среди семейства; все они, тут же пустивши вверх хвосты, зовомые у собачеев правилами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. Штук десять из них положили свои лапы Ноздреву на плеча. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в самые губы, так что Чичиков тут же выплюнул. Осмотрели собак, наводивших изумление крепостью черных мясов, — хорошие были собаки. Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слепая и, по словам Ноздрева, должна была скоро издохнуть, но года два тому назад была очень хорошая сука; осмотрели и суку — сука, точно, была слепая. Потом пошли осматривать водяную мельницу, где недоставало порхлицы, в которую утверждается верхний камень, быстро вращающийся на веретене, — «порхающий», по чудному выражению русского мужика. — А вот тут скоро будет и кузница! — сказал Ноздрев. Немного прошедши, они увидели, точно, кузницу, осмотрели и кузницу. — Вот на этом поле, — сказал Ноздрев, указывая пальцем на поле, — русаков такая гибель, что земли не видно; я сам своими руками поймал одного за задние ноги. — Ну, русака ты не поймаешь рукою! — заметил зять. — А вот же поймал, нарочно поймал! — отвечал Ноздрев. — Теперь я поведу тебя посмотреть, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — границу, где оканчивается моя земля. Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек. Гости должны были пробираться между перелогами и взбороненными нивами. Чичиков начинал чувствовать усталость. Во многих местах ноги их выдавливали под собою воду, до такой степени место было низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потом, увидя, что это ни к чему не служит, брели прямо, не разбирая, где бо́льшая, а где меньшая грязь. Прошедши порядочное расстояние, увидели, точно, границу, состоявшую из деревянного столбика и узенького рва. — Вот граница! — сказал Ноздрев. — Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все мое. — Да когда же этот лес сделался твоим? — спросил зять. — Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой. — Да, я купил его недавно, — отвечал Ноздрев. — Когда же ты успел его так скоро купить? — Как же, я еще третьего дня купил, и дорого, черт возьми, дал. — Да ведь ты был в то время на ярмарке. — Эх ты, Софрон! Разве нельзя быть в одно время и на ярмарке и купить землю? Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил. — Да, ну разве приказчик! — сказал зять, но и тут усумнился и покачал головою. Гости воротились тою же гадкою дорогою к дому. Ноздрев повел их в свой кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги; висели только сабли и два ружья — одно в триста, а другое в восемьсот рублей. Зять, осмотревши, покачал только головою. Потом были показаны турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано: «Мастер Савелий Сибиряков». Вслед за тем показалась гостям шарманка. Ноздрев тут же провертел пред ними кое-что. Шарманка играла не без приятности, но в средине ее, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнею: «Мальбруг в поход поехал», а «Мальбруг в поход поехал» неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом. Уже Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго еще потом свистела она одна. Потом показались трубки — деревянные, глиняные, пенковые, обкуренные и необкуренные, обтянутые замшею и необтянутые, чубук с янтарным мундштуком, недавно выигранный, кисет, вышитый какою-то графинею, где-то на почтовой станции влюбившеюся в него по уши, у которой ручки, по словам его, были самой субдительной сюперфлю, — слово, вероятно означавшее у него высочайшую точку совершенства. Закусивши балыком, они сели за стол близ пяти часов. Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни; блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец — он сыпал перец, капуста ли попалась — совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох, — словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выдет. Зато Ноздрев налег на вина: еще не подавали супа, он уже налил гостям по большому стакану портвейна и по другому госотерна, потому что в губернских и уездных городах не бывает простого сотерна. Потом Ноздрев велел принести бутылку мадеры, лучше которой не пивал сам фельдмаршал. Мадера, точно, даже горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки, в надежде, что всё вынесут русские желудки. Потом Ноздрев велел еще принесть какую-то особенную бутылку, которая, по словам его, была и бургоньон и шампаньон вместе. Он наливал очень усердно в оба стакана, и направо и налево, и зятю и Чичикову; Чичиков заметил, однако же, как-то вскользь, что самому себе он не много прибавлял. Это заставило его быть осторожным, и как только Ноздрев как-нибудь заговаривался или наливал зятю, он опрокидывал в ту же минуту свой стакан в тарелку. В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в которой, к изумлению, слышна была сивушища во всей своей силе. Потом пили какой-то бальзам, носивший такое имя, которое даже трудно было припомнить, да и сам хозяин в другой раз назвал его уже другим именем. Обед давно уже кончился, и вина были перепробованы, но гости всё еще сидели за столом. Чичиков никак не хотел заговорить с Ноздревым при зяте насчет главного предмета. Все-таки зять был человек посторонний, а предмет требовал уединенного и дружеского разговора. Впрочем, зять вряд ли мог быть человеком опасным, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и, сидя на стуле, ежеминутно клевался носом. Заметив и сам, что находился не в надежном состоянии, он стал наконец отпрашиваться домой, но таким ленивым и вялым голосом, как будто бы, по русскому выражению, натаскивал клещами на лошадь хомут. — И ни-ни! не пущу! — сказал Ноздрев. — Нет, не обижай меня, друг мой, право, поеду, — говорил зять, — ты меня очень обидишь. — Пустяки, пустяки! мы соорудим сию минуту банчишку. — Нет, сооружай, брат, сам, а я не могу, жена будет в большой претензии, право, я должен ей рассказать о ярмарке. Нужно, брат, право, нужно доставить ей удовольствие. Нет, ты не держи меня! — Ну ее, жену, к...! важное в самом деле дело станете делать вместе! — Нет, брат! она такая почтенная и верная! Услуги оказывает такие... поверишь, у меня слезы на глазах. Нет, ты не держи меня; как честный человек, поеду. Я тебя в этом уверяю по истинной совести. — Пусть его едет, что в нем проку! — сказал тихо Чичиков Ноздреву. — А и вправду! — сказал Ноздрев. — Смерть не люблю таких растепелей! — и прибавил вслух: — Ну, черт с тобою, поезжай бабиться с женою, фетюк! — Нет, брат, ты не ругай меня фетюком, — отвечал зять, — я ей жизнью обязан. Такая, право, добрая, милая, такие ласки оказывает... до слез разбирает; спросит, что видел на ярмарке, нужно всё рассказать, такая, право, милая. — Ну поезжай, ври ей чепуху! Вот картуз твой. — Нет, брат, тебе совсем не следует о ней так отзываться; этим ты, можно сказать, меня самого обижаешь, она такая милая. — Ну, так и убирайся к ней скорее! — Да, брат, поеду, извини, что не могу остаться. Душой рад бы был, но не могу. Зять еще долго повторял свои извинения, не замечая, что сам уже давно сидел в бричке, давно выехал за ворота и перед ним давно были одни пустые поля. Должно думать, что жена не много слышала подробностей о ярмарке. — Такая дрянь! — говорил Ноздрев, стоя перед окном и глядя на уезжавший экипаж. — Вон как потащился! конек пристяжной недурен, я давно хотел подцепить его. Да ведь с ним нельзя никак сойтиться. Фетюк, просто фетюк! Засим вошли они в комнату. Порфирий подал свечи, и Чичиков заметил в руках хозяина неизвестно откуда взявшуюся колоду карт. — А что, брат, — говорил Ноздрев, прижавши бока колоды пальцами и несколько погнувши ее, так что треснула и отскочила бумажка. — Ну, для препровождения времени, держу триста рублей банку! Но Чичиков прикинулся, как будто и не слышал, о чем речь, и сказал, как бы вдруг припомнив: — А! чтоб не позабыть: у меня к тебе просьба. — Какая? — Дай прежде слово, что исполнишь. — Да какая просьба? — Ну, да уж дай слово! — Изволь. — Честное слово? — Честное слово. — Вот какая просьба: у тебя есть, чай, много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии? — Ну есть, а что? — Переведи их на меня, на мое имя. — А на что тебе? — Ну да мне нужно. — Да на что? — Ну да уж нужно... уж это мое дело, — словом, нужно. — Ну уж, верно, что-нибудь затеял. Признайся, что? — Да что ж затеял? из этакого пустяка и затеять ничего нельзя. — Да зачем же они тебе? — Ох, какой любопытный! ему всякую дрянь хотелось бы пощупать рукой, да еще и понюхать! — Да к чему ж ты не хочешь сказать? — Да что же тебе за прибыль знать? ну, просто так пришла фантазия. — Так вот же: до тех пор, пока не скажешь, не сделаю! — Ну вот видишь, вот уж и нечестно с твоей стороны: слово дал, да и на попятный двор. — Ну, как ты себе хочешь, а не сделаю, пока не скажешь, на что. «Что бы такое сказать ему?» — подумал Чичиков и после минутного размышления объявил, что мертвые души нужны ему для приобретения весу в обществе, что он поместьев больших не имеет, так до того времени хоть бы какие-нибудь душонки. — Врешь, врешь! — сказал Ноздрев, не давши окончить. — Врешь, брат! Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко и предлог довольно слаб. — Ну, так я ж тебе скажу прямее, — сказал он, поправившись, — только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумал жениться; но нужно тебе знать, что отец и мать невесты преамбиционные люди. Такая, право, комиссия: не рад, что связался, хотят непременно, чтобы у жениха было никак не меньше трехсот душ, а так как у меня целых почти полутораста крестьян недостает... — Ну врешь! врешь! — закричал опять Ноздрев. — Ну вот уж здесь, — сказал Чичиков, — ни вот на столько не солгал, — и показал большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть. — Голову ставлю, что врешь! — Однако ж это обидно! что же я такое в самом деле! почему я непременно лгу? — Ну да ведь я знаю тебя: ведь ты большой мошенник, позволь мне это сказать тебе по дружбе! Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве. Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком высокого звания. И потому теперь он совершенно обиделся. — Ей-Богу, повесил бы, — повторил Ноздрев, — я тебе говорю это откровенно, не с тем чтобы тебя обидеть, а просто по-дружески говорю. — Всему есть границы, — сказал Чичиков с чувством достоинства. — Если хочешь пощеголять подобными речами, так ступай в казармы. — И потом присовокупил: — Не хочешь подарить, так продай. — Продать! Да ведь я знаю тебя, ведь ты подлец, ведь ты дорого не дашь за них? — Эх, да ты ведь тоже хорош! смотри ты! что они у тебя бриллиантовые, что ли? — Ну, так и есть. Я уж тебя знал. — Помилуй, брат, что ж у тебя за жидовское побуждение! Ты бы должен просто отдать мне их. — Ну, послушай, чтоб доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу. — Помилуй, на что ж мне жеребец? — сказал Чичиков, изумленный в самом деле таким предложением. — Как на что? да ведь я за него заплатил десять тысяч, а тебе отдаю за четыре. — Да на что мне жеребец? завода я не держу. — Да послушай, ты не понимаешь: ведь я с тебя возьму теперь всего только три тысячи, а остальную тысячу ты можешь заплатить мне после. — Да не нужен мне жеребец, Бог с ним! — Ну, купи каурую кобылу. — И кобылы не нужно. — За кобылу и за серого коня, которого ты у меня видел, возьму я с тебя только две тысячи. — Да не нужны мне лошади. — Ты их продашь, тебе на первой ярмарке дадут за них втрое больше. — Так уж лучше ж ты их сам продай, когда уверен, что выиграешь втрое. — Я знаю, что выиграю, да мне хочется, чтобы и ты получил выгоду. Чичиков поблагодарил за расположение и напрямик отказался и от серого коня и от каурой кобылы. — Ну так купи собак. Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже подирает! брудастая, с усами, шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость ребр уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет. — Да зачем мне собаки? я не охотник. — Да мне хочется, чтобы у тебя были собаки. Послушай, если уж не хочешь собак, так купи у меня шарманку, чудная шарманка; самому, как честный человек, обошлась в полторы тысячи: тебе отдаю за девятьсот рублей. — Да зачем же мне шарманка? Ведь я не немец, чтобы, тащася с ней по дорогам, выпрашивать деньги. — Да ведь это не такая шарманка, как носят немцы. Это орган; посмотри нарочно: вся из красного дерева. Вот я тебе покажу ее еще! — Здесь Ноздрев, схвативши за руку Чичикова, стал тащить его в другую комнату, и как тот ни упирался ногами в пол и ни уверял, что он знает уже, какая шарманка, но должен был услышать еще раз, каким образом поехал в поход Мальбруг. — Когда ты не хочешь на деньги, так вот что, слушай: я тебе дам шарманку и все, сколько ни есть у меня, мертвые души, а ты мне дай свою бричку и триста рублей придачи. — Ну вот еще, а я-то в чем поеду? — Я тебе дам другую бричку. Вот пойдем в сарай, я тебе покажу ее! Ты ее только перекрасишь, и будет чудо бричка. «Эк его неугомонный бес как обуял!» — подумал про себя Чичиков и решился во что бы то ни стало отделаться от всяких бричек, шарманок и всех возможных собак, несмотря на непостижимую уму бочковатость ребр и комкость лап. — Да ведь бричка, шарманка и мертвые души, всё вместе! — Не хочу, — сказал еще раз Чичиков. — Отчего ж ты не хочешь? — Оттого, что просто не хочу, да и полно. — Экой ты, право, такой! с тобой, как я вижу, нельзя, как водится между хорошими друзьями и товарищами, такой, право!.. Сейчас видно, что двуличный человек! — Да что же я, дурак, что ли? ты посуди сам: зачем же приобретать вещь, решительно для меня ненужную? — Ну уж, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя знаю. Такая, право, ракалия! Ну, послушай, хочешь метнем банчик? Я поставлю всех умерших на карту, шарманку тоже. — Ну, решаться в банк, значит подвергаться неизвестности, — говорил Чичиков и между тем взглянул искоса на бывшие в руках у него карты. Обе талии ему показались очень похожими на искусственные, и самый крап глядел весьма подозрительно. — Отчего ж неизвестности? — сказал Ноздрев. — Никакой неизвестности! будь только на твоей стороне счастие, ты можешь выиграть чертову пропасть. Вон она! экое счастье! — говорил он, начиная метать для возбуждения задору. — Экое счастье! экое счастье! вон: так и колотит! вот та проклятая девятка, на которой я всё просадил! Чувствовал, что продаст, да уже, зажмурив глаза, думаю себе: «Черт тебя побери, продавай, проклятая!» Когда Ноздрев это говорил, Порфирий принес бутылку. Но Чичиков отказался решительно как играть, так и пить. — Отчего ж ты не хочешь играть? — сказал Ноздрев. — Ну оттого, что не расположен. Да, признаться сказать, я вовсе не охотник играть. — Отчего ж не охотник? Чичиков пожал плечами и прибавил: — Потому что не охотник. — Дрянь же ты! — Что ж делать? так Бог создал. — Фетюк просто! Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким... никакого прямодушия, ни искренности! совершенный Собакевич, такой подлец! — Да за что же ты бранишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне душ одних, если уж ты такой человек, что дрожишь из-за этого вздору. — Черта лысого получишь! хотел, было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же! Хоть три царства давай, не отдам! Такой шильник, печник гадкий! С этих пор с тобой никакого дела не хочу иметь. Порфирий, ступай скажи конюху, чтобы не давал овса лошадям его, пусть их едят одно сено. Последнего заключения Чичиков никак не ожидал. — Лучше б ты мне просто на глаза не показывался! — сказал Ноздрев. Несмотря, однако ж, на такую размолвку, гость и хозяин поужинали вместе, хотя на этот раз не стояло на столе никаких вин с затейливыми именами. Торчала одна только бутылка с каким-то кипрским, которое было то, что называют кислятина во всех отношениях. После ужина Ноздрев сказал Чичикову, отведя его в боковую комнату, где была приготовлена для него постель: — Вот тебе постель! Не хочу и доброй ночи желать тебе! Чичиков остался по уходе Ноздрева в самом неприятном расположении духа. Он внутренне досадовал на себя, бранил себя за то, что к нему заехал и потерял даром время. Но еще более бранил себя за то, что заговорил с ним о деле, поступил неосторожно, как ребенок, как дурак: ибо дело совсем не такого роду, чтобы быть вверену Ноздреву... Ноздрев человек-дрянь, Ноздрев может наврать, прибавить, распустить черт знает что, выйдут еще какие-нибудь сплетни — нехорошо, нехорошо. «Просто дурак я», — говорил он сам себе. Ночь спал он очень дурно. Какие-то маленькие пребойкие насекомые кусали его нестерпимо больно, так что он всей горстью скреб по уязвленному месту, приговаривая: «А, чтоб вас черт побрал вместе с Ноздревым!» Проснулся он ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, отправиться через двор в конюшню приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате, с трубкою в зубах. Ноздрев приветствовал его по-дружески и спросил, каково ему спалось. — Так себе, — отвечал Чичиков весьма сухо. — А я, брат, — говорил Ноздрев, — такая мерзость лезла всю ночь, что гнусно рассказывать, и во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Представь: снилось, что меня высекли, ей-ей! и вообрази, кто? Вот ни за что не угадаешь: штабс-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым. «Да, — подумал про себя Чичиков, — хорошо бы, если б тебя отодрали наяву». — Ей-Богу! да пребольно! Проснулся: черт возьми, в самом деле что-то почесывается, — верно, ведьмы блохи. Ну, ты ступай теперь одевайся, я к тебе сейчас приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика. Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкою рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина; кажется, половая щетка не притрогивалась вовсе. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола видна даже была на скатерти. Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирюльным вывескам, или выстриженных под гребенку. — Ну, так как же думаешь? — сказал Ноздрев, немного помолчавши. — Не хочешь играть на души? — Я уже сказал тебе, брат, что не играю; купить — изволь, куплю. — Продать я не хочу, это будет не по-приятельски. Я не стану снимать плевы с черт знает чего. В банчик — другое дело. Прокинем хоть талию! — Я уже сказал, что нет. — А меняться не хочешь? — Не хочу. — Ну, послушай, сыграем в шашки, выиграешь — твои все. Ведь у меня много таких, которых нужно вычеркнуть из ревизии. Эй, Порфирий, принеси-ка сюда шашечницу. — Напрасен труд, я не буду играть. — Да ведь это не в банк; тут никакого не может быть счастия или фальши: все ведь от искусства; я даже тебя предваряю, что я совсем не умею играть, разве что-нибудь мне дашь вперед. «Сем-ка я, — подумал про себя Чичиков, — сыграю с ним в шашки! В шашки игрывал я недурно, а на штуки ему здесь трудно подняться». — Изволь, так и быть, в шашки сыграю. — Души идут в ста рублях! — Зачем же? довольно, если пойдут в пятидесяти. — Нет, что ж за куш пятьдесят? Лучше ж в эту сумму я включу тебе какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку к часам. — Ну, изволь! — сказал Чичиков. — Сколько же ты мне дашь вперед? — сказал Ноздрев. — Это с какой стати? Конечно, ничего. — По крайней мере пусть будут мои два хода. — Не хочу, я сам плохо играю. — Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая тоже шашку. — Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, выступая шашкой. — Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая шашку. — Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, подвигая шашку, да в то же самое время подвинул обшлагом рукава и другую шашку. — Давненько не брал я в руки!.. Э, э! это, брат, что? отсади-ка ее назад! — говорил Чичиков. — Кого? — Да шашку-то, — сказал Чичиков и в то же время увидел почти перед самым носом своим и другую, которая, как казалось, пробиралась в дамки; откуда она взялась, это один только Бог знал. — Нет, — сказал Чичиков, вставши из-за стола, — с тобой нет никакой возможности играть! Этак не ходят, по три шашки вдруг! — Отчего же по три? Это по ошибке. Одна подвинулась нечаянно, я ее отодвину, изволь. — А другая-то откуда взялась? — Какая другая? — А вот эта, что пробирается в дамки? — Вот тебе на, будто не помнишь! — Нет, брат, я все ходы считал и всё помню; ты ее только теперь пристроил. Ей место вон где! — Как, где место? — сказал Ноздрев, покрасневши. — Да ты, брат, как я вижу, сочинитель! — Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно. — За кого ж ты меня почитаешь? — говорил Ноздрев. — Стану я разве плутовать? — Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть с этих пор никогда не буду. — Нет, ты не можешь отказаться, — говорил Ноздрев, горячась, — игра начата! — Я имею право отказаться, потому что ты не так играешь, как прилично честному человеку. — Нет, врешь, ты этого не можешь сказать! — Нет, брат, сам ты врешь! — Я не плутовал, а ты отказаться не можешь, ты должен кончить партию! — Этого ты меня не заставишь сделать, — сказал Чичиков хладнокровно и, подошедши к доске, смешал шашки. Ноздрев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил шага два назад. — Я тебя заставлю играть! Это ничего, что ты смешал шашки, я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были. — Нет, брат, дело кончено, я с тобою не стану играть. — Так ты не хочешь играть? — Ты сам видишь, что с тобою нет возможности играть. — Нет, скажи напрямик, ты не хочешь играть? — говорил Ноздрев, подступая еще ближе. — Не хочу! — сказал Чичиков и поднес, однако ж, обе руки на всякий случай поближе к лицу, ибо дело становилось в самом деле жарко. Эта предосторожность была весьма у места, потому что Ноздрев размахнулся рукой... и очень бы могло статься, что одна из приятных и полных щек нашего героя покрылась бы несмываемым бесчестием; но, счастливо отведши удар, он схватил Ноздрева за обе задорные его руки и держал его крепко. — Порфирий, Павлушка! — кричал Ноздрев в бешенстве, порываясь вырваться. Услыша эти слова, Чичиков, чтобы не сделать дворовых людей свидетелями соблазнительной сцены, и вместе с тем чувствуя, что держать Ноздрева было бесполезно, выпустил его руки. В это самое время вошел Порфирий и с ним Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно. — Так ты не хочешь оканчивать партии? — говорил Ноздрев. — Отвечай мне напрямик! — Партии нет возможности оканчивать, — говорил Чичиков и заглянул в окно. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая, а Селифан ожидал, казалось, мановения, чтобы подкатить под крыльцо, но из комнаты не было никакой возможности выбраться: в дверях стояли два дюжих крепостных дурака. — Так ты не хочешь доканчивать партии? — повторил Ноздрев с лицом, горевшим, как в огне. — Если б ты играл, как прилично честному человеку. Но теперь не могу. — А! так ты не можешь, подлец! когда увидел, что не твоя берет, так и не можешь! Бейте его! — кричал он исступленно, обратившись к Порфирию и Павлушке, а сам схватил в руку черешневый чубук. Чичиков стал бледен как полотно. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что губы его шевелились без звука. — Бейте его! — кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость. — Бейте его! — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: «Ребята, вперед!» — какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор, все пошло кругом в голове его; перед ним носится Суворов, он лезет на великое дело. «Ребята, вперед!» — кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа, что миллионы ружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за облака крепостных стен, что взлетит, как пух, на воздух его бессильный взвод и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовала такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал было защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его, уже, зажмурив глаза, ни жив ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего хозяина, и Бог знает чего бы ни случилось с ним; но судьбам угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные части нашего героя. Неожиданным образом звякнули вдруг, как с облаков, задребезжавшие звуки колокольчика, раздался ясно стук колес подлетевшей к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных коней остановившейся тройки. Все невольно глянули в окно: кто-то, с усами, в полувоенном сюртуке, вылезал из телеги. Осведомившись в передней, вошел он в ту самую минуту, когда Чичиков не успел еще опомниться от своего страха и был в самом жалком положении, в каком когда-либо находился смертный. — Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев? — сказал незнакомец, посмотревши в некотором недоумении на Ноздрева, который стоял с чубуком в руке, и на Чичикова, который едва начинал оправляться от своего невыгодного положения. — Позвольте прежде узнать, с кем имею честь говорить? — сказал Ноздрев, подходя к нему ближе. — Капитан-исправник. — А что вам угодно? — Я приехал вам объявить сообщенное мне извещение, что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу. — Что за вздор, по какому делу? — сказал Ноздрев. — Вы были замешаны в историю, по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде. — Вы врете! я и в глаза не видал помещика Максимова! — Милостивый государь! позвольте вам доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, а не мне! Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее за шапку да по-за спиною капитана-исправника выскользнул на крыльцо, сел в бричку и велел Селифану погонять лошадей во весь дух.Ноздрев был третьим помещиком, которого навестил Чичиков. Правда, познакомились они не в имении хозяина, а в трактире при большой дороге. После этого Ноздрев уговорил Чичикова поехать к нему в гости. Как только они зашли во двор, хозяин сразу же начал показывать свою конюшню, где были две кобылы – одна серая в яблоках, а другая каурая, и гнедой жеребец, «на вид неказистый». Потом помещик показал свои стойла, «где были прежде очень хорошие лошади», но там был только козел, которого, по старому поверью, «почитали необходимым держать при лошадях». Дальше последовал волчонок на привязи, которого он кормил только сырым мясом, дабы тот был «совершенным зверем».
В пруду, по словам Ноздрева, водилась такая рыба, «что два человека с трудом вытаскивали штуку», а собак, которые находились в маленьком домике, окруженном «большим загороженным со всех сторон двором» было просто немерено. Они были разных пород и мастей: густопсовые и чистопсовые, муругие, черные с подпалинами, черноухие, сероухие, а также имели клички в повелительном наклонении: «стреляй», «обругай», «припекай», «порхай» и т.д. Ноздрев был среди них «как отец родной». Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была слепа, а после нее – водяную мельницу, «где недоставало порхлицы, в которую утверждается верхний камень». После этого Ноздрев повел Чичикова полем, на котором «русаков такая гибель, что земли не видно», где пришлось пробираться «между перелогами и взбороненными нивами», постоянно идя по грязи, так как местность была очень низкая. Пройдя поле, хозяин показал границы: «все это мое, по эту сторону и даже по ту, весь этот лес, и все, что за лесом».
Мы видим, что Ноздрев совершенно не интересуется своим хозяйством, единственная сфера его интересов – это охота. У него есть лошади, но не для вспахивания поля, а для езды верхом; также он содержит множество охотничьих собак, среди которых он «как отец родной» среди большого семейства. Перед нами помещик, лишенный истинных человеческих качеств. Показывая свое поле, Ноздрев хвастается своими владениями и «русаками», а не урожаем.
В доме Ноздрева «не было никакого приготовления» к принятию гостей. Посередине столовой стояли деревянные козлы, на которых два мужика белили стены, а весь пол был обрызган белилами. Потом помещик повел Чичикова в свой кабинет, который, впрочем, даже не напоминал кабинет: там не было и следов книг или бумаги; зато висели «сабли и два ружья одно в триста, а другое в восемьсот рублей». Потом пошли турецкие кинжалы, «на одном из которых по ошибке было вырезано: «Мастер Савелий Сибиряков», а после них трубки – «деревянные, глиняные, пенковые, обкуренные и необкуренные, обтянутые замшею и необтянутые, чубук с янтарным мундштуком, недавно выигранный, кисет, вышитый какою-то графинею…».
Домашняя обстановка в полной мере отражает сумбурный характер Ноздрева. Дома у него все бестолково: посередине столовой стоят козлы, в кабинете нет книг и бумаг и т.д. Мы видим, что Ноздрев – не хозяин. По кабинету явно заметно увлечение охотой, показан воинственный дух владельца. Также автор подчеркивает, что Ноздрев – большой хвастун, о чем можно сказать по турецкому кинжалу с надписью «Мастер Савелий Сибиряков», по пруду, в котором якобы водится огромная рыба, по «бесконечности» его владений и т.д.
Иногда у Гоголя одна вещь символизирует весь характер человека. В данном случае это шарманка. Сначала она играла песню «Мальбруг в поход поехал», после нее постоянно переключалась на другие. В ней была одна дудка, «очень бойкая, никак не хотевшая угомониться», которая еще долго свистела.
И снова мы убеждаемся в том, что бытовое окружение имеет очень большое значение в характеристике образа: шарманка совершенно точно повторяет сущность хозяина, его бессмысленно-задорный нрав: постоянное перескакивание с песни на песню показывает сильные беспричинные перемены настроения Ноздрева, его непредсказуемость, вредность. Он неугомонный, озорной, буйный, готовый в любой момент без всякой причины напакостить или совершить нечто непредвиденное и необъяснимое. Даже блохи в доме Ноздрева, всю ночь нестерпимо кусавшие Чичикова, «пребойкие насекомые». Энергичный, деятельный дух Ноздрева, в противоположность праздности Манилова, тем не менее, лишен внутреннего содержания, абсурден и, в конечном счете, так же мертв.
3 . Характер Ноздрева
Фамилия Ноздрев - метонимия носа (происходит абсурдное двойное отделение: ноздрей от носа, носа - от тела). Ряд пословиц и поговорок соотносится с образом и характером Ноздрева: «совать нос не в свое дело», «любопытной Варваре нос оторвали», «остаться с носом», «держать нос по ветру» (у Гоголя: «Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами…»).
В первой части фразы Гоголь характеризует ноздревых как «хороших и верных товарищей», а затем добавляет: «...и при всем том бывают весьма больно поколачиваемы». Этот тип людей известен на Руси под именем «разбитного малого». С третьего раза они говорят знакомому «ты», на ярмарках покупают все, что в голову ни взбредет: хомутья, курительные свечи, жеребца, платье для няньки, табаку, пистолеты и т.д., бездумно и легко тратят деньги на кутежи и карточные игры, любят приврать и без всякой причины «подгадить» человеку. Источником его доходов, так же как и у других помещиков, служат крепостные крестьяне. Такие качества Ноздрева, как наглое вранье, хамское отношение к людям, нечестность, бездумье, отражаются в его отрывочной, быстрой речи, в том, что он постоянно перескакивает с одного предмета на другой, в его оскорбительных, бранных, циничных выражениях: «скотовод эдакой», «свинтус ты за это», «такая дрянь». Он постоянно ищет приключений и совсем не занимается хозяйством.
Мацапура В. И. д.ф.н., проф. Полтавского гос. пед. ун-та - г. Полтава (Украина) / 2009
Гоголь относится к тем творцам, которых интересовали мелочи и для которых они были художественно значимы. В седьмой главе «Мертвых душ» он упоминает о судьбе непризнанного писателя, который дерзнул «вызвать наружу <...> всю страшную, потрясающую тину мелочей (курсив мой — В. М.), опутавших нашу жизнь» (VI, 134). В данном и во многих других случаях под словом «мелочи» подразумеваются детали. Подобное словоупотребление не было случайным, ведь слово «деталь» в переводе с французского языка означает «подробность», «мелочь».
Гоголевские детали, как правило, яркие и запоминающиеся. Детализация изображаемого - одна из характерных особенностей стиля писателя. Однако в целом о роли подробностей и мелочей в поэме Гоголя написано не так уж много. Их значение в художественной структуре гоголевской поэмы одним из первых подчеркнул Андрей Белый. Исследователь считал, что «анализировать сюжет „Мертвых душ“ - значит: минуя фикцию фабулы, ощупывать мелочи, в себя вобравшие: и фабулу, и сюжет...» .
Интерес к гоголевской детали, в частности к предметному миру его произведений, нашел отражение работах В. Б. Шкловского, А. П. Чудакова, М. Я. Вайскопфа, Е. С. Добина, А. Б. Есина, Ю. В. Манна и других исследователей. Однако проблема изучения роли деталей в творчестве писателя далеко не исчерпана. Сосредоточим внимание на таких деталях, которые проходят через весь текст первого тома поэмы и имеют лейтмотивный характер, в частности, на мелочах, связанных с образом Чичикова, случайных персонажей, а также с мотивами еды, питья и карточной игры.
Писатель умышленно стремился к тому, чтобы детали текста запомнились читателю. Он прибегал к повторам, упоминая о той или иной детали в разных вариациях. Четкая маркировка героев соединяется в гоголевской поэме с детальным описанием внешности и интерьера. И это не случайно, ведь «язык искусства, - язык детали» . Каждый из образов, играющих заметную роль в сюжете поэмы, раскрывается при помощи целой системы характеристических деталей. Гоголь сознавался в «Авторской исповеди», что мог угадывать человека только тогда, когда представлял «самые мельчайшие подробности его внешности» (VIII, 446). Так, детали портрета Чичикова указывают на черты усредненности и неопределенности в его характере («не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, ни слишком тонок...») (VI, 7). Рассматривая роль приема фикции в поэме Гоголя «Мертвые души», Андрей Белый справедливо указывает, что определения «несколько», «ни много, ни мало», «до некоторой степени» не определяют, а явление Чичикова в первой главе - «эпиталама безличию <...> явление круглого общего места, спрятанного в бричку» . Это «общее место» означено в поэме деталями. Так, повторяющаяся деталь внешности героя - «фрак брусничного цвета с искрой» - напоминает о его желании выделиться, быть замеченным, что соответствует его «наполеоновским» планам. В костюме Чичикова обращают на себя внимание такие детали, как «белые воротнички», «щегольской лаковый полусапожек, застегнутый на перламутровые пуговицы», «синий галстук», «новомодные манишки», «бархатный жилет». Мозаика портрета героя складывается постепенно и состоит из отдельных мелочей. О его духовных запросах и интересах сказано вскользь, мимоходом и не так детально, как описана, например, поглощаемая им еда или то, как он мылся мокрой губкой, тер мылом щеки, «вспрыскивал» себя одеколоном, менял белье и т. д. В конце седьмой главы изрядно выпивший Чичиков, который «перечокался со всеми», неожиданно начинает читать Собакевичу послание в стихах Вертера к Шарлотте" (VI, 152-153), имеется ввиду стихотворение В. И. Туманского «Вертер и Шарлотта (за час перед смертью)», опубликованное в 1819 году в журнале «Благонамеренный» . В десятой главе поэмы упоминается о том, что Чичиков «прочитал даже какой-то том герцогини Лаварьер» (VI, 211). Однако подробности, указывающие на его духовные интересы, единичны. Они не имеют системного характера и, возможно, связаны с планами Гоголя облагородить своих героев во втором томе поэмы.
Чичикова невозможно представить без его крепостных - кучера Селифана и лакея Петрушки, а также без брички, тройки лошадей и шкатулки - «небольшого ларчика красного дерева с штучными выкладками из карельской березы».
В отличие от балаганного Петрушки, русского шута в красном кафтане и красном колпаке, гоголевский Петрушка одет в широкий коричневый сюртук «с барского плеча». Автор акцентирует внимание на таких особенностях внешности героя, как «крупный нос и губы», а также на его страсти к чтению как процессу, на его умении спать, не раздеваясь, и носить свой «особенный воздух», запах, «отзывавшийся несколько жилым покоем». Пара слуг героя обрисована по принципу контраста. Молчаливому Петрушке, делающему все автоматически, противостоит разговорчивый Селифан, который любит выпить. В его уста автор вкладывает пространные высказывания, адресованные своим лошадям.
В детальном описании тройки Чичикова Гоголь активно использует приемы персонификации и антропоморфизма, в частности, наделяет животных человеческими качествами. Так, читатель узнает, что чубарый пристяжной конь «был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везет, тогда как коренной гнедой и пристяжной каурой масти, называвшийся Заседателем, <...> трудилися от всего сердца, так что даже в глазах их было заметно получаемое им от этого удовольствие» (VI, 40). В речах и оценках «словоохотливого» Селифана, читающего наставления лошадям, гнедой - «почтенный конь» и Заседатель - «хороший конь», а чубарый - «панталонник <...> немецкий», «дурак», «невежа», «варвар» и «Бонапарт <...> проклятый». В третьей главе поэмы гнедой и Заседатель - «любезные» и «почтенные», а чубарый - «ворона». Небезынтересно, что Гоголь задолго до Л. Н. Толстого, запечатлевшего «мысли» лошади в рассказе «Холстомер», знакомит читателя с «мыслями» своего чубарого: «Вишь ты, как разнесло его! - думал он сам про себя, несколько припрядывая ушами. - Небось знает, где бить! Не хлыснет прямо по спине, а так и выбирает место, где поживее» (VI, 59).
Образ-вещь - шкатулка Чичикова - также играет важную роль в раскрытии характера героя, поскольку непосредственно связана с его тайной и планами обогащения. Чичиков не прост, его «тайна», как второе дно, раскрывается не сразу, а в конце первого тома романа. «Ларчик красного дерева» также имеет второе дно. Символический характер данного предмета становится очевиден в эпизодах пребывания Чичикова у Коробочки. «Шкатулка - и символ, и реальный предмет, - подчеркивает Андрей Белый, - она план приобретения, таимый в футляре души...» . Шкатулка Чичикова описана автором во всех деталях. Она многоярусна, в верхнем, вынимающемся ящике, - мыльница, «перегородки для бритв», «закоулки для песочницы и чернильницы», «лодочки для перьев, сургучей», а под ними - пространство для бумаг и «маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки» (VI, 56). Абрам Терц замечает, что чудо-шкатулка Чичикова, составляющая главный предмет его багажа и обожания «напоминает волшебный ящик в сказке, куда без труда укладывается целое войско, а то и все обширное царство-государство странствующего царевича» . В седьмой главе поэмы Чичиков просыпается с мыслью о том, что «у него теперь без малого четыреста душ». Он просматривает записки помещиков с именами и прозвищами выкупленных мужиков и приходит в умиление: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! Что вы, сердечные проделывали на веку своем? Как перебивались?» (VI, 136). Мертвые мужики предстают здесь как живые, а в патетических описаниях Петра Савельева Неурожай-Корыто, Степана Пробки, Максима Телятникова голос автора и голос героя сливаются воедино.
Объектом фокализации в гоголевской поэме неоднократно становятся еда и напитки. Художественная детализация еды является одним из лейтмотивов гоголевской поэмы. Начиная с первых страниц, в «Мертвых душах» детально описывается, что ели и пили персонажи произведения. Так, уже в первой главе поэмы читатель узнает, какие блюда обычно подавали в трактирах: «щи с слоеным пирожком <...>, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый» и т. д. (VI, 9). В этих и других описаниях сказалось, очевидно, не только влияние античных авторов, но и И. П. Котляревского, который в своей «Энеиде» дает длинные каталоги яств и напитков, поглощаемых героями.
В четвертой главе поэмы, размышляя о «господах средней руки» и об их желудках, автор описывает, что они ели в трактирах: «на одной станции потребуют ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком и потом как ни в чем не бывало садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них между зубами, заедаемая расстегаем и кулебякой с сомовьим плесом...» (VI, 61). К таким господам принадлежит и Чичиков, который, остановившись в трактире, заказывает себе поросенка с хреном и со сметаною.
Приемом пищи, как правило, начинается или завершается операция Чичикова по покупке мертвых душ. Например, у бесхозяйственного Манилова все «просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца» (VI, 30). Гораздо богаче обед у Коробочки, которая предложила гостю «грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с луком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками» (VI, 56-57). Перечень блюд в данном случае свидетельствует о хозяйственности и изобретательности помещицы. Во время чаепития у Коробочки Чичиков сам вливает «фруктовую» в чашку с чаем. Это не случайная сюжетная деталь. Она свидетельствует о том, что герой решил не церемониться с хозяйкой.
Примечательно, что в разговоре с Коробочкой детализируется мотив пьянства. Хозяйственная помещица жалуется на то, что у нее «сгорел» кузнец: «Внутри у него как-то загорелось, чересчур выпил, только синий огонек пошел от него, весь истлел, истлел и почернел, как уголь...» (VI, 51). Автор никак не комментирует данный эпизод, но он красноречиво свидетельствует о том, как пили крепостные. Гоголь мастерски передает интонацию речи выпившего Селифана, которого угостили дворовые люди Манилова. В ответ на обвинения Чичикова («Ты пьян как сапожник!») кучер произносит монолог, замедленный и алогичный: «Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян! Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, в том нет худого; и закусили вместе. Закуска не обидное дело; с хорошим человеком можно закусить» (VI, 43). То, что Селифан «подгулял», имело свои последствия: он сбился с дороги, бричка опрокинулась, Чичиков «шлепнулся» в грязь, а в итоге в поэме появился неожиданный поворот в развитии действия - путники попали к Коробочке.
В гоголевской поэме пьют и крепостные, и помещики, и чиновники. Ярким доказательством этому является обед у полицеймейстера в седьмой главе поэмы, когда пили «за здоровье нового херсонского помещика», за переселение его крепостных, за здоровье будущей жены и т. д. Автор во всех деталях описывает атмосферу мужской пьянки с многократным «чоканьем», разговорами «обо всем», когда спорили и кричали о политике, о военном деле и даже излагали «вольные мысли». Это единственный эпизод в поэме, в котором Гоголь изображает пьяного Чичикова. Психологически он мотивирован. Совершив «купчую» в гражданской палате, он расслабился и вышел из роли. Херсонские деревни и капиталы причудились ему реальностью. Автор смеется над героем, который «заснул решительно херсонским помещиком». Со всеми подробностями описана процедура раздевания Чичикова, реакция Селифана на бред хозяина, на его приказания «собрать всех вновь переселившихся мужиков, чтобы сделать всем лично поголовную перекличку» (VI, 152). Весь этот эпизод пронизан юмором и комизмом. Гоголь умышленно не называет место, куда пошли слуга и кучер после того, как уснул их барин, но детали его описания красноречиво свидетельствуют о том, что это был трактир. «Что делали там Петрушка с Селифаном, бог их ведает, но вышли они оттуда через час, взявшись за руки, сохраняя совершенное молчание, оказывая друг другу большое внимание и предостерегая взаимно от всяких углов. Рука в руку, не выпуская друг друга, они целые четверть часа взбирались на лестницу» (VI, 153). До Гоголя никто в русской литературе не описывал так подробно процесс пьянства и его результаты.
Характеристическую функцию выполняют подробности угощения, предложенного Ноздревым. Описывая обед в его доме, автор подчеркивает, что блюда не играли большой роли в жизни данного персонажа («кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось»), зато дает длинный перечень напитков, которые Ноздрев предлагает гостю. «...Еще не подавали супа, он уже налил гостям по большому стакану портвейна и по другому госотерна...» (VI, 75), потом принесли бутылку мадеры, которую «заправляли» ромом, «а иной раз вливали туда и царской водки», затем последовал «бургуньон и шампиньон вместе», рябиновка, бальзам и т. д. Все детали данного перечня говорят о пристрастии Ноздрева к спиртным напиткам. У героя своя шкала ценностей, а предметом его хвастовства является не только карточная игра, но и то, что и в каких количествах он пил. «Веришь ли, что я один в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского!», - хвастается Ноздрев Чичикову (VI, 65).
Застолье у Собакевича, наоборот, свидетельствует о том, что именно еда является главным удовольствием и смыслом его жизни. По обилию блюд, по отношению к ним героя обед у Собакевича напоминает обед у Петра Петровича Петуха во втором томе «Мертвых душ». Описывая «закуску», предшествовавшую обеду, автор подчеркивает, что гость и хозяин «выпили как следует по рюмке водки» и закусили так, «как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням», то есть рюмка водки заедалась «всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями» (VI, 97). После закуски герои последовали в столовую, и здесь в фокусе авторского внимания оказывается не столько количество и качество блюд, сколько то, как ест герой и как он расхваливает достоинства своей домашней кухни, предпочитая ее французским и немецким выдумкам. Так, похвалив щи и съев «огромный кусок няни», хозяин предлагает гостю: «Возьмите барана, <...> - это бараний бок с кашей! Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины, какая суток по четыре на рынке валяется! <...> он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал, до последней косточки» (VI, 91-92). После бараньего бока были ватрушки «больше тарелки», «индюк ростом с теленка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печенками и невесть чем» (VI, 99-100). В описании обеда у Собакевича Гоголь активно использует прием гиперболизации, а также детализации, которая кажется излишней. Однако множество подробностей свидетельствует о том, что своя «куча» есть и у Собакевича - это куча еды, разнообразных блюд, каждое из которых отличается большими размерами.
Пристрастие Собакевича к еде акцентируется и в других эпизодах романа, например, на обеде у полицеймейстера, на котором гости, приступив к еде, «стали обнаруживать, как говорится, каждый свой характер и склонности, налегая кто на икру, кто на семгу, кто на сыр» (VI, 150). На этом фоне автор крупным планом изображает Собакевича, обращая внимание читателя на то, как он еще до начала обеда «наметил» осетра, лежащего в стороне на большом блюде, как «пристроился к осетру» и как «в четверть часа с небольшим доехал его всего». А когда полицеймейстер вспомнил об осетре и увидел, что от него остался только хвост, Собакевич «пришипился», как будто и не он его съел, «и, подошедши к тарелке, которая была подальше прочих, тыкал вилкой в какую-то сушеную маленькую рыбку» (VI, 150-151). В деталях данного эпизода, в частности в поведении Собакевича, в реакции полицмейстера на это поведение, раскрывается не только комизм ситуации, но и характер персонажа.
Совсем иное отношение к еде демонстрирует Плюшкин. Медленное умирание его жизни сказывается не только в запустенье, царившем в его усадьбе, но и в отношении к еде. «Сухарь из кулича» и ликерчик, который еще покойница-жена делала, - это все, что он может предложить гостю. Однако даже такое странное поведение героя свидетельствует о том, что хозяин имения помнил о старинных русских обычаях, в частности о законе гостеприимства.
Художественная детализация как прием реализуется также в описаниях обстановки и хода карточной игры, которые по-своему важны в изображении помещичьего и чиновничьего быта в «Мертвых душах» Гоголя. На протяжении первого тома поэмы писатель неоднократно возвращается к мотиву карточной игры, которая расценивается как естественное и привычное занятие помещиков и чиновников в часы досуга. В первой главе поэмы автор знакомит читателя с тем, как играли в вист в доме губернатора. Вист относится к коммерческим играм. Ю. М. Лотман указывает, что в вист играли степенные и солидные люди . Присоединившись к «толстым», Чичиков оказался в отдельной комнате, где ему «всунули карту на вист». Играющие «сели за зеленый стол и уже не вставали до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда наконец предаются занятию дельному. Хотя почтмейстер был очень речист, но и тот, взявши в руки карты, тот же час выразил на лице своем мыслящую физиономию...» (VI, 16). Автор не входит в детали игры, зато подробно описывает, что «приговаривали» играющие, ударяя картой по столу: «...Если была дама: „Пошла, старая попадья!“, если же король: „Пошел, тамбовский мужик!“» и т. д. (VI, 16). Измененные названия карт, которыми они «перекрестили» масти в своем обществе - «черви! червоточина! пикенция!» или: «пикендрас! пичурущух! «пичура!» и т. д., подчеркивают провинциальный характер чиновничьего быта, а обилие восклицательных знаков передает накал страстей во время игры.
Примечательно, что знакомство Чичикова с Ноздревым происходит во время карточной игры у полицеймейстера, «где с трех часов после обеда засели в вист и играли до двух часов ночи». То, что Ноздрев - заядлый картежник и плут, выяснится позже, но уже в первой главе поэмы появляются настораживающие подробности, характеризующие его как игрока. Несмотря на то, что он со всеми был на «ты», «когда сели играть в большую игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякою картою, с которой он ходил» (VI, 17).
Как азартный игрок, Ноздрев раскрывается в нескольких эпизодах четвертой главы поэмы. Встретившись с Чичиковым в трактире, он сообщает, что «продулся в пух»: «Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался. Ведь я на обывательских приехал. <...> Не только убухал четырех рысаков - просто все спустил. Ведь на мне нет ни цепочки, ни часов...» (VI, 64). Ноздрев играет в азартные игры и надеется на случай. Свои неудачи он тоже объясняет волей случая: «Не загни я после пароле на проклятой семерке утку, я бы мог сорвать весь банк» (VI, 64). Речь данного персонажа пестрит картежной терминологией: «играть дублетом», «в фортунку кутнул», «и в гальбик, и в банчишку, и во все что хочешь». В авторских характеристиках картежного шулера подчеркивается, что он «спорил и заводил сумятицу за зеленым столом <...>. В картишки <...> играл он не совсем безгрешно и чисто...» (VI, 70). Одним из доказательств шулерских махинаций героя является описание того, как он на протяжении четырех дней не выходил из комнаты, занимаясь «делом», требующим большой внимательности. Дело это «состояло в подбирании из нескольких десятков дюжин карт одной „талии“, но самой меткой, на которую можно было бы понадеяться как на вернейшего друга» (VI, 208). Ноздрев - игрок не только за карточным столом, но и в жизни, о чем свидетельствуют детали его поведения.
Есть в гоголевской поэме эпизод, в котором описание карточной игры выполняет психологическую функцию. Это эпизод, когда Чичиков после «разоблачения» Ноздрева, пробуя не думать о случившемся, «присел в вист», чтобы не думать о случившемся. Присутствующие обратили внимание на то, что Павел Иванович, «так тонко разумевший игру», играл плохо: «все пошло, как кривое колесо: два раза сходил он в чужую масть и, позабыв, что по третьей не бьют, размахнулся со всей руки и хватил сдуру свою же» (VI, 173). Плохая игра Чичикова - свидетельство его внутреннего состояния. Рассказчик замечает, что чувствовал он себя так, «будто прекрасно вычищенным сапогом вступил вдруг в грязную вонючую лужу» (VI, 173).
Поэма Гоголя поражает огромным количеством эпизодических персонажей, каждый из которых незабываемо индивидуален, потому что окружен деталями и подробностями. Однако при этом гоголевские эпизодические персонажи, как справедливо заметил А. Б. Есин, «не дают толчков к сюжетному действию, не помогают характеризовать главных героев <...>. Они существуют сами по себе, интересны для автора как самостоятельный объект изображения, а вовсе не в связи с той или иной функцией» . Например, описание въезда Чичикова в губернский город сопровождается упоминанием о двух русских мужиках, размышляющих о колесе и о том, доедет ли оно в Москву или Казань. В дальнейшем повествовании об этих мужиках не будет сказано ни слова. Случайно встретившийся Чичикову молодой человек также описан достаточно подробно: «...В белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушениями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом» (VI, 7). Детали данного описания могут говорить о моде того времени, «тульская булавка» - о месте, где она изготовлена, но при этом они не несут никакой психологической нагрузки, поскольку упомянутый «молодой человек» никогда уже не появится на страницах поэмы. Однако его появление «в кадре» мотивировано желанием автора воссоздать полноту жизни. Автор детально описывает образы слуг, чиновников, городских дам, реальных и умерших мужиков, создавая образ народа и нации, что соответствовало жанровой природе задуманного им произведения.
Детализация изображаемого - характерная особенность свойственной Гоголю манеры письма, которая нашла, пожалуй, наиболее яркое выражение в поэме «Мертвые души». Функции подробностей и мелочей в данном произведении разнообразны: это функции «торможения», «задержания» действия, функции конкретизации времени и места действия, создания фона, в том числе и исторического, функции психологической характеристики персонажей и т. д. Художественные детали у Гоголя, как правило, не единичны. Они объединены в систему и несут на себе значительную смысловую и идейно-художественную нагрузку.
Чичиков остановился в придорожном трактире, заказал поросёнка с хреном и со сметаною и доедал уже последний кусок, когда услышал стук колес подъехавшего экипажа. Из остановившейся у окна брички вылезли двое мужчин. Оба они вошли в трактир, и один из них, чернявый, расставив руки при виде Чичикова, вдруг закричал: «Ба, ба, ба! Какими судьбами?».
Ноздрёв взахлёб говорил, что познакомился на ярмарке с кутилами-драгунами. С особенной теплотой он вспоминал штабс-ротмистра Поцелуева, называвшего вино бордо просто бурдашкой , и поручика Кувшинникова, который не пропускал ни одной дамы, именуя это волокитство: попользоваться насчет клубнички . «Эх, Чичиков, свинтус ты, скотовод эдакой! Я тебя, бестию, знаю – ты бы не расстался с поручиком Кувшинниковым!» – заключил Ноздрёв.
Похождения Чичикова (Ноздрев). Отрывок мультфильма по сюжету «Мертвых душ» Гоголя
Мижуев вскоре запросился домой. После обеда Ноздрёв отпустил его, сказав: поезжай бабиться с женою, фетюк. Оставшись вдвоём с хозяином, Чичиков завёл с ним разговор о мертвых душах.
Но Ноздрёв не соглашался ни подарить, ни продать их, пока гость не расскажет, зачем они ему нужны. «Ведь ты большой мошенник, – заявил он Чичикову. – Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве». Наконец, он пообещал отдать мертвые души, если гость выиграет их у него в карты. В руке Ноздрёва тут же неизвестно как оказалось колода, и Чичикову крап её при первом же взгляде показался подозрительным.
Не договорившись ни о чём, оба они легли спать. На следующее утро Ноздрёв рассказал, что ночью ему снился дурной сон: будто бы штабс-ротмистр Поцелуев с поручиком Кувшинниковым высекли его розгами. «Хорошо бы, если б тебя отодрали наяву», – подумал про себя Чичиков.
Ноздрёв предложил теперь: если Чичиков не хочет карт, можно сыграть под мертвые души в шашки, где ничто не зависит от случая, а лишь от искусства игрока. Ноздрёв обещал прибавить к мертвецам ещё какого-нибудь щенка средней руки. Чичиков, подумав, согласился: в шашки он играл хорошо.
«Давненько не брал я в руки шашек!» – проговорил Чичиков, делая первый ход. «Знаем мы вас, как вы плохо играете!» – ответил Ноздрёв, выступая со своей части доски. После нескольких ходов Чичиков вдруг заметил, как Ноздрёв, делая ход одной шашкой, подвинул вперёд и другую обшлагом рукава. Перед самым своим носом своим он увидел и невесть откуда взявшуюся третью, которая уже пробиралась в дамки. Чичиков возмущённо потребовал, чтобы Ноздрёв осадил их назад. Однако тот, покраснёв от гнева, назвал его «сочинителем» и стал заставлять окончить партию.
По зову Ноздрёва прибежали двое его здоровенных крепостных: Порфирий и Павлушка. «Бейте его!» – кричал им Ноздрёв, показывая на Чичикова. Те двинулись к гостю с угрожающим видом. Чичиков изрядно перетрухнул, но в решающий момент расправу остановил звук подъехавшей к крыльцу тройки.
Вошедший капитан-исправник известил, что Ноздрёва вызывают на суд по делу о нанесении помещику Максимову обиды в пьяном виде розгами. Ноздрёв стал возражать, что он и в глаза не видал помещика Максимова. Воспользовавшись замешательством, Чичиков выскользнул из комнаты, вскочил в свою бричку и велел кучеру Селифану гнать во весь дух.
В рамках проекта "Гоголь. 200 лет" РИА Новости представляет краткое содержание произведения "Мертвые души" Николая Васильевича Гоголя - романа, который сам Гоголь называл поэмой. Сюжет "Мертвых душ" был подсказан Гоголю Пушкиным.
Предлагаемая история, как станет ясно из дальнейшего, произошла несколько вскоре после «достославного изгнания французов». В губернский город NN приезжает коллежский советник Павел Иванович Чичиков (он не стар и не слишком молод, не толст и не тонок, внешности скорее приятной и несколько округлой) и поселяется в гостинице. Он делает множество вопросов трактирному слуге — как относительно владельца и доходов трактира, так и обличающие в нем основательность: о городских чиновниках, наиболее значительных помещиках, расспрашивает о состоянии края и не было ль «каких болезней в их губернии, повальных горячек» и прочих подобных напастей.
Отправившись с визитами, приезжий обнаруживает необыкновенную деятельность (посетив всех, от губернатора до инспектора врачебной управы) и обходительность, ибо умеет сказать приятное каждому. О себе он говорит как-то туманно (что «испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его», а теперь ищет места для жительства). На домашней вечеринке у губернатора ему удается снискать всеобщее расположение и между прочим свести знакомство с помещиками Маниловым и Собакевичем. В последующие дни он обедает у полицмейстера (где знакомится с помещиком Ноздревым), посещает председателя палаты и вице-губернатора, откупщика и прокурора, — и отправляется в поместье Манилова (чему, однако, предшествует изрядное авторское отступление, где, оправдываясь любовью к обстоятельности, автор детально аттестует Петрушку, слугу приезжего: его страсть к «процессу самого чтения» и способность носить с собой особенный запах, «отзывавшийся несколько жилым покоем»).
Проехав, против обещанного, не пятнадцать, а все тридцать верст, Чичиков попадает в Маниловку, в объятия ласкового хозяина. Дом Манилова, стоящий на юру в окружении нескольких разбросанных по-английски клумб и беседки с надписью «Храм уединенного размышления», мог бы характеризовать хозяина, который был «ни то ни се», не отягчен никакими страстями, лишь излишне приторен.
После признаний Манилова, что визит Чичикова «майский день, именины сердца», и обеда в обществе хозяйки и двух сыновей, Фемистоклюса и Алкида, Чичиков обнаруживает причину своего приезда: он желал бы приобрести крестьян, которые умерли, но еще не заявлены таковыми в ревизской справке, оформив все законным образом, как бы и на живых («закон — я немею перед законом»). Первый испуг и недоумение сменяются совершенным расположением любезного хозяина, и, свершив сделку, Чичиков отбывает к Собакевичу, а Манилов предается мечтам о жизни Чичикова по соседству чрез реку, о возведении посему моста, о доме с таким бельведером, что оттуда видна Москва, и о дружбе их, прознав о которой государь пожаловал бы их генералами.
Кучер Чичикова Селифан, немало обласканный дворовыми людьми Манилова, в беседах с конями своими пропускает нужный поворот и, при шуме начавшегося ливня, опрокидывает барина в грязь. В темноте они находят ночлег у Настасьи Петровны Коробочки, несколько боязливой помещицы, у коей поутру Чичиков также принимается торговать мертвых душ. Объяснив, что сам теперь станет платить за них подать, прокляв бестолковость старухи, обещавшись купить и пеньки и свиного сала, но в другой уж раз, Чичиков покупает у ней души за пятнадцать рублей, получает подробный их список (в коем особенно поражен Петром Савельевым Неуважай-Корыто) и, откушавши пресного пирога с яйцом, блинков, пирожков и прочего, отбывает, оставя хозяйку в большом беспокойстве относительно того, не слишком ли она продешевила.
Выехав на столбовую дорогу к трактиру, Чичиков останавливается закусить, кое предприятие автор снабжает пространным рассуждением о свойствах аппетита господ средней руки. Здесь встречает его Ноздрев, возвращающийся с ярмарки в бричке зятя своего Мижуева, ибо своих коней и даже цепочку с часами — все проиграл. Живописуя прелести ярмарки, питейные качества драгунских офицеров, некоего Кувшинникова, большого любителя «попользоваться насчет клубнички» и, наконец, предъявляя щенка, «настоящего мордаша», Ноздрев увозит Чичикова (думающего разживиться и здесь) к себе, забрав и упирающегося зятя.
Описав Ноздрева, «в некотором отношении исторического человека» (ибо всюду, где он, не обходилось без истории), его владения, непритязательность обеда с обилием, впрочем, напитков сомнительного качества, автор отправляет осовевшего зятя к жене (Ноздрев напутствует его бранью и словом «фетюк»), а Чичикова принуждает обратиться к своему предмету; но ни выпросить, ни купить душ ему не удается: Ноздрев предлагает выменять их, взять в придачу к жеребцу или сделать ставкою в карточной игре, наконец бранится, ссорится, и они расстаются на ночь. С утра возобновляются уговоры, и, согласившись играть в шашки, Чичиков замечает, что Ноздрев бессовестно плутует. Чичикову, коего хозяин с дворнею покушается уже побить, удается бежать ввиду появления капитана-исправника, объявляющего, что Ноздрев находится под судом.
На дороге коляска Чичикова сталкивается с неким экипажем, и, покуда набежавшие зеваки разводят спутавшихся коней, Чичиков любуется шестнадцатилетнею барышней, предается рассуждениям на её счет и мечтам о семейной жизни.
Посещение Собакевича в его крепком, как он сам, поместье сопровождается основательным обедом, обсуждением городских чиновников, кои, по убеждению хозяина, все мошенники (один прокурор порядочный человек, «да и тот, если сказать правду, свинья»), и венчается интересующей гостя сделкой. Ничуть не испугавшись странностью предмета, Собакевич торгуется, характеризует выгодные качества каждого крепостного, снабжает Чичикова подробным списком и вынуждает его дать задаточек.
Путь Чичикова к соседнему помещику Плюшкину, упомянутому Собакевичем, прерывается беседою с мужиком, давшим Плюшкину меткое, но не слишком печатное прозвание, и лиричным размышлением автора о прежней своей любви к незнакомым местам и явившемуся ныне равнодушию. Плюшкина, эту «прореху на человечестве», Чичиков поначалу принимает за ключницу или нищего, место коему на паперти. Важнейшей чертой его является удивительная скаредность, и даже старую подошву сапога несет он в кучу, наваленную в господских покоях. Показав выгодность своего предложения (а именно, что подати за умерших и беглых крестьян он возьмет на себя), Чичиков полностью успевает в своем предприятии и, отказавшись от чая с сухарем, снабженный письмом к председателю палаты, отбывает в самом веселом расположении духа.
Покуда Чичиков спит в гостинице, автор с печалью размышляет о низости живописуемых им предметов. Меж тем довольный Чичиков, проснувшись, сочиняет купчие крепости, изучает списки приобретенных крестьян, размышляет над предполагаемыми судьбами их и наконец отправляется в гражданскую палату, дабы уж скорее заключить дело. Встреченный у ворот гостиницы Манилов сопровождает его. Затем следует описание присутственного места, первых мытарств Чичикова и взятки некоему кувшинному рылу, покуда не вступает он в апартаменты председателя, где обретает уж кстати и Собакевича. Председатель соглашается быть поверенным Плюшкина, а заодно ускоряет и прочие сделки. Обсуждается приобретение Чичикова, с землею или на вывод купил он крестьян и в какие места. Выяснив, что на вывод и в Херсонскую губернию, обсудив свойства проданных мужиков (тут председатель вспомнил, что каретник Михеев как будто умер, но Собакевич заверил, что тот преживехонький и «стал здоровее прежнего»), завершают шампанским, отправляются к полицмейстеру, «отцу и благотворителю в городе» (привычки коего тут же излагаются), где пьют за здоровье нового херсонского помещика, приходят в совершенное возбуждение, принуждают Чичикова остаться и покушаются женить его.
Покупки Чичикова делают в городе фурор, проносится слух, что он миллионщик. Дамы без ума от него. Несколько раз подбираясь описать дам, автор робеет и отступает. Накануне бала у губернатора Чичиков получает даже любовное послание, впрочем неподписанное.
Употребив по обыкновению немало времени на туалет и оставшись доволен результатом, Чичиков отправляется на бал, где переходит из одних объятий в другие. Дамы, среди которых он пытается отыскать отправительницу письма, даже ссорятся, оспаривая его внимание. Но когда к нему подходит губернаторша, он забывает все, ибо её сопровождает дочь («Институтка, только что выпушена»), шестнадцатилетняя блондинка, с чьим экипажем он столкнулся на дороге. Он теряет расположение дам, ибо затевает разговор с увлекательной блондинкой, скандально пренебрегая остальными. В довершение неприятностей является Ноздрев и громогласно вопрошает, много ли Чичиков наторговал мертвых. И хотя Ноздрев очевидно пьян и смущенное общество понемногу отвлекается, Чичикову не задается ни вист, ни последующий ужин, и он уезжает расстроенный.
Об эту пору в город въезжает тарантас с помещицей Коробочкой, возрастающее беспокойство которой вынудило её приехать, дабы все же узнать, в какой цене мертвые души. Наутро эта новость становится достоянием некой приятной дамы, и она спешит рассказать её другой, приятной во всех отношениях, история обрастает удивительными подробностями (Чичиков, вооруженный до зубов, в глухую полночь врывается к Коробочке, требует душ, которые умерли, наводит ужасного страху — «вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричат»). Ее приятельница заключает из того, что мертвые души только прикрытие, а Чичиков хочет увезти губернаторскую дочку. Обсудив подробности этого предприятия, несомненное участие в нем Ноздрева и качества губернаторской дочки, обе дамы посвящают во все прокурора и отправляются бунтовать город.
В короткое время город бурлит, к тому добавляется новость О назначении нового генерал-губернатора, а также сведения о полученных бумагах: о делателе фальшивых ассигнаций, объявившемся в губернии, и об убежавшем от законного преследования разбойнике.
Пытаясь понять, кто же таков Чичиков, вспоминают, что аттестовался он очень туманно и даже говорил о покушавшихся на жизнь его. Заявление почтмейстера, что Чичиков, по его мнению, капитан Копейкин, ополчившийся на несправедливости мира и ставший разбойником, отвергается, поскольку из презанимательного почтмейстерова рассказа следует, что капитану недостает руки и ноги, а Чичиков целый. Возникает предположение, не переодетый ли Чичиков Наполеон, и многие начинают находить известное сходство, особенно в профиль.
Расспросы Коробочки, Манилова и Собакевича не дают результатов, а Ноздрев лишь умножает смятение, объявив, что Чичиков точно шпион, делатель фальшивых ассигнаций и имел несомненное намерение увезти губернаторскую дочку, в чем Ноздрев взялся ему помочь (каждая из версий сопровождалась детальными подробностями вплоть до имени попа, взявшегося за венчание). Все эти толки чрезвычайно действуют на прокурора, с ним случается удар, и он умирает.
Сам Чичиков, сидя в гостинице с легкою простудой, удивлен, что никто из чиновников не навещает его. Наконец отправившись с визитами, он обнаруживает, что у губернатора его не принимают, а в других местах испуганно сторонятся. Ноздрев, посетив его в гостинице, среди общего произведенного им шума отчасти проясняет ситуацию, объявив, что согласен споспешествовать похищению губернаторской дочки. На следующий день Чичиков спешно выезжает, но остановлен похоронной процессией и принужден лицезреть весь свет чиновничества, протекающий за гробом прокурора Бричка выезжает из города, и открывшиеся просторы по обеим её сторонам навевают автору печальные и отрадные мысли о России, дороге, а затем только печальные об избранном им герое.
Заключив, что добродетельному герою пора и отдых дать, а, напротив, припрячь подлеца, автор излагает историю жизни Павла Ивановича, его детство, обучение в классах, где уже проявил он ум практический, его отношения с товарищами и учителем, его службу потом в казенной палате, какой-то комиссии для построения казенного здания, где впервые он дал волю некоторым своим слабостям, его последующий уход на другие, не столь хлебные места, переход в службу по таможне, где, являя честность и неподкупность почти неестественные, он сделал большие деньги на сговоре с контрабандистами, прогорел, но увернулся от уголовного суда, хоть и принужден был выйти в отставку. Он стал поверенным и во время хлопот о залоге крестьян сложил в голове план, принялся объезжать пространства Руси, с тем чтоб, накупив мертвых душ и заложив их в казну как живые, получить денег, купить, быть может, деревеньку и обеспечить грядущее потомство.
Вновь посетовав на свойства натуры героя своего и отчасти оправдав его, приискав ему имя «хозяина, приобретателя», автор отвлекается на понукаемый бег лошадей, на сходство летящей тройки с несущейся Русью и звоном колокольчика завершает первый том.
Материал предоставлен интернет-порталом briefly.ru, составитель Е. В. Харитонова