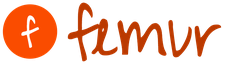Особенности повествования в пьесе эрдмана самоубийца. "Самоубийца" (Эрдман): описание пьесы из энциклопедии
Т.В. Сардинская*
ХРОНОТОП ПЬЕСЫ Н. ЭРДМАНА "САМОУБИЙЦА"
Тема статьи – взаимоотношения «маленького человека» и советского государства и связанная с ними проблематизация человеческого общения в стандартизированном мире.
*Сардинская Татьяна Владимировна – кафедра русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета.
«Гимн мещанству» , «реакционная пьеса», «насквозь порочный текст…, разрозненный на реплики контрреволюционный монолог» – таковы были отзывы критиков на появление «Самоубийцы». Признавая (в лучшем случае) художественные достоинства пьесы, критики в один голос говорили о ее «враждебной» направленности. С тех пор прошло более полувека, и Николая Эрдмана, признанного сначала Европой, теперь и в России нередко называют «величайшим сатириком XX века». Тем не менее, исследования его творчества до сих пор остаются разрозненными и неполными. Цель нашей статьи – провести анализ хронотопа трагикомедии «Самоубийца» и на его основе охарактеризовать созданную автором картину мира, которая является фрагментом общей картины мира Н. Эрдмана.
Мы исходим из признания того, что советское государство поместило человека в идеологизированный хронотоп – в новую, чуждую ему реальность, которая требовала освоения и осмысления. Изначальный трагизм этого положения заключается в том, что советская реальность была принципиально не соизмерима с человеком и не предназначена для его быта, она поставила человека перед фактом своего главенства и низвела его жизнь до существования, с которым можно было не считаться. В таком положении находятся и персонажи Н. Эрдмана.
Художественное пространство «Самоубийцы» охватывает: коммунальную квартиру (?-?? и IV действия), ресторан (??? действие) и кладбище (V действие), то есть физиологический зигзаг жизни, в котором квартира – средняя точка: не банкет и не похороны, а будничная жизнь обычных людей. Но даже это пространство – квартира – не подвластно личности, так как оно «обобществленное», обезличенное, и, чтобы в нем существовать, требуется постоянная идентификация самых близких людей, происходящая в комической форме: «А-а-а-а-а…» – «Что ты, что ты – это я». – «Это ты Семен/Маша/мамочка?» – «Ну да, я» . Для мечтательно-неустойчивой личности Подсекальникова требуется и самоидентификация:
Александр Петрович. Вы стреляетесь.
Подсекальников. Я?
Александр Петрович. Вы.
Подсекальников . Боже мой! Подождите минуточку. Лично я?
Александр Петрович. Лично вы, гражданин Подсекальников ;
Аристарх Доминикович. А позвольте сначала узнать: с кем имею приятную честь разговаривать?
Подсекальников. С этим … как его … Подсекальниковым .
В? действии читатель знакомится с коммунальной квартирой и ее обитателями – семейством Подсекальниковых, Александром Петровичем Калабушкиным и Маргаритой Ивановной Пересветовой, а также узнает о существовании «той половины» квартиры, где живет, в частности, «Володькина бабушка» . «Та половина» в дальнейшем действии не участвует, зато ее упоминание позволяет увидеть, что деление на «своих» и «чужих» – точка отсчета для человеческого, ценностного, бытия – сохраняет актуальность даже в коммунальной квартире с единственной уборной. Это первый след освоения человеком советской реальности.
Все же пространство квартиры остается чуждым и почти враждебным персонажам: конфликты в пьесе с самого начала приобретают пространственное выражение (Подсекальников исчезает из темной комнаты незаметно для жены и тещи; в поисках его они собираются выломать дверь в уборную; для этого Маша стучится к Калабушкину и выясняет отношения с Маргаритой Ивановной; наконец, Калабушкин и Серафима Ильинична не оставляют Подсекальникова одного, боясь его самоубийства). Как видим, пространство, доступное обычному человеку, «темно»: нет света, нет понимания между людьми, нет знания о своем пространстве (несмотря на тесноту), как будто, нет и возможности такого знания.
В результате ночных происшествий жизненное пространство Подсекальникова приобретает весьма унылый вид: «Нездоровое городское утро освещает развороченную постель, сломанный фикус и всю невеселую обстановку комнаты» ; невзирая на это, Александр Петрович пытается убедить Подсекальникова, что «жизнь прекрасна». Н. Эрдман иронизирует по поводу несоответствия речевых штампов и окружающей действительности:
Александр Петрович. Жизнь прекрасна.
Подсекальников. Я об этом в «Известиях» даже читал, но я думаю – будет опровержение .
Противоречие между действительностью и словом о ней оказалось чертой эпохи, в которой штамп был реальнее жизни: «всеобщее счастье», которое должно было когда-то наступить, означало бесконечные лишения в настоящем … а «отдельные недостатки» должны были видеться как «пережитки прошлого» . Важнейшая роль слова в советской культуре отмечалась неоднократно: «Кажется, – пишет А. Синявский, – что самые основы советской системы готовы пошатнуться из-за одного лишь изменения в тоне и языке … Это, конечно, иллюзия. Но любопытно отметить, мимоходом, до какой степени вся железная структура советского государства опирается на язык, на запертые бюрократические фразы» [Цит. по: 5, 157].
Семен Семенович. А когда электричество выключают за неплатеж, то какой же, по-вашему, это век получается? Каменный?
Александр Петрович. Очень каменный, гражданин Подсекальников. Вот какой уже день как в пещере живем .
« … Как в пещере живем» – формулировка, отлично описывающая не только отсутствие света, но и тесноту и скученность жизни, а ассоциативно – настоящую борьбу за выживание, модернизировавшуюся в тотальную подозрительность.
Завязка – зарождение идеи о самоубийстве Подсекальникова у Маши – по-своему абсурдна, потому что основывается только на исчезновении его из супружеской спальни и пафосных заявлениях, вроде: «Ты последнего вздоха моего домогаешься? И доможешься» . Оказывается, что даже обычные человеческие чувства чреваты самыми непредсказуемыми последствиями в нечеловеческом мире, где любовь Маши проверяется количеством блюдечек, вазочек и чашечек, на которые она может заработать .
Разрушение связей между людьми, между членами одной семьи, взаимное непонимание и отчуждение – трагическая проблематика I действия, реализующаяся зачастую в комических формах: в системе хронотопа – через прием параллельного использования пространства, органичного для мира коммунальной квартиры. Этот прием, открывающий духовную разъединенность персонажей за мнимой общностью их местопребывания, является основным для организации пространства всей пьесы.
Действие начинается сценой, в которой Подсекальников учится играть на «бейном басе», – пространство пьесы расширяется: Подсекальников пытается приобщиться к мировой культуре. Мечта маленького человека о славе музыканта и богатстве двойственна: она сочетает материалистичность, расчетливость: «Приблизительно двадцать концертов в месяц по пяти с половиной рублей за штуку. Значит, в год получается чистого заработка тысяча триста двадцать рублей» , – и тягу к лучшему, самый наивный идеализм. Не будь этого, Подсекальников никогда бы не заразился идеей о самоубийстве, соблазнившись посмертной славой и роскошными похоронами, обещанными идеологами. Ведь бессмысленность жизни «для статистики» заставляет ценить самые фантастические грезы больше, чем действительность, отсюда парадоксальность центральных персонажей Н. Эрдмана: воображение постоянно заслоняет им логику, приземленные и насквозь обытовленные, они постоянно увлекаются (и удовлетворяются) иллюзиями – Семен Подсекальников так же, как Павел Гулячкин («Мандат»).
Та же парадоксальная двойственность в «социальном» положении Подсекальникова: маленький человек, он одновременно жертва (Подсекальников-безработный) и тиран (Подсекальников-муж) . Как пишет Е. Стрельцова, это «круговорот подавления, въевшийся в самую малую ячейку общества … С тем, кто слабее, – власть; с тем, кто сильнее, – подобострастие» .
Во?? действии появляется своеобразный двойник главного героя – Егорушка, возможное будущее подсекальниковых, «новый человек», для которого «просвещение» равно поверхностному освоению господствующей идеологии. Егорушка пишет статьи-доносы на своего обидчика-«музу» Калабушкина, скрываясь под псевдонимом и не стесняясь спросить самого Калабушкина, где ставить запятую. Если раньше писали от любви к «музе»:
Мария Лукьяновна. Ну, раз стали писателем, значит, влюбились. Значит, муза у вас появилась, Егорушка ,
то теперь – наоборот, от неприязни к «музе», в общественных интересах:
Егорушка. Тир закрыт [Калабушкиным], а курьеры хотят стрелять .
Так, через «писательство» Егорушки раскрывается свойство нового пространства распространять информацию с фантастической быстротой (в направлении органов госбезопасности), формирующее вокруг личности духовный «вакуум». Атмосфера страха и беззащитности перед всезнающей властью становится обычной, к ней привыкают и в ней живут. Когда у Подсекальникова появляется Гранд-Скубик, тот уже ждет следователей: за «храненье оружия» положено «шесть месяцев принудительных». Рядовой гражданин знаком с уголовным кодексом: это знание давало ему иллюзию защищенности от органов госбезопасности.
Самоубийство, пожалуй, самое личное дело в человеческой жизни. Цинично, страшно и в то же время закономерно, что самоубийца становится предметом купли-продажи для своего соседа и для совершенно чужих людей. Нет личной жизни, стало быть, нет и личной смерти: человек ведь рождается для общества. А если нет личного – нет и межличностного конфликта: так, в списке действующих лиц заявлен Степан Васильевич Пересветов, очевидно, муж Маргариты Ивановны, но ни на сцене, ни за сценой он не появляется – это форма отрицания межличностного конфликта, традиционного любовного треугольника «муж-жена-любовник».
В мире, где нет своей жизни, нет и своей нравственности, которая заменяется массовой философией обывателя. В этом мире все можно купить, потому и становится возможным сделать самоубийство темой комической – самоубийство как дефицитный товар, «идеологи» как покупатели, самоубийство как средство шантажа Подсекальниковым покупателей. Но и эти конфликты между Гранд-Скубиком, «охотниками за самоубийцей» и Подсекальниковым также не сводятся к межличностным. «Идеологи» только вскрывают уже назревший конфликт между бессмысленной жизнью и личностью, которая стремится к чему-то значительному.
Стремления «идеологов» продемонстрировать свой собственный конфликт с миром, изображенные в сатирическом плане, отвергаются автором; но сатирой Н. Эрдман никогда не ограничивается: он открывает, что декларативно высокие идеалы, становящиеся общественными, всегда должны иметь нечто общее с интересами отдельных людей. Оказывается, что и положение идеологов в новом мире неустойчиво и трагично, так как время такое, что «то, что может подумать живой, может высказать только мертвый» . А чего стоит трагикомическая аллегория отношений революции и интеллигенции, завершающаяся словами: «Ну, сиди». И действительно, посадили» ! За сатирическими гримасами открывается трагедия людей, которые приспосабливаются к советской действительности и не находят там места для себя.
Итак, во?? действии драматическое пространство расширяется от «семейного» до «общественного» (хотя действие еще не выходит за пределы квартиры). Коммунальная квартира становится ареной борьбы за будущего идеологического «покойника» между представителями недовольных советским режимом. Трагизм невозможности взаимопонимания между людьми нарастает, нарушаются нормы не только этики, но даже логики:
Аристарх Доминикович. Вы стреляетесь. Чудно. Прекрасно. Стреляйтесь себе на здоровье. Но стреляйтесь … как общественник .
Действие изображает банкет-оргию – в ресторане со столь же оксюморонным названием «Красный бомонд» – и страшно-нелепый триумф маленького человека. У Подсекальникова обнаруживается синдром временщика, а не борца за справедливость: до полудня (то есть до момента, назначенного для самоубийства) он всемогущ, он – всё; после – ничто. Взаимопереход «все-ничего» («Кто был ничем, тот станет всем» – строки «Интернационала», гимна советского государства с 1918 по 1943 гг., а также неизменного гимна Коммунистической партии) был продекларирован новой властью, но так и остался пустой риторикой. Подсекальников совершенно буквально демонстрирует невозможность такого перехода: маленький человек даже на пике удачи остается маленьким человеком, его триумф состоит в том, чтобы «председателю … язык показать» и поругаться по телефону с Кремлем.
И в то же время ожидание смерти открывает Подсекальникову ценность и смысл индивидуальной жизни; оказывается, что «всё» Подсекальникова – быть человеком: «Вот когда наступила, товарищи, жизнь. Наступила за тридцать минут до смерти» . Приходит в голову Подсекальникову и вопрос о загробной жизни; на него он получает исчерпывающий ответ в духе времени: загробная жизнь «по религии – есть. По науке – нету. А по совести – никому не известно» . Таким ответом дискредитируется догматизм любых построений – самых противоположных, как религия и советское государство: автор утверждает право каждого человека самому отвечать на жизненные вопросы, а не потреблять готовые штампы.
Драматическое пространство снова расширяется: с одной стороны, действие выходит за пределы коммунальной квартиры; с другой – появляются тема заграницы и параллельно тема родины. Париж для знающих людей «потустороннего класса» – это «жизнь с бельем, с обстановкой, мехами, косметикой» . Но вместе с сатирическим изображением потребительского отношения к пространству появляется трагическое воспоминание о Родине-России:
Пугачев. Заболел я. Тоска у меня … по родине.
Аристарх Доминикович. Как по родине? Вы какой же национальности?
Пугачев. Русский я, дорогие товарищи .
Ощущение родины как безвозвратно потерянной в официальном советском государстве и себя как чужого и одинокого среди «масс» – важнейший источник трагедийной проблематики пьесы.
Только «массы» могут считать своим домом коммунальные квартиры, где вся их жизнь была прозрачной для государства (в лице доносчика). В «Самоубийце» таким представителем государства является Егорушка, который гордится своим умением смотреть, как Маша моет голову, «с марксистской точки зрения» (то есть подглядывать). Исходный пункт в развитии мысли Н. Эрдмана – как всегда, комическое несоответствие. Но, начав с элементарной порядочности, «марксистская точка зрения» сокрушает все общекультурные истины. С «высоты» марксистской точки зрения ярлыки раздаются направо и налево: в Париже, по мнению Егорушки, «жить не захочется» , женщина – это «гадость», а литература, вдохновленная постановлениями, – предмет потребления отдельно для литейщиков, отдельно для курьеров: «Обо всем и Толстой писал. … Я курьер и хочу про курьеров читать» .
Выйдя за пределы квартиры – более или менее освоенного пространства – люди практически теряют способность к общению, и трагедия взаимной глухоты и непонимания приближается к театру абсурда – предсмертное письмо перебивается бурлескными репликами:
Семен Семенович. Дайте волю интеллигенции.
Пугачев. Дайте ванную. … Мы сейчас проституток в ней будем купать.
Семен Семенович. Восклицательный знак. Вот за что я, товарищи, умираю. Подпись .
В?V действии, когда все персонажи возвращаются в коммунальную квартиру, преодолеть взаимное отчуждение удается не сразу, по инерции продолжается «диалог» глухих – соболезнования Аристарха Доминиковича перебиваются замечаниями портнихи и модистки о траурном наряде для Маши:
Аристарх Доминикович. … Живите так же, как умер ваш муж, ибо умер он смертью, достойною подражания.
Портниха (снимая мерку ). Длина переда сорок один.
Аристарх Доминикович. Один, совершенно один, с пистолетом в руках, вышел он на большую дорогу нашей русской истории.
Портниха (снимая мерку ). Длина зада сорок четыре.
…
Аристарх Доминикович. Вы, шагающий по дороге истории государственный муж и строитель жизни, посмотрите поглубже на труп Подсекальникова.
Серафима Ильинична. Глубже, глубже.
Маргарита Ивановна. И набок.
Модистка. Вот так. Восхитительно .
Не должное присутствовать в человеческом доме ощущение хаоса уплотненной жизни достигает кульминации – смерть оказывается не трагична: и «гражданская панихида» с речами, и «отпевание», и примерка траурных одежд – все это зрелище для «внешних» людей. «Общественные интересы» заменили им сочувствие, такт, вежливость – не понимая даже слов друг друга, люди никогда не поймут и чужих чувств. Семейное и коллективное смешиваются в самом наивном эгоизме:
Маргарита Ивановна. Вы смотреть [отпевание]? Не стесняйтесь, заходите, товарищи ;
Зинка Падеспань. Побежимте посмотримте, как убивается [о жене «покойника»], интересно, наверное .
Глубокая проблема разложения жизни «для себя» гротескно выражена Гранд-Скубиком: « … Труп его [Подсекальникова] полон жизни, он живет среди нас, как общественный факт» .
Как видим, из «овнешнения» человека следует обмельчание личности, реализованное, в частности, в поэтике личных имен: во-первых, Гранд-С-кубик (актуализация внутренней формы); во-вторых, использование прецедентных имен – Пугачев (не предводитель восстания, а мясник по профессии), Клеопатра (не сладострастная царица, а самовлюбленная соблазнительница). С другой стороны, Н. Эрдман обнаруживает обмельчание традиционных в русской литературе образов русского интеллигента (Гранд-Скубик), священника (отец Елпидий), писателя (Виктор Викторович), которые наравне с Пугачевым и Клеопатрой ведут борьбу за предсмертную записку «самоубийцы».
Противостоящий внешнему миру образ глухонемого – это трагикомический символ правды и смысла, скрытых словами: в финале?? действия он «наблюдает» монолог философствующего Подсекальникова, не слыша слов, за которыми нет продуманного и прочувствованного; в?V действии он один видит, что Подсекальников жив. Глухонемой в советской реальности понимает больше, чем остальные персонажи, оттого что не находится под давлением штампов и лозунгов. Глухонемой более развит душевно, чем физически здоровый человек, – трагический парадокс советского государства.
По мере развития действия расширяется не только драматическое пространство, но и время. Трагикомическую трактовку получает тема человека в истории, когда штамп Гранд-Скубика – «дорога истории» – обнаруживает свою пространственную семантику и соотнесенность с местом действия. Аристарх Доминикович и Александр Петрович объясняют Маше, что ее муж «один, с пистолетом в руках, вышел … на большую дорогу нашей русской истории», «упал на нее и остался лежать … » «на дороге истории»:
Серафима Ильинична. Это где же такое? Далеко от нас?
Александр Петрович. Да, довольно порядочно .
Реализация метафоры, каламбур, остранение штампов неоднократно проявляют в пьесе как свой комический (непонимание), так и трагический (невозможность понимания) потенциал. К V действию этот план углубляется незнанием, необразованностью, бескультурием – новым обвинением в адрес Егорушки и стоящего за ним строя. Подсекальников неожиданно оказывается современником «товарища Марцелла» из «королевства Датского», а причина такого «катаклизма» – в том, что Егорушка не узнал цитату из «Гамлета»:
Виктор Викторович. Вы начните [речь], Егор Тимофеевич, так: «Не все спокойно в королевстве Датском».
Егорушка. Кто сказал?
Виктор Викторович. Марцелл.
Привычный смысл отрывается от слов, открывая то хитроумие (Гранд-Скубик и другие «охотники за самоубийцей»), то невежество (Егорушка), но в обоих случаях наблюдаются тенденциозность и готовность трактовать любой факт в соответствии с избранными догмами. Именно здесь проявляется стремление – объединяющее советскую власть и ее противников – сделать из индивида массу, которая будет жить исключительно общественными интересами. Против этого и протестует Подсекальников в своей оправдательной речи: «Вы думаете, когда человеку говорят: «Война. Война объявлена», вы думаете … человек спрашивает – с кем война, почему война, за какие идеалы война? Нет, человек спрашивает: «Какой год призывают?» И он прав, этот человек» .
V действие проходит на кладбище и представляет собой похороны и воскресение маленького человека. Сюжет символичен: советское государство хотело похоронить маленького человека с речами и с музыкой и вывести породу советских людей – титанов, а маленький человек никак не хотел становиться героем посмертно и жил, несмотря на соцсоревнования и репрессии, жил тихо, бедно, трудно.
Советская эпоха – эпоха творения нового героического мифа, в котором Подсекальников не проходит своеобразную «инициацию» – проверку на героизм: вместо того чтобы возродиться в новом качестве – как «лозунг», он «воскрес» таким, как был, – человеком из плоти и крови. Но воскресение не религиозно: воскресший святотатствует (Подсекальников ест рис из кутьи, потому что голоден) – это символ «двуединой» природы человека, совмещающей духовное и физическое (идеалы и быт).
В сценах на кладбище руководители маленького человека максимально проявляют себя; кульминация здесь – «разделка» «идеологического покойника», где автор снижает все лозунги, фактически ставя между ними знак равенства:
Клеопатра Максимовна. Тело, тело…
Отец Елпидий. Религии…
Пугачев. Мясо…
Аристарх Доминикович. Товарищи…
Пугачев. Колбаса…
Виктор Викторович. Идеалы…
Аристарх Доминикович. Интеллигенция… .
Финальная сцена на кладбище окончательно меняет пропорции на противоположные: маленький человек возвышается над идеологами, он проявляет решимость жить своей – маленькой, бытовой – жизнью, не прикрывая ее лозунгами и штампами.
Атмосфера пьесы Н. Эрдмана как нельзя лучше определяется формулой М. Булгакова – «трагический фарс»: профанация, снижение на уровне языка, мотивов, персонажей, наконец, всего сюжета постоянно сопровождает поистине трагическую проблематику – стирание личности. Перед зрителями идет фарс, в то время как за сценой (ассоциативно: за сценой, то есть в реальной жизни) разворачивается трагедия Феди Питунина, завершающаяся действительным самоубийством. Трагедия жизни – вне театра, она выявляется только в отдельных репликах: (Подсекальников читает газету. ) «Восемнадцати лет… кислотой…» Вот оно настоящее международное положение» .
Как пишет Е.С. Поликарпова, «талант Эрдмана, безусловно, комический. Однако в культуре XX века, пронизанной иронией и даже как бы «поглощенной» ею, очень часто комический талант не может выразить себя иначе, как в трагикомической форме . Драматургическое новаторство Эрдмана проникнуто сознанием того, что комическое в современном мире приближается к трагическому ; комическое даже более безысходно , чем трагическое . « Человеческая комедия » у Эрдмана сопряжена с ощущением трагизма человеческого существования » .
Итак, на фоне??? и V действий ясно, что коммунальная квартира – не вполне «антидом», здесь остается тепло естественных человеческих отношений (Маргарита Ивановна помогает Маше получить «бейный бас», Серафима Ильинична и Маша бегут останавливать Егорушку с его заметкой против Калабушкина). Здесь относительно цельный и замкнутый мир, где люди живут обычными бытовыми интересами. В пространстве, хоть сколько-нибудь очеловеченном, теряют состоятельность застывшие неживые формы, которые навязываются «сверху». Извне в коммунальную квартиру проникают «общественные интересы», но мир маленьких людей выдерживает проверку на прочность, отстаивая свое право на жизнь против идейных захватчиков.
«Под сатирическое осмеяние гуманист Эрдман поставил не человека, а власть, не желавшую и … не способную обеспечить для этого человека нормальное существование и потому … стремящуюся превратить его в безгласное ничто» . Не отказывая маленькому человеку в праве на жизнь, автор изображает его в вакууме, где ему «трудно жить» и запрещено говорить об этом; тогда ему становится тяжело дышать, кружится голова от блестящих перспектив стать титаном, выйти за пределы среднестатистической жизни, и маленький человек драпируется в высокие чувства и идеи, которые смешны на нем. Это, может быть, и не его вина, но тем яснее мысль о том, что у каждого свое место в жизни – и только это обеспечивает ей цельность, – а когда нет своего места – нет и гармонии общей жизни. Нельзя человека «разжаловать в массы» , потому что необходимо и ценно каждое человеческое «Я», каждая человеческая жизнь, вот к чему приходит в итоге Подсекальников, и эта мысль – самая естественная и самая человечная.
Библиографический список:
1. Велехов Л. Самый остроумный // Театр. № 3. 1990. С. 90-97.
2. «Самоубийца» // Театральная жизнь. № 5. 1991. С. 16-18.
3. Эрдман Н. Самоубийца // Эрдман Н. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. М., 1990. С. 80-164.
4. Москва с точки зрения: Эстрадная драматургия 20-60-х годов. М., 1991. 368 c.
5. Щеглов Ю. Конструктивистский балаган Н. Эрдмана // Новое литературное обозрение. № 5 (33). 1998. С. 118-161.
6. Стрельцова Е. Великое унижение. Н. Эрдман // Парадокс о драме: Перечитывая пьесы 20-30-х годов. М., 1993. С. 307-345.
7. Поликарпова Е.С. Трагикомический театр Николая Эрдмана: Дис. … канд. филол. наук. Самара, 1997. 239 с.
8. Эрдман Н. Мандат // Эрдман Н. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. М., 1990. С. 19-80.
9. Барт Р. Из книги «О Расине» // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 142-233.
10. Есаулов И.А. Овнешнение человека при тоталитаризме и религиозное сознание // Бахтинский сборник. Вып.3. М., 1997. С. 111-119.
Т.V. Sardinskaya
THE CHRONOTOP OF N. ERDMAN "S PLAY "THE SUICIDE"
The article is devoted to the problem of the relationship between the «little man» and the soviet state and to the related question of the difficulty of the human communication inside the standardized world.
________________ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА____________________________
ФИЛОЛОГИЯ
К. В. Баринова
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРНАВАЛЬНОГО НАЧАЛА В ПЬЕСЕ НИКОЛАЯ ЭРДМАНА «САМОУБИЙЦА»
Рассматриваются особенности проявления карнавального начала в комедии Н. Эрдмана «Самоубийца». Утверждается, что в пьесе карнавализация является структурообразующим началом. Так как «Самоубийца» является комедией нового времени, карнавальное начало переживает трансформацию (близкий ренессансному гротеск сменяется близким модернистскому), и карнавальный смех нередко теряет свою амбивалентность, превращаясь в чистую сатиру.
Ключевые слова: Эрдман Н.Р., «Самоубийца», карнавализация.
Сложность формы и глубина содержания пьес Эрдмана - причина их популярности и постоянного стремления к истолкованию. Принято комедии «Мандат» и «Самоубийца» считать сатирическими произведениями. В 30-е гг. пьесу «Самоубийца» обвиняли в наличии в ней пафоса отрицания советской действительности: П. Керженцев находил в ней «протест против диктатуры пролетариата» , а Вс. Вишневский считал пьесу «контрреволюционным монологом» . В 90-е гг. критики и исследователи защищали пьесу за наличие в ней, по словам А. Свободина, «сатирической модели общества» . В эти же годы наметилась новая тенденция осмысления жанра пьес Эрдмана, например, Е. Поликарпова осмысляет «мир эрдма-новского театра» как «мир трагикомедии» . Сегодня в «Самоубийце» исследователи видят также мифологическую составляющую: Б. Селиванов наблюдает в пьесе «обращение...к античной мифологии» , М. Миронова - «сакрально-мифологический» план .
Более соответствующим творчеству драматурга нам представляется подход к пьесе с позиций карнавализа-ции. К сожалению, в творчестве Эрдмана видят лишь некоторые составляющие карнавальной стихии, отрывая их от единого карнавального целого. О. Журчева отмечает в «Самоубийце» «использование словесных приемов народной смеховой культуры» . Ю. Щеглов видит «родство эрдмановской драматургии с балаганной фольклорной традицией» , Е. Шевченко одним из «наиболее весомых» «законов, имманентных эрдмановскому творчеству», называет «поэтику балагана» . Между тем карнавальное начало шире балаганной традиции.
О карнавальной традиции в целом в творчестве Эрдмана говорит Н. Гуськов в работе «От карнавала к канону», посвященной советским комедиям 20-х гг. Однако автор стремился «количественно» ограничить «примеры и обоснования» «вследствие многочисленности изучаемых источников» и не провел всестороннего исследования карнавального начала в пьесах Эрдмана.
В. Каблуков изучает в пьесах драматурга «появление карнавальных образов» и называет карнавализа-цию «одним из самых продуктивных способов организации смешного в поэтике Эрдмана» .
Думается, карнавализация в пьесе «Самоубийца» является структурообразующим началом и претерпевает трансформацию. Исследование трансформации кар-
навального начала в драматургии Н.Р. Эрдмана, на наш взгляд, способно дать ключ к поэтике и наиболее верному осмыслению его творчества.
Проблему карнавального начала в литературе решал М. Бахтин. Его концепция комического, разработанная на основе литературных произведений Возрождения, применима и к драматургическим произведениям 20-х гг. XX в. (в эти годы, кстати, создавалась и теория Бахтина). В 20-е гг. XX в., когда жизнь в России характеризуется переломом, сменой общественного строя, мировоззрения, незавершенностью этого процесса, произошла реанимация карнавала как социокультурного явления, возродилось карнавальное мироощущение. Карнавал пронизывает эпоху 20-х, он проявляется и в жизни, и в искусстве. По мнению Н. Гуськова, «...средневековый карнавал. в Новое время уже не способен возродиться в чистом виде», но «на протяжении последних трех столетий, в том числе в России XX в., нередко обнаруживаются не только некоторые черты карнавальности в произведениях ряда авторов, но и ситуации историкокультурного процесса, типологически подобные карнавалу, непосредственно или косвенно связанные со средневековой смеховой традицией» . 1920-е гг. он называет «порой расцвета» карнавального начала в России . Следовательно, мы можем утверждать, что язык карнавальных символов в произведениях этого периода возродился заново, а не был унаследован через литературную традицию. Поэтому карнавализа-цию литературы этих лет можно назвать, по терминологии Бахтина, «непосредственной»: «источником кар-навализации был сам карнавал» .
Организующим ядром карнавальной стихии в «Самоубийце», наряду со сменой общественных устоев, жизненного порядка, является нетождественный самому себе образ главного героя. Подсекальников - человек, который, устав от жизни, принял решение покончить с собой, но не в состоянии осуществить задуманное. Герой пьесы мечется на границе двух миров - бытия и небытия, не в силах остановиться в одном из них, не может определиться, жить ему или умереть. Развитие действия пьесы составляет чередование «смертей» и «воскресений» героя. Благодаря игровому поведению главного героя смерть, самоубийство подвергаются снижениям и осмысляются как карнавальные «смешные страшилища» .
Поводом к самоубийству в пьесе послужила ливерная колбаса (ссора Подсекальникова с женой из-за нее) и привела в итоге к попытке героя покончить с собой. Это соответствует духу карнавала с его «особой связью еды со смертью» . Смерть в пьесе сопрягается и со скатологическими образами: вымышленное, надуманное Марией Лукьяновной самоубийство мужа связывается с уборной, где ищет «самоубийцу» вся коммунальная квартира и где находится по естественной надобности совершенно другой человек. В карнавальной системе координат смерть всегда «чревата новым рождением» , вот почему она в пьесе связывается также с сексуальными образами. Когда Мария Лукьяновна обращается к Калабушкину за помощью (взломать дверь в уборную), появление соседки ночью у своих дверей Александр Петрович может истолковать только в сексуальном плане и советует ей «обтираться холодной водой» .
С появлением Аристарха Доминиковича Гранд-Скубика, предлагающего Подсекальникову покончить с собой ради «русской интеллигенции» , кар-навализация смерти получает дальнейшее развитие в действии пьесы. Смерть теперь для мечтателя Подсе-кальникова - это путь к новой жизни. Самоубийство для него - способ стать лучше, значительнее, возродиться обновленным. Гротескное сочетание мотивов смерти и жизни будет теперь сопровождать его постоянно.
Для большинства героев смерть Подсекальникова -это принесение жертвы. Пьеса дает возможность осмыслить эту жертву в карнавальном ключе. Действительно, самоубийство Подсекальникова носит характер карнавального жертвоприношения: в сцене проводов «Семен Семенович опутан серпантином и обсыпан конфетти» - так украшали карнавальную жертву. В пьесе можно увидеть карнавальное «сочетание убийства и родов», когда «смерть, труп, кровь, как семя, зарытое в землю, поднимается из земли новой жизнью» . Смерть Подсекальникова мыслится оставшимися в живых как способ улучшить их жизнь. Это соответствует традиции «гротескного», «родового», по Бахтину, тела, где смерть индивида -«только момент торжествующей жизни народа и человечества, момент - необходимый для обновления и совершенствования их (разрядка М. Бахтина. - К.Б.)» .
Но в противовес традиции родового тела осмысление смерти Подсекальникова героями лишено всеобщности, всенародности: эта жертва «обещает» лучшее будущее не всему народу в целом, а только «избранным», тем, кто с легкой руки Калабушкина решил воспользоваться предполагаемым самоубийством. Поэтому карнавальный смех приобретает несвойственный гротескному реализму оттенок, лишается своей утверждающей, возрождающей силы.
Более того, очень скоро в пьесе в столкновение с концепцией гротескного тела (уже в какой-то степени разрушенной) вступает так называемый новый телесный канон, концепция «индивидуального», по Бахтину, тела, современная Эрдману. Смерть в такой традиции -только смерть, она никогда не совпадает с рождением. В 23-м явлении 2-го действия, как только проходит первая радость Семена Семеновича от ощущения своей
значимости, исключительности, Подсекальников осознает свою отъединенность от окружающего мира. Именно новый канон тела можно увидеть в отчаянном, обращенном в никуда («слушатель-собеседник» оказывается глухонемым) монологе Семена Семеновича, осознавшего, что смерть необратима, окончательна. Мы видим в пьесе трансформацию гротеска, соответствующую его историческому пути развития: близкий ренессансному гротеск сменяется гротеском, близким модернистскому, - человек наедине со смертью. В итоге в следующей за монологом сцене проводов Подсе-кальникова «в лучший мир» трансформированный, ослабленный ренессансный гротеск сталкивается с модернистским гротеском. С одной стороны, создается яркая картина поминального застолья, насыщенная до предела карнавальными символами, образами и формами, непосредственно связанными с народной смеховой культурой. В духе карнавальных традиций Семену Семеновичу, собирающемуся умирать, «цыгане поют здравицу» , гости, провожая Подсекальни-кова в мир иной, пьют за его здоровье. С другой стороны, в то время, как все веселятся, Подсекальников произносит только на разные лады: «Сколько времени?» . Это яркое проявление модернистского гротеска: даже освобождающий карнавал - победу над страхом перед властью - он переживает в одиночку: «Нет, вы знаете, что я могу? Я могу никого не бояться, товарищи. .. .Все равно умирать» .
Именно в сцене «проводов», за полчаса до самоубийства, Подсекальников окончательно осознает свое особенное положение, положение вне жизни, вне устоявшихся рамок, законов, норм. Благодаря предельно близкой смерти положение «вне» в сознании Подсе-кальникова органически перетекает в положение «над», происходит свойственное карнавалу «шутовское увенчание» героя: «Я сегодня над всеми людьми владычествую. Я - диктатор. Я - царь, дорогие товарищи» . Таким образом, победа над страхом осуществляется на языке карнавальных форм и символов, но возможной становится - и это противоречит гротескному реализму - лишь благодаря близкой смерти героя. Развенчание Подсекальникова производится опять же надвигающейся смертью - слова Семена Семеновича «Жизнь, я требую сатисфакции» обрываются боем часов: «Бьет 12 часов. Гробовое молчание». Происходит развенчание выросшего до небывалых размеров Подсекальникова: «Как, уже? А они не вперед у вас, Маргарита Ивановна?» .
Интересно, что герой пользуется своей «сумасшедшей властью» исключительно в карнавальных координатах. «Захочу вот - пойду на любое собрание <...> и могу председателю. язык показать» . Этот жестикуляционный образ является частью особого карнавального «фамильярно-площадного контакта между людьми» . Следующее же действие Подсе-кальникова приобщает нас к карнавальным амбивалентным «ругательствам-срамословиям», которые, «снижая и умерщвляя, .одновременно возрождали и обновляли» : «Я сейчас, дорогие товарищи, в Кремль позвоню. <.> Позвоню... и кого-нибудь там... изругаю по-матерному» . Отголосок этой амбивалентности сохранился и в пьесе, не случайно цель данного
поступка сам герой формулирует словами «сделать такое, для всего человечества» . Карнавальное ругательство Семена Семеновича, обращенное к «кому-нибудь самому главному», - «и потом передайте ему еще, что я их посылаю...» - до сих пор несет в себе отголоски гротескного реализма. Хотя сам герой этого и не осознает и поступает «по наитию», его слова имеют целью будущее обновление, улучшение существующей власти, необходимое всем людям.
Истинно карнавальный характер носит «необузданное обжорство и пьянство» на поминовении Подсекальникова: «слово «умереть» в числе прочих своих значений значило также и «быть поглощенным», «быть съеденным»» . В карнавальной системе координат пир выступает обычно и «как существенное обрамление мудрого слова» : «момент пиршественного торжества неизбежно принимает форму предвосхищения лучшего будущего», что «придает особый характер пиршественному слову, освобожденному от оков прошлого и настоящего» . Вот почему так много политических речей в этой сцене, вот почему так по-карнавальному свободно произносятся крамольные речи, подобные этой: «Я считаю, что будет еще прекраснее, если наше правительство протянет ноги» . И в полном соответствии с гротескным реализмом все философствования в этой сцене «в той или иной форме развенчиваются и обновляются в материально-телесном плане» . Так, философские речи о политике, идеалах, судьбах России соседствуют с похабными анекдотами про Пушкина в бане, предложением купать проституток в ванной, образами материально-телесного низа -живота, груди, рвоты и т.д. «Революционная» аллегория Аристарха Доминиковича карнавально переводится в план еды Семеном Семеновичем.
Аристарх Доминикович. Кто, по-вашему, эта курица? Это наша интеллигенция. Кто, по-вашему, эти яйца? Яйца эти - пролетариат. <. > Пролетарии вылупились из яиц. Ухватили интеллигенцию и потащили к реке. <.> «Плыви», - заревели утки. «Я не плаваю». - «Ну, лети». - «Разве курица птица?» - сказала интеллигенция. «Ну, сиди». И действительно посадили. Вот мой шурин сидит уже пятый год. <.> Вы скажите, за что же мы их высиживали? Знать бы раньше, так мы бы из этих яиц... Что бы вы, гражданин Подсекальников, сделали?
Семен Семенович. Гоголь-моголь .
Совершенно не вдумываясь в политический смысл «аллегории», Подсекальников улавливает лишь внешнюю сторону рассказанной истории, вопрос Гранд-Скубика осмысляется им в плане материальном, кулинарном, гоголь-моголь - его любимое блюдо. Но наряду с карнавальным мы видим и сатирическое осмысление этой «аллегории»: услышав про шурина, которого посадили, гостья предполагает: «Он казенные деньги растратил, наверное». Как выясняется, она не ошиблась: «Деньги - это деталь» . Таким образом, истинной причиной заключения оказывается растрата. И этот факт сводит на нет весь политический смысл притчи. В противоречии с карнавальной системой координат, «мудрые слова» в пьесе, в том числе аллегория Гранд-Скубика, изначально воспринимаются отрицательно, в них нет карнавального утверждения и
возрождения, потому что личность говорящего обесценивает слова. Вместо того чтобы удержать ближнего от самоубийства, герои (в том числе и священник!) используют чужую беду в своих собственных, личных целях, выдаваемых за государственные. Они подстрекают к самоубийству Федю Питунина: «Надо будет в него червячка заронить» . Эта очередная жертва во имя благополучной жизни немногих «избранных» лишена карнавального возрождающего смеха и может рассматриваться нами только как поступок ужасный. Герои скомпрометированы этим поступком в глазах зрителя-читателя, идея обесценивается личностью, ее представляющей. И поэтому аллегория изначально воспринимается скептически. Внешне «высокие», государственного, общественного значения речи, идеи оказываются внутренне «низкими», связанными с сиюминутной личной выгодой за счет кого-то другого. Притча про курицу и уток лишь мимикрирует под «мудрые слова», и карнавальное снижение, перевод политических символов в план еды, кухни это констатирует, оформляет.
Некоторые критики видели в такой компрометации идей особый ход драматурга, «камуфляж», «классический для русской сатиры»: «выражающая авторское отношение реплика вкладывается в уста персонажа, заведомо.дискредитированного самим автором» . И действительно, мы, сегодняшние читатели и зрители, знаем, что аллегория Аристарха Доминикови-ча имела смысл: представителей настоящей интеллигенции будут сажать, и не за растрату, а за неосторожное, искреннее слово.
Осмысление, проверка идей - ядро пьесы Эрдмана. Карнавальное осмысление насущных идей России 1920-х гг. трансформируется в карнавальное осмысление идейной смерти. И в этом «Самоубийца» сродни карнава-лизованному жанру мениппеи. Но, в противоположность мениппее, в пьесе идеи существуют отдельно от героев, их представляющих. Справедливая идея «Вера есть. Верить негде у нас, товарищи. Церкви Божии запечатывают» отделяется в нашем сознании от ее представителя, священника, потакающего самоубийству, величайшему греху по христианским законам. Идея «погибнуть за правду» оказывается не по плечам «маленькому человеку» Подсекальникову. И снижение смерти достигает своего апогея, когда «два подозрительных типа вносят в комнату безжизненное тело Семена Семеновича» и выясняется, что Подсекальников, вместо того чтобы застрелиться, напился до потери сознания. «Мертвый» Подсекальников оказывается «мертвецки» пьяным, в духе гротескного реализма «кровь оборачивается вином» . В дальнейших явлениях пьесы смерть окончательно профанируется, становится просто игрой: так и не сумев покончить с собой, Семен Семенович вынужден притворяться мертвым.
Закольцовывается тема смерти в пьесе образом еды - причина «смерти» Подсекальникова (как мы помним, ссора происходит из-за желания поесть) становится причиной его «воскрешения»: Подсекальников «оживает» на своих «похоронах», не выдержав мук голода. Еда здесь «воскрешает», возвращает к жизни, пусть и в игровом плане. Таким образом, «смех, еда и питье побеждают смерть» .
Итак, как и в средневековом, ренессансном гротеске на протяжении почти всей пьесы Эрдмана образ смерти «лишен всякого трагического и страшного оттенка» , это «смешное страшилище». Такой смерть предстает и для зрителей, и для большинства героев. Но для Подсекальникова и его семьи «смерть» Семена Семеновича трагична, они не могут воспринимать смерть близкого человека в карнавальном духе - как естественный ход событий, ведущий к обновлению и новому рождению. Дело здесь в отсутствии «объективной причастности народному ощущению своей коллективной вечности» . Этого ощущения в пьесе нет ни у одного из героев. Все они вне новой жизни, вне народного целого, приветствующего эту новую жизнь. Смерть Подсекальникова осмысляется карнавально на протяжении практически всей пьесы только благодаря тому, что она имеет игровой характер. Подсекальников вне народа, экзистенциально одинок. Со своим страхом перед смертью, ужасом перед НИЧТО герой остается один на один как индивид, а не часть народа, и его положение осмысляется в кульминационных моментах пьесы в категориях модернистского гротеска.
Монолог Подсекальникова после его «воскрешения» - это карнавальная слава жизни тела: «Как угодно, но жить. .Товарищи, я не хочу умирать: ни за вас, ни за них, ни за класс, ни за человечество, ни за Марию Лукьяновну. В жизни вы можете быть мне родными, любимыми, близкими. ...Но перед лицом смерти что может быть ближе, любимей, родней своей руки, своей ноги, своего живота» .
Именно Посекальников, этот человечек, даже чело-вечишко, противостоит идее «общее выше личного» , произносит речь о том, что человеческая жизнь важнее любой идеи, любого лозунга, любого общества. Правда Подсекальникова в том, что человек имеет право на обычную, не идейную, не духовную, а простую жизнь, жизнь тела. Устами и историей Подсе-кальникова автор доказывает, что нет такой идеи, ради которой стоило бы умереть. И это карнавальный взгляд на мироустройство, где смерть - лишь «необходимый
момент в процессе роста и обновления народа» , необходимая составляющая жизни, ее катализатор, она не должна превалировать над жизнью.
Финал пьесы расставляет новые акценты. В карнавальной культуре «смерть никогда не служит завершением» и «если она и появляется к концу, то за нею следует тризна», т.к. «конец должен быть чреват новым началом, как смерть чревата новым рождением» (разрядка М. Бахтина. - К.Б.) . В финале же пьесы Федя Питунин, поверив в смерть за идею Подсе-кальникова, стреляется. Карнавальная смерть, смерть-игра, смерть-оборотень, вернее, жизнь, надевающая маску смерти, становится смертью реальной, окончательной, необратимой, «тождественной самой себе». Карнавальная стихия разрушается окончательно.
Карнавальный гимн Подсекальникова, сделавшего свой выбор, нашедшего себе идею по плечу: «пусть как курица, пусть с отрубленной головой, только жить» - сменяется предсмертной запиской Феди «Подсекальников прав. Действительно жить не стоит» . Нет такой идеи, ради которой стоило бы умереть, говорит нам Подсекальников. Но и нет такой идеи в современном Эрдману обществе, ради которой стоило бы жить, говорит нам Федя Питунин. Отсутствие идеи в новой жизни - ни для скомпрометировавших себя в пьесе представителей торговли, церкви, интеллигенции, искусства, ни для маленького человечка Подсекальникова, ни для действительно хорошего, мыслящего Человека Феди Питунина - главная проблема «Самоубийцы» Эрдмана. В этом истинный трагизм развязки пьесы, заставляющей нас по-новому, не только комически осмыслить все произведение.
Мы видим, что карнавальное начало организует целое пьесы на уровне композиции - прежде всего сюжета и системы образов. Но так как «Самоубийца» - комедия нового времени и автор пытается осмыслить современный ему мир, карнавальный смех переживает трансформацию от ренессансного к модернистскому гротеску в решающих моментах действия пьесы и часто теряет свою амбивалентность, превращаясь в отрицающий сатирический смех.
ЛИТЕРАТУРА
2. Театральная жизнь. 1991. № 5. С. 17.
3. Свободин А. О Николае Робертовиче Эрдмане. Вступительная статья // Эрдман Н. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания
современников. М.: Искусство, 1990. С. 5-18.
4. Поликарпова Е.С. Трагикомический театр Николая Эрдмана: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Самара, 1997. 18 с.
5. Селиванов Ю.Б. Поэтика мифологизирования в пьесе Николая Эрдмана «Самоубийца» // Системы и модели: границы интерпретаций.
Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2007. С. 171-174.
6. Миронова М.А. Пьеса Н. Эрдмана «Самоубийца» как неомифологический текст // Там же. С. 139-142.
7. Журчева О.В. Традиции народного театра в пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца» // Там же. С. 87-92.
8. Щеглов Ю. Конструктивистский балаган Эрдмана // Новое литературное обозрение. 1998. № 33. С. 118-160.
9. Шевченко Е.С. Театр Николая Эрдмана. Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2006. 213 с.
10. Гуськов Н.А. От карнавала к канону: Русская советская комедия 1920-х годов. СПб: Изд-во СПб. ун-та, 2003. 212 с.
11. Каблуков В. В. Драматургия Н. Эрдмана. Проблемы поэтики: Автореф. дис. . канд. филол. наук. Томск, 1997. 18 с.
12. БахтинМ.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. 2-е изд. М.: Худ. лит., 1990. 543 с.
13. Эрдман Н.Р. Самоубийца // Эрдман Н.Р. Самоубийца: Пьесы. Интермедии. Переписка с А. Степановой. Екатеринбург: У-Фактория, 2000. С. 101-216.
14. Велехов Л. Самый остроумный // Театр. 1990. № 3. С. 90-96.
Временем расцвета драмы стало первое постреволюционное десятилетие. Драма становится доминантным родом литературной эпохи, так как ее универсум – аналог романа, + остается «идеологически плюралистичной, так как обнародует различные т. з. Новая антропологическая картина советских пьес, анализируется смена типа героя и его антагониста, показана трансформация мотивной системы и переосмысление коллизий.
В этих пьесах основу коллизии определяет проблема классового размежевания, развиваются соц. темы, утверждаются идеологические приоритеты как высшие нравственные ценности, героем пьес становится человек, разделяющий и утверждающий идеалы новой формации – советского строя. Типы :
- соцдрама – это историко-героич. драма, которая освещает соц. события – Маяковский «Мистерия Буфф», Вишневский «Оптимистическая трагедия».
- важное место занимает комедия, Н. Эрдман «Мандат и «Самоубийца»
- социально-философская драма, связанная с именем М. Горького: «Мещане», «На дне»; М. Булгакова: «Бег», «Последние дни».
- психологическая драма (Арбузов «Таня», Леонов «Обыкновенный человек», Афиногенов «Машенька») – чеховская линия драматургии.
- появление драмы абсурда – театра Обэриу: Д. Хармс «Елизавета Бам» и А. Введенский «Елка у Ивановых».
- театр Е. Шварца, создателя условной драмы, или философской драмы в 1930 – 1950-е годы: пьесы «Тень» и «Дракон» (1943).
Драматургия в 1930-е сопровождался несколькими параллельно идущими процессами. С од. ст., начинает отстаиваться идея регламентированности – чистоты жанра: запрещается комедия. С др. ст., размывается сам жанр как концепция (угол зрения, мироотношение) – он сменяется просто «пьесой».
Пьеса «Самоубийца» (1928), здесь воссозданы реальные характеры в конкретно-исторических обстоятельствах. Вместе с тем в структуре драматического действия постоянно «двоится» реальный и фантастический планы. => абсурд, который у Н. Эрдмана не мировоззренческая категория, а прием, отражающий отклонение от нормы. Критики обнаруживают в «Самоубийце» фарс, балаган, клоунаду, гротеск. В комедии Эрдмана ставится проблема поиска человеком способа существования в открывшейся ему новой абсурдной реальности.
В основе пьесы Эрдмана и лежит алогизм (парадокс): гл. герой Семен Семенович задумал покончить с собой «на почве ливерной колбасы», желая отомстить жене, что привносит в происходящее элемент фарса. Алогизм становится основой драматического действия, в нем господствуют иррациональное и нецелесообразное, «живое» и «мертвое» меняются местами. Смерть в комедии является темой для анекдота, тем самым она приобретает компонент черного юмора. «Анекдоты» рассказывает и Серафима Ильинична.
Действие развивается по законам не смехового мира, а, напротив, страшного. Подсекальников находится в «пограничном» положении, он надевает маску покойника, находится м/у жизнью и смертью: Подсекальников для всех как бы уже не живой, а мертвый - воплощение абсурда существования.
Главный герой – живой участник и жертва этой эпохи, с которым она не считается. Подсекальников сделан главным героем пьесы не случайно, его образ многофункционален, имеет несколько планов.
Одно из важнейших средств создания алогизма на словесном уровне – каламбур. Они строятся, во-первых, на языковом сходстве; во-вторых, на этимологической игре слов; в-третьих, на скрытом абсурде. Первый вид каламбуров связан с именами двух главных героев. В фамилии Подсекальникова присутствует семантика преуменьшения. В комедии очевидны этимологические параллели: мясник Пугачев и Клеопатра Максимовна. Реальные ист. личности и дейст. лица пьесы соотнесены по гл. ф-и. Разговор всех друг с другом – разговор глухих. Между персонажами находится «стена» отчуждения, они ее выстраивают сознательно.
Эрдман представляет постреволюционную эпоху ХХ века, основные социальные группы и прослойки представляют разные стороны гос. жизни: власть (Кремль), пролетариат (Егор Тимофеевич), интеллигенция (Гранд-Скубик, Виктор Викторович), торговля (бывшее купечество – Пугачев), религия (отец Елпидий), мещанская среда (Подсекальников).
Одна из самых сильных пьес прошлого века в России - «Самоубийца» Николая Эрдмана - до сих пор, на наш взгляд, не нашла адекватного сценического воплощения.
Через месяц в Театре Пушкина - премьера спектакля по этой пьесе. «Новая» в нем участвует не только в качестве болельщика и информационного спонсора, но и - партнера.
В конце шестидесятых сидим с Александром Галичем возле пруда, под Рузой, в писательском Доме творчества, и я вижу: издалека, от шоссе, идет, направляясь к нам, незнакомец - остроносый, поджарый, седой, удивительно похожий на артиста Эраста Гарина. (Потом я узнаю: скорее, наоборот, это Гарин, зачарованный им в общей их молодости, невольно стал ему подражать, усвоив-присвоив даже манеру речи, которую мы считаем неповторимо гаринской. Заикание и то перенял.)
В общем, мой друг Саша встает - тоже как зачарованный - и, ни слова мне не сказав, уходит навстречу пришельцу.
Кто это? - спрашиваю, дождавшись его возвращения.
Николай Робертович Эрдман, - ответствует Галич с безуспешно скрываемой гордостью. И добавляет показательно скромно: - Зашел меня навестить. <…>
То был единственный раз, когда я видел Эрдмана, и, не сказавши с ним ни единого слова, вспоминаю это как значительный миг моей жизни. А что, если бы вы одним глазком увидали живого Гоголя, вы бы про это забыли?
Преувеличиваю, но не чрезмерно. «Гоголь! Гоголь!» - кричал Станиславский, слушая текст комедии «Самоубийца», написанной в 1928 году. <…>
Николай Эрдман стал - стал! - гением в «Самоубийце».
Вот уникальный случай, когда в пределах одного произведения происходит не просто перерождение первоначального замысла, то есть дело обычное, как правило, запечатленное на уровне черновиков или проявившееся в признаниях самого автора. В «Самоубийце» же по мере развития действия прозревает, растет сам Эрдман. Он постепенно и явно неожиданно для себя совершает восхождение на принципиально иной уровень отношений с действительностью.
Откуда, из каких низин начинается это восхождение?
Семен Семенович Подсекальников, безработный обыватель, в начале комедии - всего лишь истерик, зануда, из-за куска ливерной колбасы выматывающий из жены душу. Он - ничтожество, почти настаивающее на своем ничтожестве. И когда в пьесе впервые возникнет идея как бы самоубийства, она именно как бы; она фарсово почудилась перепуганной супруге.
Да и фарс-то - фи! - грубоват.
Подсекальников тайком отправляется на кухню за вожделенной колбасой, а его ошибочно стерегут у запертой двери коммунальной уборной, опасаясь, что он там застрелится, и тревожно прислушиваясь к звукам - фи, фи и еще раз фи! - совсем иного характера. <…>
Даже когда все повернется куда драматичней, когда затюканный мещанин допустит всамделишную возможность ухода в иной мир, балаган не закончится. Разве что балаганный смех будет переадресован. Пойдет огульное осмеяние тех, кто решил заработать на смерти Подсекальникова, - так называемых «бывших». <…>
То есть - можно встретить и этакое:
« - Вы стреляетесь. Чудно. Прекрасно, стреляйтесь себе на здоровье. Но стреляйтесь, пожалуйста, как общественник. Не забудьте, что вы не один, гражданин Подсекальников. Посмотрите вокруг. Посмотрите на нашу интеллигенцию. Что вы видите? Очень многое. Что вы слышите? Ничего. Почему же вы ничего не слышите? Потому что она молчит. Почему же она молчит? Потому что ее заставляют молчать. А вот мертвого не заставишь молчать, гражданин Подсекальников. Если мертвый заговорит. В настоящее время, гражданин Подсекальников, то, что может подумать живой, может высказать только мертвый. Я пришел к вам, как к мертвому, гражданин Подсекальников. Я пришел к вам от имени русской интеллигенции».
Интонация издевательская - говорю, разумеется, об интонации, которую насмешливая авторская воля навязала персонажу. Но какая за всем этим ужасающая реальность!
Разве большевики и вправду не зажимали интеллигенции рот? Разве так называемый философский пароход не увез по ленинскому приказу в безвозвратную эмиграцию лучших российских мыслителей? Наконец, разве наиболее страшный из всех жестов протеста, публичное самосожжение, не есть в самом деле то, что «может высказать только мертвый»? <…>
Сам Подсекальников, ничтожнейший из ничтожных, вдруг начинает расти. Сперва лишь в своих собственных глазах: окруженный непривычным вниманием, он стремительно эволюционирует от самоуничижения, свойственного большинству ничтожеств, до самоутверждения, свойственного им же.
Его триумф - телефонный звонок в Кремль: «…я Маркса прочел, и мне Маркс не понравился». Но мало-помалу от подобного идиотизма он дорастает до монолога, который - соборным хором! - могла бы произнести вся русская литература, озабоченная сочувствием к «маленькому человеку». От Гоголя с Достоевским до Зощенко:
« - Разве мы делаем что-нибудь против революции? С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно жить. Ради Бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию, разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну хотя бы вот так, шепотом: «Нам трудно жить». Товарищи, я прошу вас от имени миллиона людей: дайте нам право на шепот. Вы за стройкою даже его не услышите. Уверяю вас».
«Право на шепот». <…>
«Отказ героя от самоубийства… переосмыслился, - сказала о пьесе «Самоубийца», назвав ее гениальной, Надежда Яковлевна Мандельштам, - жизнь отвратительна и непереносима, но надо жить, потому что жизнь есть жизнь… Сознательно ли Эрдман дал такое звучание, или его цель была проще? Не знаю. Думаю, что в первоначальный - антиинтеллигентский или антиобывательский - замысел прорвалась тема человечности. Эта пьеса о том, почему мы остались жить, хотя все толкало нас на самоубийство». <…>
Невероятная пьеса ухитрилась проделать такой путь: сперва - водевиль с потным запахом балагана, затем - трагифарс, а в финале - трагедия. Вполне созвучная, скажем, самоубийству Есенина с его прощальным:
…В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей. <…>
Естественно, власть отреагировала так, как и должна была отреагировать. Запретила комедию к постановке (не говоря о печатании) - сперва Мейерхольду, потом и Художественному театру, все более обретавшему статус официального. Зря Станиславский рассчитывал на последнее, так объяснив мотивы своего обращения к «глубокоуважаемому Иосифу Виссарионовичу»:
«Зная Ваше всегдашнее внимание к Художественному театру…» - и т.п.
Не помогло. Не спасли дела ни уловка Константина Сергеевича, толковавшего «Самоубийцу» с точки зрения первоначального замысла, «антиинтеллигентского или антиобывательского» («На наш взгляд, Н. Эрдману удалось вскрыть разнообразные проявления и внутренние корни мещанства, которое противится строительству страны»), ни просьба к товарищу Сталину лично просмотреть спектакль «до выпуска в исполнении наших актеров».
Это что ж - как у Николая I c Пушкиным? «Я сам буду твоим цензором»? Ишь, чего захотел старик! Такие творческие союзы возникают исключительно по инициативе сверху. И в результате:
«Многоуважаемый Константин Сергеевич!
Я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийство» (так! - Ст. Р.). Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна»… <…>
Плебей Джугашвили понимал плебея Подсекальникова, его породу, его природу. И чем более понимал, тем более презирал в нем плебейство, то, которое с неудовольствием ощущал и в себе самом (смотря «Турбиных», ощущал по контрасту). Как Николай I не мог простить Евгению из «Медного всадника» его «ужо!», обращенное к истукану Петра (что, как известно, стало одной из причин запрета, наложенного на поэму), так мольба Семена Семеновича о «праве на шепот» должна была привести в раздражение Сталина… <…>
Получивший возможность шептаться в своем углу (бог его знает, о чем) или насытившийся - независимы. По крайней мере избавлены от постоянного чувства страха или благодарности. <…>
Эрдмана Сталин решил наказать. И наказал - соответственно по-плебейски, выбрав как повод пьяную оплошность артиста Качалова.
Что именно тот прочел? Чем подставил Эрдмана (а заодно и Владимира Масса, и еще одного соавтора, Михаила Вольпина)?
На сей счет мнения разные. Ясно, что никак не могло быть прочитано, скажем, вот это: «Явилось ГПУ к Эзопу - и хвать его за ж… Смысл этой басни ясен: довольно басен!». Тем более что, вероятно, этим печальным ерничеством соавторы отметили уже свершившийся поворот своей судьбы. А все прочие басни - вернее, пародии на басенный жанр - сравнительно безобидны. Да, говоря по правде, и не отличаются блеском. <…>
В общем, так или иначе Качалов был оборван хозяйским окриком, и этого повода (потому что нужен был только повод, причина назрела) хватило, дабы Эрдмана и соавторов арестовать. Его самого вкупе с Массом взяли в 1933 году в Гаграх, прямо на съемках «Веселых ребят», чей сценарий они написали.
Фильм вышел уже без имен сценаристов в титрах, как и «Волга-Волга», к которой Николай Робертович тоже приложил руку. К нему, ссыльному, приехал объясняться режиссер Александров. «И он говорит: «Понимаешь, Коля, наш с тобой фильм становится любимой комедией вождя. И ты сам понимаешь, что будет гораздо лучше для тебя, если там не будет твоей фамилии. Понимаешь?». И я сказал, что понимаю…».
Об этом Эрдман поведал артисту Вениамину Смехову.
Что дальше? Ссылка, вначале - классическая, сибирская, в Енисейск, что дало Эрдману печально-веселое основание подписывать письма к матери: «Твой Мамин-Сибиряк». Война, мобилизация. Отступление, причем Николай Робертович шел с трудом: ноге всерьез угрожала гангрена (из этих дней его друг Вольпин, и в ту пору деливший его судьбу, тоже вынес несколько эрдмановских шуток, не настолько нетленных, чтобы их воспроизводить, но свидетельствующих об удивительном присутствии духа). Затем - нежданная встреча в Саратове с эвакуированными мхатовцами, спасшими Эрдману ногу и, видимо, жизнь. И уж вовсе внезапный вызов в Москву, да к тому же в ансамбль песни и пляски НКВД, под непосредственный патронаж Берия. Есть байка, как Эрдман, увидав себя в зеркале облаченным в шинель чекиста, сострил:
Мне к-кажется, что за мною опять п-пришли…
Наконец, даже Сталинская премия за фильм «Смелые люди», патриотический вестерн, сделанный по сталинскому заказу. И - поденщина, поденщина, поденщина. Бесчисленные мультфильмы, либретто правительственных концертов и оперетт, «Цирк на льду» и, незадолго до смерти в 1970 году, как отдушина, дружба с Любимовым, с молодой «Таганкой».
Собственно, для варьете, мюзик-холла Эрдман отнюдь не гнушался писать и раньше, но одно дело - до, другое - после «Самоубийцы» <…>
Ищук-Фадеева Нина Ивановна 2011УДК 82.801
Н. И. Ищук-Фадеева
КОНЦЕПТ САМОУБИЙСТВА В РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ («САМОУБИЙЦА» Н. ЭРДМАНА)
Сложная жанровая природа пьесы Н. Эрдмана «Самоубийца» анализируется в контексте классических образцов трагедии с самоубийством. Традиционные мотивы суицида в западноевропейской драматургии -искупление вины, безвыходная ситуация, честь, любовь, поиск смерти как форма «скрытого самоубийства». Русская драматургия XIX в. переносит мотив самоубийства из трагедии в трагифарс, или в «комедию с самоубийством», вводя мотивы мнимой смерти и «немотивированного» самоубийства, что осложняет жанр и деформирует механизм жанрового ожидания. Сведение классических моделей и их переосмысление происходят в «Самоубийце» Эрдмана, создавшего редкий жанр - пародию на трагедию.
Ключевые слова: трагедия, концепт, искупление, долг, честь, трагифарс, пародия, жанровая трансформация.
Концепт смерти имеет жанрообразующее значение для трагедии - не случайно в расхожем представлении «простодушного» зрителя комедия ассоциируется со свадьбой, а трагедия - с гибелью героя, чаще всего с убийством. Реже трагедия заканчивается самоубийством, но тем значимей подобный финал: драматический герой, как известно, отличается сильной волей, направленной на изменение мира. Самоубийство - поступок, завершающий судьбу, и потому оно требует концентрации всей воли человека. Кульминации, как правило, предшествует большое потрясение, ставившее (ставящее?) героя в безвыходную ситуацию. Смыслом трагедии становится не столько факт самоубийства, сколько показ того, как герой идет к смерти и принимает ее.
Первая трагедия рока - «Эдип царь» Софокла -уникальна не только тем, что сформировала структуру классического жанра, но и своим финалом, в котором представлены два типа самоубийства: Иокаста вешается, Эдип выкалывает себе глаза. Иначе говоря, финал определяют прямой суицид и метафорический: наказывая себя слепотой, Эдип погружается во тьму, что в мифологическом представлении равнозначно смерти. Таким образом, в первой трагедии рока представлены те формы самоубийства, которые будут варьироваться в трагедии на протяжении веков, - это принятие смерти во имя очищения от скверы содеянного.
Греческая трагедия показывает и ситуацию вынужденного самоубийства, что стало сюжетом Со-фокловой «Антигоны». Замурованная, она кончает жизнь самоубийством от безвыходности в прямом смысле: не желая медленной и мучительной смерти, Антигона решает уйти по собственной воле -быстро. Наконец, еще один вариант трагического ухода из жизни представляет «Ипполит» Еврипида, финал которой - катастрофическое прозрение Тезея - подготовлен самоубийством Федры, и оно важно как для понимания смыслов этой психологически сложной трагедии, так и для «типологии»
самоубийств. Развязку определяют самоубийство ради чести и сохраненная жизнь, которая страшнее смерти.
По сути, именно в древнегреческой трагедии складываются те ситуации, которые могут стать сюжетной мотивацией предельного проявления воли героя к смерти. И только одно «самоубийственное» открытие происходит в ренессансном театре - это суицид ради любви, история, печальнее которой «нет... на свете», история Ромео и Джульетты. Любовный мотив очевиден: смерть возлюбленной превращает мир мертвых в рай желанный: нет смысла оставаться в этом мире без любимой, ибо он становится «мертвым». Но есть еще один концепт, значимый для последующих метаморфоз классического жанра, - это ситуация мнимой смерти. В этой самой «светлой трагедии», руководимой отцом Лоренцо, все продумано острым умом человека до мельчайших подробностей, но игры со смертью чреваты, и герой, дерзнувший обмануть смерть, наказан: Ромео умирает, потому как считает Джульетту мертвой, а та - потому что видит мертвым Ромео. «Режиссер» смерти остается жить, но подобно Тезею Лоренцо уготовано печальное существование с привкусом вины за «брак со смертью».
Трагедия классицизма остается в пределах уже найденных вариантов последнего рандеву героя с судьбой, хотя и эта эпоха нашла один, весьма специфический вариант самоубийства - «стыдливое» или скрытое самоубийство. Так, в трагедии П. Корнеля «Сид» герой в поисках смерти идет на битву с маврами, где вместо гибели обретает славу, затем -к Химене, уже не Родриго, но Сидом снедаемым, несмотря на победу, жаждой любовного поражения. Но, как пишет Р. Барт, исследуя творчество Расина, «парадокс состоит в том, что поражение -организующая идея трагедии, и однако же высшая форма поражения - смерть - никогда не воспринимается участниками трагедии всерьез. Смерть здесь - просто имя, часть речи, аргумент в споре.
<...> Трагедийная смерть не страшна, чаще всего это пустая грамматическая категория...
Имеется, во-первых, гибель, которую ищут. Это как бы стыдливое самоуничтожение, ответственность за которое перелагается на случай, на внешнюю угрозу, на небесные силы. Такая смерть совмещает в себе привлекательные черты воинского подвига и отсроченного самоубийства» . Справедливость столь неожиданного взгляда на трагедию как на стремление к смерти, о которой больше говорят, чем принимают, наиболее откровенно демонстрируют трагедии и Корнеля, и Расина.
Романтическая трагедия развивается в русле уже известных моделей, хотя и ей удалось внести свою лепту в классический жанр с самоубийством, - это «Эмилия Галотти» Г. Лессинга. Финал трагедии строится на «игре» с кинжалом: Эмилия хочет, заколовшись, избежать позора, но духовной силе не соответствует физическая слабость, и складывается особая, двойственная ситуация самоубийства-убийства: отец, заколовший дочь, не убийца, а спаситель, исполнивший волю своей сильной духом и гордой дочери.
Русская трагедия XVIII в. остается в рамках жанрового канона, и потому самоубийство главного героя предстает как бы ожидаемым и вполне соответствующим сложившейся ситуации - так, по крайней мере, происходит и у А. Сумарокова, и у Я. Княжнина. Тем более разительна та жанровая ломка, которую пережила русская драматургия в XIX в., ярким показателем которой стал «блуждающий» концепт самоубийства. Рассмотрим несколько драматургических текстов, «причастных» к суициду.
Любопытно, что начало века ознаменовано трагедийными убийствами («Борис Годунов», «Маленькие трагедии» Пушкина, «Маскарад» Лермонтова). К идее самоубийства драматические герои приходят только во второй половине века, и - весьма показательно - первый «самоубийца» затевает свои игры со Смертью в трагифарсе - это «Смерть Тарелкина» (1869) А. Сухово-Кобылина, последняя, третья, часть его «Картин прошедшего». Традиционное решение драматического героя - изменение мира или отказ/уход от жизни, но Тарелкин -герой абсолютно не трагический и даже не драматический, он - герой гротескной или «черной комедии», поэтому смерть - естественное продолжение его стиля жизни. Фарс жизни переходит в фарс смерти: Тарелкин - тот, кто организовал себе «бессмертную смерть» и стал единственным из смертных, кто смог ощутить вкус бессмертия. Эта комедия-шутка, по сути, есть не что иное, как развернутая эпитафия.
Драматический сюжет как путь героя к самоубийству определяет и пьесы Чехова, подготавли-
вающие поэтику «новой драмы», в частности, драму «Иванов» (1899). Особенность сюжетики этой переходной пьесы в том числе и в концепте самоубийства, которое и не подготовлено сюжетно, и композиционно выстроено необычно. Итак, в классической драме суицид вписан только в жанр трагедии - как максимально возможное проявление вовне воли человека, ибо воля к смерти оказывается сильнее инстинкта жизни. Будучи самым значимым поступком в жизни героя и самой сильной позицией в произведении, самоубийство тщательно подготавливается - и насыщенной фабулой, и особой риторикой. Парадокс «Иванова» - в расхождении фабулы и сюжета: события складываются так, как хотелось бы герою, но - совсем в логике трагической иронии - в момент, когда Иванов приходит к триумфу, он вынужден признать себя побежденным: «Погиб безвозвратно! <...> О, как возмущается во мне гордость, какое душит меня бешенство!» Констатировав свою духовную смерть, герой в последнюю минуту выбирает и физическую смерть, отказавшись от искушения любовью. Самоубийство, совершенное практически уже на свадьбе, невольно возрождает древний символ обручения со смертью. Но в трагедийную модель самоубийство героя не вписывается: нет искупления Ьашагйа, как у Эдипа и Иокасты; нет суицида во имя чести, как у Федры; нет принятия смерти во имя любви. Иначе говоря, нет ни одного из классических условий, провоцирующих героя на добровольный уход из жизни. Что же способно было сподвигнуть драматического героя на самоубийство в конце XIX в.? Ощущение катастрофы из внешнего мира перемещается во внутренний мир героя, и никакое кажущееся благополучие не способно приглушить ощущение личностного краха - разочарование в самом себе оказывается сильнее желания жить.
«Иванов» начинает особый метасюжет с самоубийством в драматургии Чехова. Очень важной для понимания новой драмы стала комедия с самоубийством «Чайка». Для концепта добровольной смерти эта пьеса оказывается во многом парадоксальной: есть потенциальное самоубийство, покушение на убийство и свершившийся суицид почти на сцене. Треплев дважды стреляется - первым он только ранил себя и сделал несчастной Машу: «. если бы он ранил серьезно, то я не стала бы жить ни одной минуты» . Иванов совершает роковой выстрел после большого монолога на глазах у своих близких, и сама публичность воссоздает атмосферу классических трагедийных финалов. Треплев же сдержан в выражении своих чувств; он живет одиноким и непонятым и также одиноко и непонятно умирает. Более того, его смерть не только не оплакана, но и не «обнародо-
вана» - во всяком случае, на сцене. Последняя фраза комедии - «Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился...» - структурно темна: внимание направлено на Аркадину, а самоубийца не удостоился даже самой краткой эпитафии. Трагедия редуцирована, во-первых, высказанным стремлением самого героя к самоубийству («Я имел подлость убить сегодня эту чайку. <...> Скоро таким же образом я убью самого себя» ), во-вторых, отношением Дорна, в общем симпатизировавшего молодому писателю, к его гибели как к «делу». Таким образом, авторской воле, оценившей созданный им мир как «комедию», соответствует структура, лишившая каких-либо знаков значительности самое серьезное событие в жизни еще одной ипостаси заглавного образа Тре-плева.
Следующие пьесы последовательно снижают концепт самоубийства: в «Дяде Ване» есть одно неудачное покушение Войницкого на убийство и им же задуманное, но не исполненное самоубийство. Знакомые умонастроения - разочарование в прошлом, пустота в настоящем и тоска в будущем - не привели к ожидаемому суициду, а вернули к обыденной жизни, хотя и «тяжело» эту жизнь принять. А уже в «Трех сестрах» «синдром» Вой-ницкого приобретает пародийный характер: про внесценическую жену Вершинина известно только то, что она «с длинной девической косой, <.> философствует и часто покушается на самоубийство, очевидно, чтобы насолить мужу» . Угроза смерти как повод для семейной ссоры - это уже совсем иная ситуация, невозможная ни в трагедии, ни даже в драме. В данном контексте упоминание о суициде становится штрихом к портрету претенциозной дамы с неустойчивой психикой. И уже полностью лишено романтического ореола самоубийство в воспоминаниях Раневской: «.я пробовала отравиться. Так глупо, так стыдно.» . Так изживается многовековая традиция приводить героя к суициду только в трагедии. Для Чехова, творившего в преддверии надвигающейся катастрофы, ореолом жертвенности окрашена не воля человека к смерти, а его мужество принять жизнь и прожить, сколько тебе положено, достойно. Таким образом, меняющийся концепт смерти проясняет не столько жизнь, сколько человека в его отношении к смерти и жизни.
«Живой труп» Л. Толстого оксюморонностью своего названия ломает механизм жанрового ожидания и делает невозможным рецептивное предвосхищение фабулы. Пьеса не только психологически точно написана, но и провокационна своим сюжетом: герой находится как бы между мирами, трижды совершая самоубийство. Первое было за-
думано, но прервано Машей и стало метафорой статуса Протасова; второе явилось инсценировкой, идея которой была заимствована цыганкой из романа Н. Чернышевского «Что делать»; и только третье привело героя к реальной смерти. Волю к смерти герой не проявлял - его подтолкнули к суициду те, кто считал свою жизнь сломанной по его вине. В наиболее мягкой форме мысль о необходимости ухода Протасова из жизни вербализовал Иван Петрович: «Себя убьешь револьвером, а их великодушием» . Высказанные им взгляды («Я умираю в жизни и живу в смерти» ) корреспондируют с заглавием, но в данной ситуации важен факт несвободного выбора героя («.сделаю то, что они хотят.» ), которому суицид как бы предписан, причем желание его смерти последовательно исходит от жены, друга и «общества». Иначе говоря, возникает ситуация «стыдливого» убийства, маскирующегося под самоубийство. Композиция драмы выстроена очень четко: рядом с Протасовым две женщины, при этом одна, жена, толкает его к смерти, а вторая, любимая, спасает от реальной смерти, организовав мнимую.
Неоднозначность смерти проявляется не только в вынужденном самоубийстве, но и в самом отношении Лизы как к «живому», так и к «трупу». «Самоуничтожение» Протасова вызывает в жене приступ любви к нему, «умершему», а «живой» муж ей ненавистен - самоубийство, таким образом, воспринимается единственным способом разрешения ситуации, но с точки зрения не Протасова, а его близких. Окончательно проясняется Лизино отношение к ситуации в пятом действии: ужасным оказывается не тот факт, что первый муж умер, а тот, что он жив. Рефреном финала четвертого действия становится заклинание в любви («Люблю его одного, люблю» ), а рефреном финала следующего действия стало выплескивание противоположного чувства («О, как я ненавижу его» ). Таким образом, возникает любопытная связь мотивов любви и мнимой смерти, но органичная в «Ромео и Джульетте» в драме Толстого она принимает инверсированный характер: даже мнимая смерть предпочтительнее жизни.
Дальнейшее развитие идет по пути переосмысления, чаще всего иронического и/или пародийного, классических моделей с самоубийством. Наиболее открыто отказ от классической традиции представлен в пьесе Ф. Сологуба «Заложники жизни», в которой воспроизводится древний, библейский любовный треугольник - Лилит, Адам и Ева, показанный через судьбы современных Сологубу героев. Влюбленные Миша и Катя оцениваются другими персонажами как Ромео и Юлия - сравнение вполне правомочное, учитывая, что родители
молодых людей - идеологические оппоненты, и согласия на брак не дают. Миша, страстно влюбленный в Катю, предлагает вместе умереть, что для него предпочтительнее жизни врозь. Принеся на свидание яд, он был разочарован отказом Кати совершить двойное самоубийство - ее мотивация и проясняет заглавие пьесы:
Михаил. Катя, разве страшно умереть вместе? Как умер этот день, и мы умрем. Разве тебе страшно умереть со мною? <.. >
Катя. Хочу жить. Счастия хочу и победы над жизнью. Мы молоды и сильны, и победим. Разве не мы хозяева жизни? Разве не нам принадлежит завтрашний день, когда мы будем сильны и свободны? <.> Я не трусиха. Умереть не страшно. Никакой храбрости не надо. Для жизни больше надо храбрости .
Пьеса странная, но важная в данном аспекте именно сопоставлением с классической моделью и отказом от нее.
В этом контексте особое значение приобретает трагикомедия Н. Эрдмана «Самоубийца» (1928), которая завершает семантическое движение концепта, изначально определяющего жанр трагедии: Эрдман в той или иной форме использует все известные сюжетные модели, создавая - на стыке иронии и пародии - особенный сюжетный код, преобразующий классический жанр в редкую жанровую форму.
Прежде всего обращает на себя внимание заглавие: оно не именное, как в классической трагедии, но и не ситуационное, как чаще всего бывает в комедии. Вынесенный в заглавие субъект действия актуализирует само действие, направленное на смерть. Таким образом, мортальность заложена в механизм рецептивного ожидания, а не обозначенное имя субъекта действия создает возможность богатой смысловыми возможностями театральной игры.
Игровая природа пьесы обусловлена в первую очередь пародийным началом, пронизывающим все основные уровни, - речевой, сюжетный и жанровый.
На лексическом уровне сюжет начинает развиваться в результате придания конкретного значения фразеологическому обороту: «Что же мне, подыхать, что ли? <...> Ты последнего вздоха моего домогаешься?» - «Вдруг он что-нибудь над собою сделает» . Дальнейшие события напоминают стремительно разрастающийся снежный ком: вызванный на помощь Маргаритой Лукьяновной Калабушкин рьяно берется за поиски потенциального самоубийцы, во время которых и происходит знаменательное столкновение двух ми-
ров - бытового и мортального: Подсекальников наконец добрался до желанной ливерной колбасы, но настигший его Калабушкин кусок колбасы принимает за револьвер, готовый выстрелить прямо жертве в рот. Сцена, безусловно, соотносимая с комедией ошибок: сосед пытается отобрать у Подсе-кальникова револьвер, а тот боится, что Александр Петрович обнаружит колбасу. Ситуация разрешается благодаря духовой трубе. Эпизод смешной, но знаменательна модель ситуации, восходящая к «Живому трупу»: мысль о самоубийстве появляется не в голове героя, а в сознании его близких, как бы заранее решивших за него его судьбу. Уверения Александра Петровича «все же знают, что вы стреляетесь» , по сути, подготавливают формулу сюжета: проговаривая ситуацию, приговаривают героя. Подсекальников «осужден» на смерть не решением суда, но мнением «масс» - «другому» же принадлежит и мотивация: «Потому что вы год как нигде не работаете и вам совестно жить на чужом иждивении» . Так, герою навязывается комплекс вины - один из классических видов «самоубийственной» модели, принимающий у Эрдмана откровенно пародийный характер. Несмотря на это, Подсекальников становится «заложником смерти».
Пародийное снижение мифологического плана, например единства Эроса и Танатоса, проявляется сначала тоже на речевом уровне, скажем, в особом «эзоповом языке» Александра Петровича и Маргариты Ивановны: заняться любовью на их интимном языке называется «побеседовать о покойнице». Тот же принцип травести трагического определяет и сцену, когда Клеопатра приводит на кладбище своего возлюбленного, пытаясь таким пространственным решением воссоединить Эроса с Танатосом, т. е. «процитировать» модель обручения со смертью. Само имя второй «охотницы за самоубийцей» - Клеопатра Максимовна - знаково: Клеопатра просит мужчину застрелиться как бы из-за любви к ней - травестия древней легенды, являющей нерасторжимую связь Эроса и Танатоса, представлена в карикатурной паре дам, воюющих между собой за право быть «Клеопатрой».
Особенность драматического слова Эрдмана отличает и прием деметафоризации. Реализация метафоры, как уже говорилось, спровоцировала завязку, тот же прием формирует одну из комедийнокульминационных точек пьесы: в минуты сомнений в себе и в жизни к «мнимому самоубийце» приходят из Вечности, доставив гроб. И вновь складывается ситуация по логике деметафориза-ции: Подсекальникова буквально «загнали в гроб». Прием реализации метафоры характерен для комедии, и образ «мнимого самоубийцы» как будто возрождает модель «мнимого больного», но двойст-
венность «мнимой смерти», фиктивность которой зависит от знания/незнания персонажей, усложняет и сюжет пьесы, и ее жанр.
Своеобычен и сюжет «Самоубийцы», разворачивающийся в специфическом хронотопе: «Худо -жественное пространство «Самоубийцы» охватывает коммунальную квартиру <...>, ресторан <...> и кладбище <. >, т. е. физиологический зигзаг жизни, в котором квартира - средняя точка: не банкет и не похороны, а будничная жизнь обычных людей. Но даже это пространство - квартира - не подвластно личности, так как оно «обобществленное», обезличенное, и чтобы в нем существовать, требуется постоянная идентификация самых близких людей.» . Но и кладбище у Эрдмана становится игровым, а не сакральным пространством.
Завязка пьесы, отмеченная густо выписанными бытовыми подробностями, почти сразу приобретает характер иронического переосмысления: возможный суицид мотивируется не «эдиповым комплексом» самоубийства и не долгом чести, а элементарным голодом: импульс к действию задает мечта героя о ливерной колбасе, развязка - на стремлении голодного «воскресшего» к аппетитной кутье. Пьеса, которая начинается как «комедия ошибок», с самого начала балансирует на грани предметного и метафорического смыслов, и тот факт, что первые же реплики пьесы звучат ночью, чрезвычайно важен для ее понимания: темнота способствует путанице, создавая особый, сновидческий эффект: «Она как будто и рождает Серафиму, выталкивая женщину из своих недр вдруг, тихо и страшно» , но то же самое можно сказать и о других обитателях коммунальной квартиры, за исключением, как считает Е. Стрельцова, Егора Тимофеевича, единственного, «кто внедряется в “свиту” от яви, а не от сна.» .
Завязка важна не только как импульс к действию, в данном случае - движением к смерти, но и сцеплением значимых мотивов, выстраивающих метасюжет, включающий в себе коды знаковых текстов, в том числе религиозных. Так, важна сцена с геликоном, соотносимым в данном случае с Иерихонской трубой, что выводит конфликт на иной уровень. В духовой трубе Подсекальников видит свое спасение, но оно не происходит из-за некорректно написанной инструкции. Так что «судный день», возвещенный было голодным безработным Подсекальниковым, не наступил из-за несостоятельности «трубача».
В том же эпизоде проясняется особая семантика женских имен - Мария и Серафима. Не случайно, что Мария обращается за помощью к Богу: «Господи, если ты существуешь на самом деле, ниспошли ему звук. В этот самый момент комнату оглашает совершенно невероятный рев трубы» . Ее просьба услышана и удовлетворена, т. е. Бог услышал жену страждущего, но остался глух к претензиям Семёна Семёновича - не потому ли, что в этой системе библейских именных ассоциаций Семён скорее всего соотносим с Симоном волхвом, известным своим корыстолюбием и «играми» с воскресением сына некоей вдовы . Не достигнув желанного результата (в библейской интерпретации - не получив денег за ниспосланный дар Божий), Семён Семёнович возвращается к мыслям о самоубийстве, т. е. о самом страшном из всех смертных грехов. Размышления о переходе времени в вечность неизбежно приводят Подсе-кальникова к Богу, встреча с которым воспроизводит известную басню Крылова «Стрекоза и муравей», с заменой «пела» на «страдала»: «И душа начинает петь и плясать» . Таким образом, смерть предстает как освобождение от страданий, но это только в том случае, если Бог есть. Сам Бог, даже в случае великодушного отношения к представшему, суть муравей, т. е. трудолюбивое существо, но без порывов вдохновения. Этот бытийный вопрос, от которого зависит жизнь после смерти, вопрос о существовании Бога, «самоубийца» адресует глухонемому, что делает ситуацию безнадежной - ответ невозможен по определению. Сама ситуация исповеди перед глухим - отзвук чеховской поэтики, в частности, ситуации, когда Андрей Прозоров исповедуется перед глухим Ферапонтом (действие второе), рассказывая о своем одиночестве, о том, что среди близких он чувствует себя «чужим», как позже Подсекальников будет чувствовать себя «мертвым» среди живых.
Не получив однозначного ответа на вопрос, есть ли загробная жизни даже от отца Елпидия, Подсекальников принимает решение «пострадать за всех», за всех «милых» «сволочей» - так рождается травестированная история страстотерпца советского образца. И ощущая себя принявшим страдания за всех, уже отпетый в прямом смысле, герой освобождается от страха; он, «живой труп», остро ощущая свою «сумасшедшую власть» , желает померяться ею с официальной властью - звонит в Кремль, чтобы сказать «правду»: «. я Маркса прочел, и мне Маркс не понравился» .
Основной композиционный принцип «Самоубийцы» - это сопряжение сниженно-бытового начала и мортально-философского. В знак разбитой жизни Подсекальников разбивает посуду, и разбитая чашечка оказалась последним шагом к столкновению со Вселенной: «Жизнь разбита, а плакать некому. Мир. Вселенная. Человечество.
Гроб. и два человека за гробом, вот и все человечество» . Так, для Подсекальникова, как и для лжеТарелкина, оценка жизни - количество
скорбящих у гроба. Но герой Эрдмана не угадал своей судьбы - процессия желающих проводить его в последний путь начинается еще при его жизни, и первым посетителем стал Гранд-Скубик, представитель интеллигенции, заставивший голодного человека задуматься о том, что факт физического небытия может обернуться пустотой, а может приобрести высокие смыслы. Он первый, кто пришел к Подсекальникову как «к мертвому», объяснив преимущества его положения: «В настоящее время <.> то, что может подумать живой, может высказать только мертвый» . Неожиданный посетитель начинает обольщать «самоубийцу» не вечной жизнью, а вечной памятью, если тот правильно выберет «стиль» смерти. Как черт, знающий о страхах и мечтаниях маленького человека, он рисует головокружительный успех на похоронах: «Вся российская интеллигенция соберется у вашего гроба <.> Катафалк ваш утонет в цветах, и прекрасные лошади в белых попонах повезут вас на кладбище, гражданин Подсекальников» . Искушение столь сильное, что «гражданин Подсекальников» готов умереть за правду.
Контраст планов может измениться с бытового на идеологический, как, например, происходит на стыке третьего действия, т. е. «смерти героя», и четвертого: семья Семёна Семёновича ждет его прихода с работы, но вместо него приходят посторонние люди с сообщением, что Подсекальников мертв; снимают мерки для похоронных туалетов дам, обсуждают фасоны и т. д. На фоне этих обыденных забот вносят тело Подсекальникова, благодаря чему происходит, во-первых, первое «воскресение» самоубийцы, во-вторых, полное смещение бытового и сакрального пространств: находясь в комнате, герой думает, что он на небесах, его жена - дева Мария, Серафима - херувим и т. д.
Возвращение с «небес» на землю возвращает и ситуацию, которая жене и теще видится уже «балаганом». Но для Подсекальникова эта «комедия смерти» - почти чеховская драма, отсюда знаменитый рефрен финала «Трех сестер» «Надо жить.» с нечеховским завершением фразы: « для того, чтобы застрелиться» . У гроба «самоубийцы» происходит много знаменательных событий: Александр Петрович требует расплатиться с ним «за покойника», превращая смерть в коммерческое предприятие подобно Тарелкину; у гроба «реального» Подсекальникова Виктор Викторович рассказывает о «сочиненном» им образе для Феди Пи-тунина; наконец, на отпевании «самоубийца» второй раз «воскресает», чуть не убив эти видением глухонемого.
Последняя смена пространства - кладбище -уже, по сути, есть метонимия смерти, но и этот то-пос носит игровой характер. Кладбищенская ситу-
ация актуализирует гамлетовские аллюзии, причем не с Гамлетом связанные, а с государством («Не все спокойно в королевстве Датском» . На фоне прощальных стихов и ссоры дам за право быть предметом роковой любви происходит третье «воскресение» покойника. Весьма характерная перекличка первого шага к самоубийству и первого шага от него: причиной суицида стала ливерная колбаса, причиной воскресения - кутья. Так, «в массу разжалованный человек» начинает громко отстаивать свое право на «тихую жизнь и приличное жалованье» .
Жанровый уровень проясняется на фоне более или менее явных претекстов, из которых самый значимый, на мой взгляд, неозначенный «Живой труп» Л. Толстого. В «Самоубийце» складывается ситуация, пародийно «цитирующая» пьесу Толстого: вольно или невольно Протасова подталкивают к самоубийству старый друг - здесь «новый друг», жена - здесь Клеопатра, наконец, общество в лице старого князя - здесь «новый человек», марксист Егорушка, быстро превращающийся в Егора Тимофеевича. Итак, три «проводника» были у обоих героев, но в России конца 20-х гг. (1928) наблюдается массовое соучастие в «подведении» человека к самоубийству, которое именно в силу такого широкого обсуждения суицида из глубоко интимного события становится общественным и даже идеологическим деянием.
Смерть, представленная и в бытовом контексте, определяет специфический, идеологически-быто-вой уровень. Калабушкин выступает как бы торговцем смерти, устраивая пятнадцатирублевую лотерею с разыгрыванием особых «билетов» - предсмертных записок: «Умираю как жертва национальности, затравили жиды», «Жить не в силах по подлости фининспектора»; наконец, апофеоз жанра предсмертного послания - «В смерти прошу никого не винить, кроме нашей любимой советской власти» . Любопытны эти «послания» как система: в трех «вставных» текстах в той или иной форме затронута государственность как система - национальная идея, экономика и, наконец, власть как таковая. Смерть как деяние во имя государства - подлинно трагедийная ситуация, но в данном случае эта связь приобретает специфический характер: не герой погибает за родину, а родина губит героя. Так проясняется время, которое нуждается не столько в героях, сколько в «идеологических покойниках» .
Итак, пародирование происходит на разных уровнях текста - лексическом, сюжетном, жанровом.
Своеобычие сюжета - в уникальности системы завязка - развязка: самоубийство, обещанное в начале, как у Чехова, в финале свершается, но, в отличие от чеховской комедии с самоубийством, су-
ицид вершит не тот и не там, где планировалось. Более того, в сильной позиции оказывается т. н. внесценический персонаж, Федя Питунин - получается, что в самый последний момент происходит резкая мена героев «действующих и деятельных».
Уникальность жанра, в том числе, проявляется в особом хронотопе. «Пролонгированность» смерти определяет и мортальную лексику, и систему образов, и ключевые сцены. Выявляется любопытная закономерность: кульминация драм с самоубийством приходится, как правило, на публичные сцены: Иванов стреляется почти на свадьбе, Протасов - на суде, Подсекальникову же уготовано столь редкое «мероприятие», как банкет-поминки, при еще живом герое ритуала.
Герою Эрдмана предлагают претворить смерть частного человека в «дело» общественной значимости. Нерешительность Подсекальникова вызывает особую стратегию драматического действия, и вместо расиновского «стыдливого» самоубийства появляется замаскированное убийство. Более того, смерть у Эрдмана, как и для класси-цистской трагедии, на протяжении всего сюжета была только «частью речи», вплоть до последнего выстрела не материализованного на сцене героя. Таким образом, скомпрометированными оказываются все известные «самоубийственные» модели, и по своей жанровой сути пьеса Эрдмана - это не «комедия с самоубийством», а пародия на трагедию, уникальный для русской драматургии жанр.
Спиок литературы
1. Барт Р. Из книги «О Расине» // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 142-208.
2. Чехов А. П. Иванов. // А. П. Чехов. ПССиП: в 30 т. Т. 12. М.: Наука, 1986. С. 5-76.
3. Чехов А. П. Чайка. // Там же. Т. 13. М.: Наука, 1986. С. 3-60.
4. Толстой Л. Н. Живой труп // Лев Толстой. Собр.соч.: в 12 т. Т. 12. М.: Худ. лит., 1959. С. 95-163.
5. 11^: МІр://ги.шікІ8оигсе.огд/шікі/5аешеее_ае5Іе_(МТеТа6а)
6. Стрельцова Е. Великое унижение. Николай Эрдман // Парадокс о драме. М.: Наука, 1993. С. 307-345.
7. Эрдман Н. Самоубийца. // Николай Эрдман. Самоубийца. М.: Эксмо, 2007. С. 81-175.
8. Сардинская Т. В. Хронотоп пьесы Н. Эрдмана «Самоубийца». и^: http://vestnik.ssu.samara.ru/gum/2004web1/litr/200410603.html
9. Библейская энциклопедия. М.: тип. А. И. Снегиревой, 1891; издат. центр «Терра», 1990. 902 с.
Ищук-Фадеева Н. И., доктор филологических наук, профессор кафедры.
Тверской государственный университет.
Ул. Чайковского, 70, г. Тверь, Тверская область, Россия, 170002.
E-mail: [email protected]
Материал поступил в редакцию 25.01.2011.
N. I. Ischuk-Fadeeva
THE CONCEPT OF SUICIDE IN THE RUSSIAN DRAMA (“THE SUICIDE” BY N. ERDMAN)
Complex structure of the genre of Erdman’s play “Suicide” is analyzed in the context of the classical examples of the tragedy with suicide. Traditional motives of suicide in Western drama are fault redemption, a desperate situation, honor, love, search for death as a form of “hidden suicides”. Russian Drama of the 19th century transfers motive of suicide from tragedy to a tragic farce or to “a comedy with suicide” by entering the motives “shammer of dead” and “unmotivated” suicide, which complicates the genre and distorts the mechanism of genre expectations. Reduction of the classical models and their rethinking take place in “Suicide” by Erdman, who created a rare genre - parody to tragedy.
Key words: tragedy, concept, atonement, duty, honor, tragic farce, parody, genre transformation.
Tver State University.
Ul. Chaykovskogo, 70, Tver, Tver region, Russia, 170002.