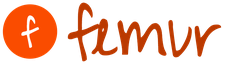Моя счастливая деревня — рассказ про деревню. Грустная история про заброшенную деревню и родной дом
Весна активно пробуждала всю природу в деревне Красилино к началу новой жизни. Даже дед Матвей начал вылезать из дома, в котором просидел всю зиму. Он иногда напоминал медведя, который спит всю зиму и лишь по весне покидает свое лежбище. Дед Микола налаживал рамочки в пчелиные ульи, а бабка Ульяна засевала рассаду в теплицу.
Весна начиналась так же, как она это делала все предыдущие годы.
В один из таких весенних деньков Антонине Ивановне позвонил её сын. Он давно уже жил в городе и лишь изредка наведывался навестить маму.
Мамуль, привет! Как ты там? Я к тебе в гости собираюсь! Заодно привезу невесту свою, познакомлю!
Ой, как хорошо-то, сынок. Когда приедете? Когда готовиться?
Мамуль, ты только ничего не готовь специально. Мы приедем в эти выходные, с ночевкой. Много наготавливать ничего не нужно, с собой все привезем, что нужно. Пока. Скоро увидимся.
До встречи, сыночек.
Конечно же, Антонина Ивановна не могла с пустыми руками и с пустым столом встречать дорогих гостей, и уже с четверга начала готовиться к их приезду. Сначала она долго обдумывала меню для праздничного стола, а в пятницу начала воплощать свои грандиозные планы. Наделала салатов, испекла хлебушек домашний, запекла овощей разных. Стол получался богатым и вкусным.
И вот наступило долгожданное мгновение, когда на порог вбежал Максимка и, подняв Мамулю на руки, закружил ее по избе. Он кружил ее, хохоча и радуясь!
Максимка! Поставь меня на пол, - улыбаясь, и смеясь, причитала мама. А у самой ярко алел румянец на щеках от несказанного удовольствия от встречи с сыном.
И вот когда она оказалась на полу, после долгих обниманий и целований с сыном, взгляд ее упал на девушку, вошедшую вслед за Максимом.
Девушка была очень красивой – но красота ее была как будто холодной. Одета она была, как сказала бы баба Ульяна, «модняво»: на ней была коротенькая синяя юбочка и почти прозрачная блузочка, прикрытая слегка незастегнутой кофточкой. И дополняли этот образ ярко-синие туфли на высоком каблуке.
Антонина Ивановна замерла от неожиданности, увидев перед собой избранницу своего сына. Она смотрела на нее во все глаза, пытаясь определить, что же такое интересное в ней нашел ее Максимка.
Мамуля! Познакомься, это моя Наташа! Принимай в дом мою невесту.
Здравствуйте, Мама! – сказала, улыбаясь, Наташа. А взгляд ее внимательно осматривал всю обстановку в стареньком доме. Да так осматривал, что Антонине Ивановне стало неудобно за такую простоту, в которой она живет.
«Наверное, она к лучшим условиям привыкла», - про себя подумала Антонина и решила сделать все возможное, чтобы избраннице сына было как можно комфортнее у нее дома.
Здравствуй, Наташа! Ты меня так сразу решила Мамой называть?! Я просто не ожидала. Проходите же. Руки мойте и за стол присаживайтесь.
Мамуль, я говорил, что мы все с собой привезем. Сейчас сумки распакуем и на стол накроем, - из-за умывальника прокричал Максим.
Ну зачем же! Я уже столько всего приготовила. Сейчас и картошечка подойдет!
Мама, мы все привезли с собой, - начала говорить Наташа, - Вы такой еды как мы привезли и не ели никогда. Здесь ее в деревне купить негде. Вот мы и решили порадовать Вас и привезли с собой. «Суши» называется – блюдо японской кухни. Это специально приготовленный рис, оборачивается рыбой и морскими водорослями. Вместе с соевым соусом очень вкусно его кушать.
Да как же это! Я же готовила и салаты, и овощей запекла. Да и не ели мы с сыном рыбу никогда. Она же живая. Как ее убивать-то можно и есть?
Мама, Вы даже не попробовали, а уже говорите, что кушать это нельзя, - надула губки Наталья.
Девочки не ссорьтесь. Мы на стол поставим блюда и японской кухни, и нашей деревенской русской. Будет у нас стол международный! – попытался сгладить напряжение Максим, - Да, мам я теперь и рыбу, и мясо начал кушать. Вроде ничего так на вкус. Мы часто с Наташей в ресторанах бываем. Там его так приготовить могут, что не поймешь даже, что это мясо.
Так зачем же его есть, если не поймешь, что ешь?
Ну, так все едят. Я и не понимаю, почему мы с тобой никогда им не питались.
Так мы им не питались, потому что животные – это наши друзья. Как же ты можешь с ними дружить, если ты их кушаешь?
Ты знаешь, в городе мне с животными дружить некогда. У меня основное время уходит на работу. Чтобы много зарабатывать, нужно много работать. А все оставшееся время я Наташе стараюсь уделить.
Сынок, а для чего тебе много денег? Получается, что ты их зарабатываешь, чтобы как раз и тратить на рестораны, где рыбой и мясом непонятным кормят. Тратишь на квартиру, которую ты снимаешь. А потом еще и на врачей начнешь тратить, потому что мясо абсолютно не усваивается организмом человека. А как же природа, животные? Как же можно с ними не успевать общаться? Может, вы переберетесь обратно в деревню. Здесь и воздух чище, и речка наша замечательная с живой водичкой. А работу ведь и здесь найти можно. Вот недавно у нас Пашка с сестрой Юленькой вернулся из города. Туда на заработки ездили. И здесь ферму с коровами открыли. Теперь туда рабочих набирают. Если бы ты видел, какие там условия для коровок созданы! Там столько света, такая чистота, а молоко какое вкусное коровки дают! Любо дорого посмотреть. И платить обещает очень хорошие деньги.
Мама, зачем же нам в деревню возвращаться? В городе у нас жизнь интересная, а здесь что мы делать будем? Коров доить да на местные танцы ходить? – вступила в разговор Наташа.
Знаешь, Наташ. А я с мамой согласен. Зачем нам жить в городской квартире? На природе, за городом легче дышится! Может, и правда, подумаем с тобой, чтобы переехать в деревню, где можно счастливо жить и детей растить? А развлечения – это ведь все временное. Да и в деревне можно такие развлечения себе организовать, что самим понравится!
Дорогой, давай с тобой потом поговорим об этом. Мы же все-таки к твоей Маме приехали. Давай лучше время потратим, чтобы с ней поговорить! Узнать, как она живет! Мама, расскажете, как Вы живете?
Дальше разговор перешел на незначимые для всех темы. Все уселись за стол и стали кушать разные блюда. Антонина Ивановна даже подумать не могла о том, чтобы в рот себе положить хоть кусочек этих заморских яств. И все размышляла: «Как же так жить-то можно? Ведь смысла в жизни нет, если ты живешь в каменной коробке квартиры и только и делаешь, что ищешь новые развлечения. Что же он все-таки нашел в этой Наташе? Да, явно я не такую невесту хотела для своего Максимки. Что же делать? Как же дать понять Сыночку, что не ту он себе невесту нашел? Ведь она его уже переделать пытается, что же дальше будет».
Ульянушка! Новости-то у меня какие! Сынок приехал. Да невесту в дом привел, знакомиться.
Что-то ты, Антонина, нерадостно о невестке-то говоришь. Иль не приглянулась?
Знаешь, не о такой невестке, наверное, я для Максимки мечтала. Ему бы больше наша деревенская подошла. Чтобы поближе к природе была, а с Наташей он даже рыбу с мясом есть начал. И что теперь с этим делать, ума не приложу.
Антонина! Что ты сидишь, причитаешь? Я тебя совсем не узнаю. Ты же сама говоришь, что не о такой невесте для сына мечтала. И ты же сама знаешь, что от противного мечты не строятся. Вот возьми и помечтай о девушке, которая бы Максиму подошла. Напиши мечту на листочек, да не забудь учесть, что вместе они хорошего в мире делать будут, как жить будут, каких внуков тебе подарят. Да еще не забудь про отношения с природой добавить. Это важно. Глядишь, мечта твоя и сбудется. Ведь Творец наш всегда поддерживает все разумное и обдуманное. Как говорится, ему без разницы какие мечты исполнять, лишь бы человек четко знал чего хочет. Одумается Максим и свою настоящую Любовь встретит!
И вправду, чего это я! Пойду-ка я домой и, пока Максимка с невестушкой своей новоиспеченной гуляют, напишу мечту о нем с настоящей Любимой.
И Антонина Ивановна отправилась к себе в хату, оформлять свою мечту. И получилось у нее целое стихотворение.
Столько слов есть и столько стихов,
В этом мире большом и красивом,
Чтобы чувства свои описать
На бумаге узором игривым.
Но и их не хватало мне иногда
Рассказать, как ты нами с папой любимый!
Будешь ты воплощать мечту Творца,
Помечтал о тебе Он с Любимой.
Будешь счастливо жить, на родной ты Земле
Вместе с ласковой, нежной и доброй.
Пусть Любимая встретит тебя
И пойдете по жизни с ней ровно.
Будут дети радовать вас,
Воплощая все ваши мечтанья.
Будет жизнь полна чудес и прекрас,
На радость всего Мирозданья!
Антонина Ивановна, довольная, сложила тетрадку и положила в сервант. У нее как будто появилась надежда, что, как она пожелала, так и случится. И что будет ее Максимка счастливым и любимым. И найдет он себе девушку, чтоб вместе с ней жить в счастье и растить прекрасных детишек.
Тем временем с прогулки вернулись Максим с Натальей. И начал он рассказывать, как по дороге встретили Юлю, с которой они не виделись аж с самого детства и с которой вместе росли у всех на глазах.
Она так изменилась! Просто не узнать совсем. Так похорошела, расцвела. Повезет тому парню, с которым она жизнь будет строить!
И что такого ты увидел в этой деревенской простушке?! – хмыкнула Наталья, - Да и не понимаю я, зачем она с братом вернулась в деревню. Ведь, что ее здесь ждет? Всю жизнь коровам хвосты крутить да навоз из коровника выносить. Лучше бы оставалась в городе. Там и перспективы, и карьера, и женихи. А здесь? Что ее здесь-то ждет?
Так здесь у нее жизнь-то настоящая как раз и есть! Здесь она на природе. Вы бы видели, как она с коровками разговаривает! Они сами к ней бегут на дойку! Она их и приласкает, и поговорит с ними, и ласковым словом обнимет. Коровы к ней так и тянутся. А уж сколько они ей молока дают! Все деревенские бабы удивляются. Какой-такой секрет Юленька знает! – Антонина Ивановна с радостью нахваливала Юлю, к которой за последнее время привязалась как к родной дочери.
«Вот если бы Максим выбрал себе в невесты Юленьку, счастье бы в его доме поселилось на веки вечные! Они бы друг в друге души не чаяли! И любовь бы у них была на всю жизнь вечную!» - про себя размышляла Антонина Ивановна.
За разговорами и делами по хозяйству незаметно пролетели выходные, и Максим с Наташей вернулись в город. И обещали приезжать гораздо чаще.
Жизнь в Красилино для Антонины Ивановны вернулась в прежнее русло. Но она все чаще стала задумываться о Юленьке, как о прекрасной Любимой для своего сына. Тем более что Юля тоже стала проявлять интерес к Максиму. На днях зашла в гости на чай, принесла с собой испеченный пирог и потихоньку начала расспрашивать, как живет Максим, что у него в жизни нового. Такой интерес искренне радовал Антонину Ивановну, но она точно знала, что лишние вопросы задавать не стоит. Ведь мечту она написала сильную, и, если Максим действительно Любимый для Юленьки, все у них будет хорошо и будут они вместе счастливы. Уж во что во что, а в мечту Антонина Ивановна всегда верила безоговорочно. Знала, что нужно только очень захотеть и в мечту чувства сильные вложить – и все обязательно сбудется. Вот и мечтала она о Максиме с Юлей как о счастливой паре и все чаще представляла их вместе.
Прошло немного времени, и Максим приехал к Мамуле снова. Приехал он почему-то один, без Наташи, и упорно отказывался говорить на эту тему.
«Что-то у них явно не заладилось», - подумала Антонина Ивановна, но тему развивать не стала. Она была рада приезду и как обычно суетилась, накрывая на стол.
Мамуль, а как Юленька поживает? Я давно ее не видел. Повидаться бы. Мы с ней в прошлый раз так здорово поговорили, она так много всего рассказала! Не знаешь, где она может быть сегодня?
Да как же не знать. В коровнике, где же еще! Она со своими коровушками в это время воркует. Сейчас же как раз время обеденной дойки! Она наверняка сейчас с ними занимается. Сходи, заодно, может, по хозяйству поможешь. Коровок то у них много, а рабочих пока не находится. Вот Паша с Юлей в основном вдвоем и трудятся. Уж и не знаю, что бы они делали, если бы коровки у них такими умными не были. Они ведь и в сарай заходят только, чтобы Юля с Пашей их подоили. А если в туалет сходить, в сарае ни за что не делают. На улицу выходят. А на улице – сразу и удобрение готово и сарай чистить не нужно. Как уж Юля с ними договорилась – не знаю, у нас таким чудесам вся деревня удивляется!
Мамуль, ты прямо фантастические истории рассказываешь какие-то! Я тогда сбегаю на ферму, сам на эти чудеса посмотреть хочу. Там, глядишь, может и правда помощь моя пригодится.
И Максим выбежал из дома, а Антонина Ивановна только радостно улыбалась ему вслед.
Домой Максим вернулся лишь к вечеру. Довольно улыбаясь, он подхватил Мамулю на руки и закружил по избе.
Мамуль, ты не знаешь случайно, почему я такой счастливый! Душа просто поет! И кстати, я договорился с Пашей, со следующего месяца я буду работать с ним и с Юлей на ферме. Перебираюсь обратно в деревню родную. Ты рада?
Конечно рада, сынок. Но это так неожиданно. Ты мне раньше ничего не говорил о своих планах.
Ты знаешь, я и не думал, что обратно вернусь. А сегодня встретился с Павлом и Юлей, посмотрел, как у них все здорово устроено, и как будто обратно в детскую сказку вернулся. У них действительно все как в фантастическом мире. Все животные как будто выдрессированные, но на самом деле это не так. Они просто как-то так умеют общаться с ними, что все животные просто понимают человеческую речь, или больше, наверное, понимают не слова, а ту любовь, с которой к ним ребята относятся. И на работу они как раз и ищут тех, кто животных любить будет. Знаешь, когда я подошел к коровам, они очень насторожились, а Юля сразу же спросила, ем ли я мясо. Оказывается, любое животное чувствует, ел ли я когда-нибудь мясо из рыб или других животных. И если они это чувствуют, то к человеку относятся очень настороженно. Они не знают в этом случае, чего от человека ожидать – вдруг он и их на мясо пустит. А Юля с Пашей мясо никогда не ели, и поэтому все животные знают, что им можно доверять. И что их просто искренне любят. А ведь ты была права, когда не кормила меня в детстве мясом! Спасибо тебе, Мамуля!
За последние 16 лет в РФ исчезло 18 тысяч сел и деревень и никто не проявляет беспокойства по этому поводу. Когда ежегодно закрывается до шестисот сельских школ, нет рейсовых автобусов, магазинов, медпунктов — сельские жители бегут, кто может и куда может.
Затерянная среди лесов
Этим летом удалось мне посетить свою родную деревню, в которой уже нет ни одной живой души. К сожалению на постсоветском пространстве с каждым годом таких деревень и сел становиться все больше и больше… Находится она среди лесов и вдали от населенных пунктов, что и стало решающим фактором того, что с ней случилось.
И вот нахлынули на меня воспоминания, какая-то ностальгия, уныние, ведь кругом разруха.
* * *
На въезде в деревню нас встречает до боли знакомый дом, это дом моей бабушки, где прошла счастливая половина моего детства, где каждые выходные пеклись оладьи в печке, свежий хлеб, и все это поглощалось с парным молоком, с огромной радостью мной и еще парой-тройкой братьев и сестер…
,
Перед домом даже забор палисадника еще стоит, который я так старательно колотил в 12 лет Правда стоять ему осталось, похоже, совсем недолго. Как и всему дому в принципе.

Дверь у дома теперь всегда открыта и он примет любого гостя. Только вот гости не заходят… Одна лишь природа, беспардонно ступает за порог, медленно забирая свое.
Рядом с домом обвалившийся колхозный склад, а за ним еле стоящий гараж. Раньше еще за гаражом возвышался зерноток, который в последствии мародеры распилили на чермет сразу, как колхоз перестал существовать.

Кажется, что некоторые дома еще неплохо сохранились, но это только снаружи. Почти во всех домах уже обвалились полы, потолки и развалились печки. А дома тихо и мирно ждут своей участи.


А это местный молельный дом. Церкви в деревне не было и все службы проходили в нем.

Вид изнутри.

А это конюшня. Вернее то,что от нее осталось. Когда-то мы, будучи мелкими, любили ходить сюда и кормить лошадей свежей морковкой, яблоками и прочими для них вкусностями, которые благополучно тырили в чужих огородах. Господи, прости. Справа от конюшни возвышаются липы, которым уже больше века, в тени которых любили прятаться дети, пожалуй всех поколений, которые жили в нашей деревне.

Деревянные кадушки, вилы, корзины, были атрибутом почти каждого дома и активно использовались. А теперь стоят, забытые и никому ненужные.

Раньше по этому оврагу протекал немаленький ручей, от него здесь была небольшая лужа, в которой мы в жаркие летние дни пропадали с утра до ночи, ловили лягушек, кидались грязью, кто-то даже умудрялся нырять. А потом, вечером, неслись домой, сломя голову, подгоняемые сзади своими родителями вооруженными ремнями и вичками, кому как повезет.

И снова руины…

Ну и куда же в деревне без магазина? Именно здесь мы покупали свежий, еще теплый хлеб, который сюда доставляли из пекарни, находившейся метрах в 100 от магазина, а потом шли домой с этой буханкой и откусывали от нее, отламывали, наивкуснейшую хрустящую корочку. Еще в этом магазине мы просадили немало денег (ну,по тем детским меркам) , покупая всякую требуху с покемонами, типа фишек и жвачек.

А это остатки от детского садика, который последние 6 лет выполнял функцию школы. За ними виднеется кухня, где готовили такую вкусную манную кашу с изюмом.

Просто дорога плавно переходящая в траву высотой по пояс.

Единственный фонарный столб оставшийся в деревне, который уже никогда и никому не будет освещать дорогу…
В одном из домов нашелся такой вот старинный горшок, оплетенный берестой. И даже градусник еще на месте и исправно работает.
А рядом большой старинный сундук.

Творчество неизвестного художника.
Конечно после поездки туда, у меня остались смешанные чувства. Я был рад, что побывал там хоть раз за последние много лет, рад был походить по местам знакомым до боли, вспомнить веселые моменты из жизни, но с другой стороны, одолевало и уныние из-за того, что место, в котором ты родился и рос, с которым связана почти половина жизни, превратилось в это пустодомье с перекошенными заборами и заросшими тропинками…
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Есть в наше время люди, которые бегут бегом от нынешней цивилизации, так как она очень агрессивна, жестоко убивает все живое на свое пути. Они убегают в деревню, а деревни-то тоже уже мертвые…
.
Одним из таких беглецов был Дмитрий Арсеньев, который имея прекрасное образование и замечательную карьеру, отказался ото всего, избрав уединенную жизнь в селе и крестьянство. Деревня преобразила его душу, привела к Богу и помогла понять предназначение жизни человеческой и в первую очередь его собственной.
,
>
.
Миша Петров решил постичь сладость молитвы Иисусовой. Вот, думает, затворюсь где-нибудь подальше, чтоб ни друзей, ни телефона, ни электронной почты. Днем и ночью молитва, редкий сон, скудная трапеза, так, водичка, сухарики, ну и чтение священных книг.
Долго колебался из-за мобильника, брать не брать, все-таки глушь, мало ли что случится, но потом сообразил, что роуминга в глуши не бывает. И оставил мобильник дома.
Сессия как раз кончилась, практику в этом году можно было отрабатывать в сентябре, и Миша решил бежать в домик в деревне, год назад на спор купленный во время диалектологической экспедиции у одной бабки - за четыре тыщи рублей в складчину. Миша и три его товарища выиграли тогда у девчонок десять бутылок пива. Это был дом бабкиной покойной сестры, и бабка была рада радешенька этим тыщам, за домиком обещала присматривать, ну и все такое.
Родителям и трем другим друзьям-совладельцам Миша сказал, что едет навестить их имение, про молитву, конечно, ни слова - и друзья очень обрадовались, только с Мишей никто ехать не захотел - у всех оказались другие планы.
Ехал Миша два с половиной дня и наконец прибыл в Осаново. Так называлась эта деревня с домиком. Стучит к бабке-продавщице, звали ее немного по-литературному, Агафья Тихоновна, но все равно она была настоящая сибирская бабка. В общем, как у Валентина Распутина.
Здравствуйте, Агафья Тихоновна, - говорит ей Миша. - А как избушка-то наша на курьих ножках, не сгорела ли?
Что ты! - рассердилась Агафья Тихоновна. - Стоить.
И они пошли на другой конец деревни проведать домик. Домик и правда стоял, чуть только меньше он в этом году Мише показался, и бедней, но так все такой же. Открыла бабка дверь, вошел он в домик - а там травками какими-то пахнет, так и висят они в сенях пучками неизвестно сколько лет.
Темновато, конечно, но ничего. Бабка ушла, Миша бросил рюкзак, осмотрелся, нашел ведра, ветошь какую-то тряпичную, сходил за водой к колодцу, вымыл окошки. Тут же стало светлей. Потом Миша повесил иконы - молиться-то перед чем? Книги священные рядом положил в стопочку, четки на руку повесил. Только чувствует - пора все-таки закусить. Ну что за молитва без трапезы?
Достал продукты, из Москвы привезенные, и консервы, и сахар, и соль, и огурцы, а хлеба-то нет!
Пошел в местный магазинчик. Вот что значит капитализм: в прошлом году этого магазина здесь не было, а теперь вот он - кирпичный, аккуратный такой, и в общем все есть. И кока-кола, и сникерсы. Купил себе и того, и другого. Но и хлеба тоже. А тут и Агафья Тихоновна в магазин приходит - его ищет, ты ко мне заходи, картошки тебе отдам, прошлогодняя, крупная, как кулак. Так и оказалось. И три яичка ему Агафья Тихоновна к картошке прибавила - из-под собственных кур. Тут и Марья Егоровна, соседка, зашла к Тихоновне, тоже зовет его к себе. Миша пошел, Егоровна угостила его баночкой молока от своей коровы и пригласила приходить еще.
Разложил Миша все свое богатство на деревянном некрашенном столе, хлебушек, картошку, налил себе в железную кружку парного молочка, пожарил яичницу с ненормально желтыми желтками. По избе дух стелется травяной, как ни странно, ни одной мухи. Сидит и думает: «Господи, хорошо-то как! Вот и иконочки у меня тут висят, и книги разложены, что еще надо? Сейчас поем и начну молиться. А на улицу уже ни ногой, ни к чему все это - рассеянье».
Но после обеда Миша достал спальный мешок, разложил прямо на полу и как убитый уснул. Просыпается, а совесть его мучает - все спишь да ешь, а как же молитва-то Иисусова, ты для чего сюда приехал? Но куда-то задевались четки, на руке они мешались, да и стеснялся Миша с ними выходить на улицу, снял перед походом в магазин, а куда дел, не помнил. Искал, искал, нашел. Оказались в сенях, на гвоздике, сам забыл, как повесил. Наконец тихо встал он перед иконами, зажег лампадку, все как полагается. Вдруг на улице потемнело, дождь пошел, и - надо же! - потолок, как раз над святым углом, начал темнеть - вода проходит, прохудилась крыша.
Только кончился дождь - Миша скорей на крышу, на лестнице одна перекладина обломилась, еле забрался, а там и правда все сгнило… В общем, дел хватило, и Миша, даром что мальчик из интеллигентной семьи, за все брался, все делал в охотку, и бабусям сильно помогал, и свое хозяйство вел собственное, почувствовал себя хозяином, простым человеком на родной земле, Львом Николаевичем в поздний период.
Ну а молитва? Да ведь и так все было хорошо. Вернулся Миша загоревшим, даже немного потолстел. Агафья Тихоновна и Марья Егоровна как следует его откормили.
Понравился рассказ про деревню Глеба Шульпякова, хочу предложить прочитать всем читателям нашего сайта «Свой домик в деревне».
Тема родная и знакомая — деревенская. Вопросы о деревенской жизни остаются спорными — и некоторые наши публикации тому подтверждение. Статьи опубликованы 2-3 года назад — и сейчас появляются свежие комментарии о том, что в деревне живут одни неудачники, или наоборот, только в деревне человек обретает смысл жизни и по-настоящему ощущает течение времени.
Кто-то соглашается на жизнь в глуши и получает удовольствие от прожитых минут вблизи природы, кто-то недоумевает, как можно пол жизни просидеть на огороде, не видя и не слыша никого вокруг, кроме соседки бабы Зины, или пьяницы Леньки, как у Шульпякова в рассказе.
Еще один интересный взгляд на деревенскую жизнь. Для подписчиков журнала будет доступна PDF версия рассказа «Моя счастливая деревня» на .
Приятного прочтения!
МОЯ СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ
Современный человек не успевает за временем - декорации меняются быстрее, чем он привыкает к ним. Ни в памяти, ни в мыслях от этого времени ничего не остается. Прошлое пусто. Даже вещи исчезают из обихода, так и не состарившись. «Куда все исчезло? Зачем было?» Тоже лейтмотив жизни.
В ящике моего стола лежат зарядные устройства. Провода спутаны в клубок, видно, что адаптерами никто не пользуется. «Надо бы выбросить…» Чешу затылок. Но мне почему-то жалко. Я отдаю адаптеры сыну, он сооружает из них заправочные станции. Но жалость, жалость.
В прошлом году я купил избу в деревне.
«В глухомани, настоящую…» - рассказываю.
«Ну и где твоя “глухомань”? - Друзья мне не верят. - Кратово? Ильинка?»
Я показываю на карте: «За Волочком, в Тверской…»
Друзья кивают, но в гости почему-то не торопятся.
«Вы будете в Москве в это время?» - на том конце женский голос.
Я прикидываю в уме, считаю: «Нет, я буду в деревне. Давайте через неделю».
«О, у вас дом в деревне!» - трещит трубка.
«Как это хорошо - дом, природа. Я хотела бы…»
«Изба! - кричу. - Изба!»
Конец связи.
В прошлом году я купил избу в деревне. В нашей деревне нет мобильной связи, нигде и никакой. Правда, алкаш Леха (он же Ленька) утверждает, что одна палкабывает за избой Шлёпы. Я полдня ползаю вдоль стены, пропарываю гвоздем сапог. Чертыхаюсь - нет, не ловит.
Первое время ладонь машинально шарит по карману, однако на второй день о телефоне забыто. Я вспоминаю про трубку, когда пора выходить на связь. Телефон валяется в дровах у лежанки - наверное, выпал из кармана, когда я возился с печкой. С изумлением Робинзона разглядываю кнопки, мертвый экран.
Я пропадаю в деревне неделями, и связь мне все-таки требуется. Доложить своим, что жив-здоров, не голодаю и не мерзну. Что не был подвергнут нападению хищников, не утонул в болоте и не свалился в колодец, не покалечил себя топором или вилами, не угорел в бане и не подрался с Лехой-Ленькой.
«Главное, дождись, чтобы угли прогорели…»
«Ложный гриб на разрезе темнеет…»
«Воду кипяти…»
«Топор ночью в доме - на всякий случай…»
«Клади от мышей сверху камень…»
Наивные люди.
Мобильная связь есть на Сергейковской Горке, но там ловит чужой оператор. Мой ловит в сторону Фирово, но туда в слякоть плохая дорога - ее разбили лесовозами, когда вывозили ворованный лес. И вот спустя месяц я узнаю, что связь есть еще в одном месте. И что там работают все операторы.
В нашей деревне шесть изб, это практически хутор. Две семьи живут круглый год, одна съезжает на зиму в Волочек, в двух избах наездами тусуются дачники (я и еще один тип, известный старожил). Крайняя, Шлёпина, пустует.
– А где хозяин? - разглядываю через выбитые окна горы бутылок и рванины.
– Удавился, - безразлично отвечает Леха.
Еще есть лошадь Даша, корова, теленок и две собаки. Одна собака, Лехина, похожа на героя из мультфильма, такая же черная и осунувшаяся, с седыми проплешинами. Про себя я называю собаку «Волчок». Он сидит на привязи и выскакивает над забором, когда проходишь мимо - как черт из табакерки. А вторую зовут Ветка, она бегает свободно.
Через лес в деревню ведет проселок - от главной дороги, где кладбище. Погост, каких в любой области множество, полузаброшен. Кресты криво торчат из крапивы, в кустах поблескивает облупленная эмаль. Сквозь буйную, особой кладбищенской сочности зелень чернеет ржавчина. Куски кирпичной кладки, церковная ограда. Пейзаж вокруг под стать погосту. Первое время ощущение скудности, неброскости, глухости невероятно угнетает меня. Зачем я вообще сюда забрался? Но это впечатление, разумеется, мнимое. Чтобы ощутить подспудное, замкнутое в себе и на себе обаяние этих земель, несравнимое с картинными косогорами где-нибудь в Орловской области - или полями за Владимиром, - надо, чтобы человек забыл про пейзаж, не думал о нем. Ничего не ждал от него, не требовал. И тогда пейзаж сам откроется человеку.
Рельеф приземистый, стелящийся. Верхняя линия занижена - так выглядит невысоким сарай, заросший травой, или изба, наполовину ушедшая в землю. И возникает чувство неловкости; несоразмерности себя тому, что видишь; на фоне чего находишься. Лес непролазен и густ, настоящий бурелом. Облака идут настолько низко, что хочется пригнуть голову. Пейзажные линии пунктирны и нигде не сходятся. Ничего, что можно назвать картиной природы, не образуют. Такое ощущение, что сюда свалили выбракованные и разрозненныеэлементы других пейзажей. Да так и оставили.
В действительности это купол, крыша. Макушка огромного геологического колпака. Высшая точка Валдайской возвышенности (450 метров над уровнем) лежит в соседней деревне, то есть моя изба - страшно подумать - висит немного выше Останкинской башни. И тогда все видишь другими глазами. Все становится понятным, объяснимым. Ведь это бесконечный пологий спуск - вокруг тебя. Скат, по которому сползают леса и пригорки. Отсюда и вид, его характер - фрагментарный, как пейзаж в долине горного перевала. Ощущение высоты настигает внезапно. В точке, откуда рельеф выстреливает, как пружина. Таких мест немного, но они есть. Специально открыть их невозможно, хотя пару деревень на холмах с абсолютно гималайскими видами я знаю. Просто выбредаешь на край огромной пустоши и - раз! - покатились из-под ног валики холмов, раздвинулась ширма неба. Отъехал за горизонт задник, и огромная, с хребет сказочного кита, сцена открылась. И этого кита - с перелесками и деревнями на хребте - видно.
Кит, сцена, ширма - да. Но. Требовались конкретные ориентиры, зарубки. Засечки на местности, опознавательные знаки. Не проскочить поворот, не проехать развилку, не угодить в выбоину. Вот впереди римские руины Льнозавода - значит, скоро «проблемный участок дороги». А вот двухъярусная церковь, что от нее осталось (короб), - развилка. Заброшенный Дом культуры, от него через дорогу сельпо.
У дороги мелькает памятный крест, сваренный из арматуры.
– Шлёпу насмерть… - мрачно комментирует Леха-Ленька. - Машиной.
Я послушно давлю на сигнал.
За карьером поворот, где кладбище. Последний отрезок. Я вкатываюсь на едва заметную в темноте аллею, притормаживаю. Оглядываюсь. На кладбище две или три фигуры - бродят между могил, как сомнамбулы, приложив к щеке руку. Выключаю фары, неслышно возвращаюсь. Они разговаривают вполголоса, сами с собой. Их лица, подсвеченные странным голубым светом, мерцают в темноте, как медузы. Пожав плечами, разворачиваюсь. Всматриваюсь напоследок в кладбищенские сумерки - никого, стихло. Однако спустя минуту наверху, на дороге, раздается шорох. На шоссе из кустов выходит человек, потом другой. Третий. И молча расходятся.
Я машинально лезу за телефоном (невроз, знакомый каждому). Сигнал есть.
Изба есть механизм, усваивающий время. Так мне, во всяком случае, первые дни кажется. Естественное старение материала - то, как оседают венцы или замысловато тянется трещина - как уходит в землю валун, на котором крыльцо - как древесина становится камнем, куда уже не вобьешь гвозди, - во всем этом я вижу время, его равномерное, слой за слоем, откладывание в прошлое. Туда, откуда, как из годовых колец дерево, складывается настоящее и будущее.
К тому же Леха-Ленька, его алкогольные циклы - их амплитуда тоже поражает природным каким-то постоянством и предсказуемостью. Знать эту фазу в деревне мне крайне важно, ведь на Лехе в деревне электрика, дрова и лошадь. Эта фаза хорошо читается с первым снегом. Если следы ведут от избы к баньке, значит, сосед «выхаживается». Если снег протоптан к соседской избе - Леха на старте, но пару дней еще будет вязать лыко. Если следы в лес, Леха не пьет, торчит в лесу, рубит дрова.
Ну а если в деревне беспорядочно натоптано - как, например, сегодня - Леха на пике. В этот промежуток он не столько опасен, сколько назойлив. Чтобы избавиться от его общества, я всегда держу в багажнике пузырь дешевой водки и баклажку пива. Водку надо сунуть вечером, когда он подкатит к «барину» «с приездом». Она «прибьет» его на ночь. А пиво - на утро, поскольку с похмелюги он притащится обязательно, как только увидит дымок над крышей («Кто Леху поил?»). Досуг следующего вечера он, как правило, организовывает себе сам. То есть попросту исчезает из деревни.
Мой деревенский быт - незначительный, но докучный. Серьезных дел нет, но: натаскать и вымести, заткнуть и высушить, приподнять и подпереть, заменить и настроить, протопить - и так далее, далее.
Время в таких делах летит быстро. Вот соседка Таня в лес прошла мимо окон - а вот уже возвращается с полной корзиной. Только что улетучился с поля утренний туман, пористый и прозрачный - как с другого конца уже наползает густой вечерний. Но странное дело, это необременительное, быстрое время, наполненное незначительными мелочами - время, утекающее незаметно и безболезненно, - оставляет в тебе ощущение весомости, значимости. Никакими подвигами не отмеченное, оно не уходит в песок, не проходит даром - как то, городское время. А попадает прямиком в прошлое, в его подпол. Где и накапливается, и зреет.
И тут сосед говорит мне:
– Послушай Леху, сходи на кладбище!
(Во время запоя он переходит на третье лицо.)
– Леха плохого не посоветует.
Старый ватник стоит на спине колом, Леха похож на горбатого. В кармане у него булькает разведенный спирт, основное деревенское пойло.
– Че ты мучаешься!
Прикладывается, вытирает рот рукавом.
Тычет потухшей спичкой в сторону проселка.
В лесу темно, но когда проселок выходит на аллею, видно макушки сосен, выкрашенные закатом в рыжий. Эта аллея - береза-сосна, береза-сосна - «барская», ее высадили для прогулок через поле. Так, по крайней мере, говорит легенда. Поле давно заросло березовой рощей, от усадьбы остались четыре стены и пруд с ключами.
А старые деревья, кривые и корявые, стоят.
По дороге на кладбище мне нравится воображать, как хорошо продолжить аллею до нашего хутора. В деревне первое время люди вообще немного Маниловы, так что список неотложных планов у меня огромный. Например, мне обязательно надо:
Обустроить родник;
Сделать на речке купальню;
Приделать к избе веранду;
Поставить баню;
Залатать протекающую крышу (срочно!);
И построить на поле буддийскую ступу.
Чтобы залатать крышу, надо найти непьющего мужика, потому что у пьющего «нет времени» плюс «страхи» - на крышу он не полезет, побоится упасть (при том, что еще вчера этот человек сутки провалялся в канаве при ночных заморозках). И вот большая удача, спустя неделю разъездов непьющий найден. Это Фока, он же Володя, - мужик лет пятидесяти, живущий за Льнозаводом.
– Ендова! - радостно орет мне этот Фока, озирая крышу. - Ендова у тебя текуть, понял?
Я таращу глаза, но ничего не вижу. «Какие к черту ендова?»
Тогда Фока складывает «ендова» из газеты. Объясняет мне, как они устроены и что для их перекрытия надо перестилать скат всей крыши. Я слежу за его большими узловатыми пальцами, настоящими клешнями - это руки человека, который умеет держать инструмент.
Когда я приезжаю через неделю, Фока с парнишкой все перекрыли. Мы рассчитываемся. Складывая тысячные купюры в кошелек, Фока говорит, что собрался женится. И что немного нервничает.
– Молодая, из города. - Он смотрит в пол. - Попросила, чтобы купил в машину музыку…
Я желаю ему удачи.
Осенью я сажаю за домом сосенку. Ендова и сосенка - на этом моя маниловщина кончается. Больше ничего предпринимать не буду, ну их. Так на человека действует великая инерция деревенской жизни. Сила, накопленная веками, которая противится любому начинанию, если это начинание не имеет прямого отношения кнасущному, то есть к теплу и пище.
Однако баня просто необходима. К соседу не набегаешься, неловко - а поставить новый сруб баснословно дорого. Еще вариант, можно взять старую. Одна такая, заброшенная, есть в соседней деревне. И вот мы - я и Леха - едем.
На вид баня очень страшная. Вся в лепестках сажи (топили по-черному), кривая, со съехавшей набекрень крышей. Но Леха спокоен. Если поменять пару венцов, говорит он, и поставить новую печку, будет нормально.
– Чья баня? - спрашиваю на всякий случай.
– Шлёпина.
– Угорел в бане по пьяни.
На кладбище темно, над головой шумят березы.
Вытянув руку с трубкой, иду, как сапер, вдоль оград.
Ничего, ноль. Снова пусто.
Делаю шаг между травяных холмиков, огибаю одну могилу, вторую.
В трубке потрескивание, шорохи. Сигнал между заброшенным погостом истолицей вот-вот наладится. «Алло!» - наконец раздается на том конце. «Ал-ло!»
Через пятки, упертые в натопленную лежанку, тепло растекается по телу. Мухи проснулись, жужжат - значит, изба натоплена как надо, до утра хватит.
Я читаю «Философию общего дела» Николая Федорова.
«…призываются все люди к познанию себя сынами, внуками, потомками предков. И такое познание есть история, не знающая людей недостойных памяти….»
«…истинно мировая скорбь есть сокрушение о недостатке любви к отцам и об излишке любви к себе самим; это скорбь о падении мира, об удалении сына от отца, следствия от причины…»
«…единство без слияния, различие без розни есть точное определение “сознания” и “жизни”…»
«…если религия есть культ предков, или совокупная молитва всех живущих о всех умерших, то в настоящее время нет религии, ибо при церквах уже нет кладбищ, а на самих кладбищах царствует мерзость запустения…»
«…для кладбищ, как и для музеев, недостаточно быть только хранилищем, местом хранения…»
«…запустение кладбищ есть естественное следствие упадка родства и превращение его в гражданство… кто же должен заботиться о памятниках, кто должен возвратить сердца сынов отцам? Кто должен восстановить смысл памятников?»
«…для спасения кладбищ нужен переворот радикальный, нужно центр тяжести общества перенести на кладбище…»
Речь в книге густая, неразрывная - мысль рассеяна по каждой капсуле, вытащить цитату практически невозможно. Да и вне речи фраза выглядит нелепо, вздорно (что значит «перенести жизнь на кладбище»? Как вы себе это представляете?). Между тем, речь в «Философии» не оставляет сомнения в абсолютной, неоспоримой истинности. Завораживает именно это убеждение Федорова в собственной правоте. Не умозрительной, логической - а внутренней, личной. Как будто это вопрос его жизни и смерти, буквально.
Но почему этот вопрос не дает мне покоя тоже?
«Почему, - спрашиваю я себя, - когда стали переиздавать русскую философию, Николай Федоров прошел мимо меня? Почему я не заметил его?»
Я вспоминаю конец восьмидесятых, настоящий книжный бум. Толпы у лотков, очереди в магазинах. «Кого я читал тогда?»
Это был Бердяев - конечно. На газетной бумаге, в мягких обложках. Многотысячными тиражами, которых все равно не хватало. Я читал его как откровение, залпом.
«Так вот в какой стране я живу!» Задыхался от возбуждения.
«Вот какой у нее замысел!»
В отделах обмена книг (были такие при букинистах) Бердяева можно было выменять на Агату Кристи или Чейза. Прекрасно помню это ощущение - превращение воды в вино, ничто в золото. Или купить шальной экземпляр в газетном киоске на Пушкинской, где «Московские новости» (откровение в киоске, нормально).
Почему именно Бердяев? Почему сперва он, а после другие (Розанов, Лосев, Флоренский, Шпет)? Я объясняю это довольно просто - тем, что юноше требовалось обоснование страны, ее смысл. Юноше казалось, что связь с тойстраной сразу после распада Империи Зла восстановится. Что у меня появится великое прошлое - ведь то, что я учил в «Истории СССР-КПСС», прошлым я назвать никак не мог. Тогда мне казалось, что с падением СССР программа по реализации сверхзамысла страны, о котором говорил Бердяев, включится автоматически. Не может не включиться - после того, как они тут жили. Каких дров наломали.
А тут Федоров, музей на кладбищах. Сыны, отцы. Троица. Неурожаи. Слишком фантасмагорично - и вместе с тем уж очень обыденно, бытово. По сравнению с бердяевским-то волхованием о судьбах Родины, о сверхидеях. О миссии.
Но проходит четверть века, и круг - кто бы мог подумать! - замыкается. Страна погружается в привычный и потому не очень страшный сон. В серую партийную спячку, изредка прерываемую терактами и показательными судами. Олимпиадами и юбилеями. Пожарами и техногенными катастрофами. Сквозь наспех, легкими чернилами набросанный в 90-х текст «новой, свободной России» в людях старшего поколения все отчетливее проступают старые, вбитые в комсомольской юности догмы. Они то ярче, то тусклее, да. Но они есть, никуда не делись. Сохранились - там, на самом жестком из дисков нашего сознания. И ты с ужасом понимаешь, что ничего другого эти люди так и не приобрели - за все отпущенное время. Не поменяли, остались со своим недалеким прошлым. Предпочли его - будущему.
Давно забыты и Бердяев, и Розанов, и Флоренский. Нет иллюзий, что история может пойти в ту сторону, куда они показывали. Что русский европеизм возможен не только в отдельных умах, не исключительно на бумаге. Пророком оказался не Достоевский, а Чаадаев. Миссия невыполнима - нет ни объекта, ни субъекта этой миссии. Старый материал безвозвратно уничтожен, а новый видоизменен. Какая уж тут миссия? После всего, что случилось за последние десять лет, сомнений почти не осталось.
«Простите, отцы-философы, - не оправдали».
И вот однажды по дороге в деревню я заезжаю в Торжок. Я набираю продуктов, а заодно заглядываю в книжный, купить почитать (деревня возвращает наслаждение чтением). И вот в книжном мне случайно попадается томик Федорова. И я приезжаю в деревню, открываю книгу.
Боже мой, как все просто и правильно. Как точно - стоит поменять «кладбище» на «прошлое» («…для спасения прошлого нужен переворот радикальный, нужно центр тяжести общества перенести в прошлое…»).
«Где мое прошлое?» - спрашиваю себя.
«Кто наследует этот заброшенный погост и разрушенную церковь?»
«Льнозавод и Дом культуры?»
«Гнилые избы?»
«Кто наследник времени, когда все это стояло нетронутым?»
«А кто - когда было разрушено?»
«Какое прошлое брать за основу, за образец? За точку отсчета?»
Клубок вопросов кажется неразрешимым. Так вот откуда эта страсть - обнулять прошлое! Еще недавно я готов был объяснить этот феномен всеобщим российским пьянством (по принципу «вчерашнее лучше не вспоминать»). Но, боюсь, тут вещи посильнее русского пьянства.
И еще один вопрос: если это не наше кладбище - то где наше кладбище?
Я медленно возвращаюсь по аллее в деревню.
Деревья в небе обметаны звездами, за лесом стучит карьер, подчеркивая тишину, которая в этих местах - оглушающая.
Человек живет прошлым, говорю я себе. Причем буквально, бытово - прошлым как накопленным опытом. Ничего, кроме собственного опыта - то есть прошлого, - у человека просто нет. И этот опыт, это прошлое есть макет будущего, ведь каждый твой шаг во времени мотивирован этим опытом. Но точно так же живут и общества, и страны. Стоят цивилизации. Объявляя отношение к прошлому, ты показываешь расчетное будущее. То, чему берешься соответствовать дальше. Чего придерживаться.
Есть страны, где сносят памятники одной эпохи, чтобы поставить памятники другой, - бывшая советская Средняя Азия. И мне понятно, куда такая страна движется. В странах Европы каждый кирпич пронумерован, прошлое не сдвинешь - и тут тоже все ясно. Но что ждать от страны, прошлое которой в такомсостоянии? Полуразрушенное или недовосстановленное, не до конца уничтоженное или полузаброшенное, мерцающее - онооставляет прекрасную возможность: не отвечать за сегодня и завтра. Такое прошлое можно подминать под себя, трактовать так, как удобно - по ситуации. А что? Очень удобно, ноу-хау нашего времени. Федорову и не снилось.
Сознание живет памятью - ну, в том числе. Усилием обрести, восстановить прошлое. Это одна из высших форм его активности, способ существования. Способ самовоспроизведения. Особенно если рассматривать эту активность без эмоциональной нагрузки. Но отказаться от этой нагрузки - от эмоций, связанных с прошлым, - я тоже не могу. Не хочу, не желаю! Это - одна из форм моей душевной жизни, причем самая жизнетворная. Из тех, которые только и держат меня здесь, на поверхности. В жизни.
Можно обнулить прошлое, лишить память материала, а сознание - формы жизни. Можно вытеснить переживание любой потери, включая главную потерю - прошлого (или отцов, как сказал бы Федоров), позитивным раздражителем, лишь бы этот раздражитель поступал к потребителю бесперебойно, как это в потребительских обществах и бывает. И тогда не нужно будет никаких кладбищ, никакого прошлого. Но готов ли человек при здравом размышлении согласиться на это?
Федоров говорил: общая память о прошлом делает людей «едиными», но не «слитными», «различными», но не «розными». Между прочим, на этой гениальной по простоте идее стоят современные цивилизации. Но философ не мог предвидеть масштаба, охвата. Генетической катастрофы советских лет и послесоветского смешения народов. Великой миграции, обнулившей прошлое эллинов и иудеев и перемешавшей их. Что считает своим прошлым московский дворник из Туркмении? московский клерк из Пензы? Где свое кладбище у московского художника из Баку или московского поэта из Ташкента?
– А че? - хрипит он с того конца деревни. - Лехе можно, к Лехе друг приехал!
Ковыляя в мою сторону, он зачерпывает левым сапогом невидимые лужи. Из кармана торчит бутылка. Забравшись ко мне на пригорок, он садится на корточки. Раскачиваясь, закуривает. Мы молча смотрим, как на поле выползает вечерний туман - длинными войлочными косами. В тумане бродит лошадь, но отсюда видно только ее голову и круп. Верхушки деревьев на розовом небе постепенно сливаются в черную строчку, набранную готическим шрифтом. Зрелище невероятно картинное, эталонное, сошедшее с экрана - и в то же время натуральное, с комарами и запахами, Лехиными хрипами и далеким стуком карьера. И от всего этого, несовместимого и вместе с тем наглядного - и от избытка кислорода, конечно, - голова кружится.
– А че ты один-то? Че без друга? - Я невольно перенимаю его интонации.
– Порнушку смотрит. - Леха щурится на лес. - Поставил на видео.
Он оглядывает меня, подталкивает:
– Сходи посмотри, че ты…
Я никогда не был в избе у Лехи и потому иду, конечно. Я готов к худшему, но нет, в избе натоплено и чисто. Никакого алкоголического разора, только след общей скудости, истонченности, «застиранности» жизни лежит на всех предметах. За печкой в кухне возится Лехина мать. То, что Леха живет со старухой-матерью, я узнал совсем недавно - в деревне ее было совсем не видно. Да и Лехино прошлое я тоже узнаю по обмолвкам, фрагментам. Работал в Волочке на заводе, пока тот не закрылся; когда пропил все, что имел в городе, перебрался к матери на ПМЖ («пока мать жива») - где и живет. Это вариант в деревне самый распространенный: можно пить не работая, пока есть материнская пенсия (баклашка спирта стоит полтинник, закуска растет в огороде, дрова стоят в лесу бесплатно - что еще?). Если мать пьет вместе с сыном, шансы на выживание у них равные, то есть равно минимальные. Если не пьет, сын погибает раньше.
Из комнаты налево, действительно, долетают недвусмысленные крики и стоны. Я отодвигаю занавеску, вхожу. Никого - только перед телевизором, где содрогаются части тел, стоит пустой стул. Опускаю занавеску, тихо выхожу на улицу.
– Понравилось? - Леха сидит в той же позе, но уже по колено в тумане.
– Хороший у тебя друг.
– Надежный, - соглашается он.
– Как зовут?
Утром, слезая с кровати, опускаешь ноги в выстуженный, обжигающий воздух - первые заморозки. Но с вечера я набил лежанку дровами, и теперь они, легкие и высохшие, занимаются от первой спички. Печка топится, можно не вставать, полежать еще - пока не нагреется. Но вставать надо, ведь сегодня мы едем за Люськой. Так мы решили, дачники, - поселить в деревне Люську, поскольку в этот раз на зиму в город съедут все, кроме Лехи, а оставлять на Леху лошадь (да и вообще оставлять Леху) опасно. А Люська - баба надежная, умелая. Непьющая. У себя в деревне ей живется не очень, поскольку функции одинокой бабы - давать в долг на водку или наливать самой - она выполнять не хочет. Вот мы и предлагаем ей перезимовать у нас, где никого, тихо.
– Вот разве что Леха… - говорю я.
– Со скотиной язык имеется…– серьезно кивает Люська.
Я вопросительно смотрю на соседа. Когда Люська ныряет в подпол, тот рассказывает, что в прошлой жизни она была скотницей, то есть работала кнутом и окриком. И что алкаши ее побаиваются.
– Проблем не будет, мальчишки, - из подпола высовывается кудлатая голова.
И «мальчишки» перевозят ее кота и транзистор, десяток цветочных горшков и кастрюли, валенки и лыжи. А Люська едет следом на своем антикварном велосипеде.
– Люсь, посуда. - Я открываю створки, показываю. - Пользуйся.
– У меня свое, мальчик, - что ты.
В сенях на лавке выстраиваются банки с соленьями. На окна и печку Люська вешает пестрые занавески, в избе сразу становится уютно. Настольная лампа, абажур. Цветы на окнах.
– А ну! - замахивается в окно.
Леха отскакивает и, злобно бормоча, уходит.
Глядя, как ловко и аккуратно, деликатно обустроилась Люська - с какой легкостью принимает на себя такую обузу, зимовать в чужой избе, пасти чужую деревню - как неловко ей оттого, что мы все еще сомневаемся в правильности того, что делаем, - мне вдруг приходит в голову, что перед нами, возможно,праведник. Тот самый, без которого не стоит село. Только такой вот, заемный. Арендованный.
В последний перед отъездом день сосед-старожил решает покатать меня по окрестным деревням. Конечная точка - Федоров Двор. От нас туда километров двадцать, но по развороченным «тонарами» дорогам на это уйдет часа два. «Если вообще проедем…»
Дорога - две залитые водой ямы, где отражаются трава и макушки елей. Сосед перебирает рычажки в машине, как четки. И джип медленно, но уверенно карабкается. Мы встаем посреди огромной лесной прогалины. На взгорье лежит полоска леса. В траве несколько сосновых рощиц, как будто лес вокруг вырубили, а про эти сосны забыли. Постепенно глаз различает спрятанные в соснах курганы высотой метров около пяти-шести. Всего их пять, правильной формы - равнобедренный треугольник в разрезе. Кое-где курганы подкопаны.
– Зря старались. - Сосед закуривает. - В девятом веке сжигали, а не закапывали.
Я смотрю на серое низкое небо, и как волнами колышется сухая трава. На приземистый мрачный лес, торчащий из-за пригорка. Мне не слишком верится, что у такого пейзажа - у этой невзрачной неуютной холодной земли - может бытьтакое прошлое. Однако оно есть, и от этой мысли - и от сознания того, что рядом теперь есть и моя изба, мой кусок земли, - на душе становится радостно и страшно.
Пригорки сменяются балками, холмы сбегают в самые настоящие ущелья. Я не верю глазам - на дне одного такого ущельица течет меж влажных валунов абсолютно горная, мелкая и ледяная, речка. Таких полно на Алтае, Кавказе - но здесь? Выше по течению в кустах полощет белье женщина. Сосед гудит, она поднимает голову, улыбается. Мы едем дальше. Деревня Федоров Двор забралась на макушку лысого холма. Склон подкатывает к нам по-театральному внезапно, как декорация на колесах. С третьей попытки, по спирали, мы, наконец, поднимаемся.
Я выхожу из машины, озираюсь - и медленно сажусь на мокрую траву. За ущельем один за другим - холмы. Красные, желтые, зеленые (клен, береза, ель - осень!) - они лежат, как на картинах у Рериха, насколько хватает взгляда. До горизонта. Над холмами низко ползут сливовые тучи. В разрывах между ними бьет солнце, отчего холмы попеременно вспыхивают, как бывает, если на сцене в театре пробовать свет. Но с Осветителем, который поставил свет в этом спектакле, соревноваться бессмысленно, разумеется.
Я ловлю себя на ощущении, что впервые за много лет вижу красоту, которая для меня - как бы это сказать? - небезосновательна. Потому что эта красота является частью реальности, живущей не только в настоящем времени - как все, виденные мной доселе, красоты мира. Именно эту реальность я приобрел вместе с избой - за бесценок, как и положено самым удивительным вещам в жизни. Именно в этой реальности сочетались вещи, неспособные уложиться в моем сознании еще год назад. И вот теперь это нелепое, неразумное, дикое сочетание - языческих курганов и обреченных на вымирание деревень, гималайских просторов и заброшенных кладбищ с мобильной связью на могилах, этих алкоголических сумерек, где блуждают целые села - и людей вроде Фоки и Люськи, благодаря которым эти деревни еще не до конца померкли, вымерли, - именно это сочетание разбудило во мне то, что я мог бы назвать ощущением прошлого. Помогло мне найти, включить его. Активизировать. Возможно, это ощущение иллюзорно - не знаю! Но даже если это так (а это, скорее всего, так) - мне хочется не терять эту иллюзию как можно дольше. Сохранить, растянуть ее - поскольку другой иллюзии, настолько глубокой и бескорыстной, у меня еще не было. Ведь лучше считать себя усыновленным полузабытой деревней - считать своим заброшенное кладбище, - чем жить без прошлого или с тем прошлым, которое за тебя придумают те, на горке. Потому что это, спущенное сверху прошлое, будет уж точно не в мою пользу.
Кстати, этот процесс идет быстрее, чем кажется.