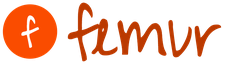Критика о творчестве И. С
И. С. Шмелев - русский писатель, отразивший в своем творчестве жизнь всех слоев общества, но особенно сочувственно - жизнь «маленького человека».
Детство
Будущий писатель Иван Шмелев родился 21.09. 1873 в роду замоскворецких купцов. Торговля, тем не менее, мало интересовала его отца, он содержал артель плотников и многочисленные бани, тем и был доволен. Семья была старообрядческая со своеобразным демократическим укладом. Старообрядцы, и хозяева, и работники, жили дружной общиной, соблюдали единые для всех правила, нравственные и духовные принципы. В атмосфере дружелюбия и всеобщего согласия рос мальчик, впитывая самое лучшее в человеческих отношениях. Эта жизнь спустя годы отразилась в произведениях писателя Шмелева.
Образование
Домашним образованием Ивана занималась в основном мать, она приучила его много читать, так что с самого детства он познакомился с творчеством Пушкина, Толстого, Гоголя, Тургенева и других выдающихся русских писателей, изучение которых продолжалось в течение всей последующей жизни. Позже Шмелев учился в гимназии, где по-прежнему углублял свои литературные познания, с увлечением читая книги Короленко, а, Мельникова-Печеского, Успенского, которые стали в определенном смысле его литературными кумирами. Но при этом, конечно, не прекратилось влияние Пушкина на формирование будущего писателя. Об этом свидетельствуют его позднейшие произведения: «Тайна Пушкина», «Заветная встреча», «Вечный идеал».
Начало творчества
Дебютировал Шмелев в журнале «Русское обозрение» в 1895 г. с рассказом «У мельницы», в котором затронута тема формирования личности, пути к творчеству через жизненные преодоления и постижение характеров и судеб обычных людей.
«Неудачная» книга
После женитьбы Шмелев с молодой женой отправился на остров Валаам, край древних скитов и монастырей. Результатом увлекательного путешествия явилась книга под названием «На скалах Валаама. За гранью мира. Путевые очерки». Издание книги принесло много разочарований начинающему автору. Дело в том, что оберпрокурор Святейшего Победоносцев, через которого должна была проходить книга о святых местах, нашел в ней крамольные рассуждения.
В итоге Шмелев вынужден был переделывать и сокращать текст произведения, лишив его авторской «изюминки». Такое насилие просто выбило из колеи молодого писателя, и он решил, что литературное творчество - не его стезя. Он и в самом деле не писал почти десять лет. Но содержать семью он был обязан. Значит, надо искать другой источник дохода.
Профессия юриста
Шмелев поступил в Московский университет, чтобы овладеть профессией юриста. С этого момента многое изменилось, и главное - его окружение. Здесь возрастало поколение новой интеллигенции. Общение с умными, образованными людьми развивало и обогащало личность, творческий потенциал. По окончании университета (1898) он какое-то время работал в Москве на мелкой должности помощником поверенного, потом переехал во и там работал налоговым инспектором. Как человек творческий он и в этой рутинной работе находил свои плюсы: во время бесконечных разъездов по губернии, ночевок на людных постоялых дворах, а часто и вообще где придется, он черпал впечатления и жизненный опыт, накапливая идеи для своих будущих книг.
Возвращение к творчеству
В 1905 году Шмелев вновь возвратился к писательству. Он публиковался в журналах «Детское чтение», «Русская мысль2. Это были небольшие произведения, робкие пробы, проверка себя на писательском поприще. Наконец, сомнения исчезли. Шмелев окончательно утвердился в своем выборе и ушел со службы. Он снова приехал в столицу, решив начать новый этап своей литературной деятельности (1907).
Малая проза
Вот тут-то и пригодился былой опыт общения с людьми во время путешествий по городам и весям Владимирской губернии. Он еще тогда понимал, что в народе зреет какая-то новая сила, появляются протестные настроения, готовность к революционным переменам. Эти наблюдения и отразились в малой прозе Шмелева.
В 1906 г. вышла его повесть «Распад», в которой рассказывается история отношений отца и сына. Отец - владелец кирпичного завода, привыкший работать по старинке и не желающий никаких перемен. Сын, напротив, стремится к изменениям, полон новых идей. В результате возникает конфликт двух поколений в рамках семьи. Обстоятельства приводят к гибели обоих. И тем не менее, трагический финал не внушает чувства безнадежности и пессимизма.
Следующая повесть «Человек из ресторана» стала как бы визитной карточкой Шмелева как писателя (1910). В ней также была поднята тема отцов и детей, и события развиваются на фоне бурных революционных настроений в обществе. Но не общественные проблемы стали центром внимания писателя, а извечная проблема человеческих отношений, жизненного выбора.
Во время Шмелев с женой перебрался в Калужское имение. Здесь он сделал новое для себя открытие. Оказывается, война уродует человека не только физически, но и нравственно. Герой рассказа «Оборот жизни» - столяр, и во время войны заметно улучшились его дела за счет заказов на гробы и кресты.
Сначала приток барышей тешил мастера, но со временем к нему пришло понимание того, что деньги, заработанные на горе людей, не приносят счастья. Вскоре на фронт отправился сын Шмелева Сергей. Он служил в армии Врангеля, в Алуштинской комендатуре. Когда красные взяли Алушту, уже сбежал. Так Сергей Шмелев оказался в плену. Отец приложил все силы для спасения сына, но тщетно. Его расстреляли. Для родителей это стало тяжелейшим ударом.
Эмиграция
Пережив голод 1921 года, Шмелев решил эмигрировать. Сначала они с женой поселились в Берлине (1922), а потом по приглашению И. А. Бунина, переехали в Париж (1923), где прожили до конца жизни. Годы эмиграции - это новый этап не только жизненной истории Шмелева, но и его творческой биографии. Именно там был написан роман-эпопея «Солнце мертвых», который был переведен на французский, немецкий, английский и другие языки.
Эта книга стала открытием не только в русской, но и мировой литературе. В ней прослеживалась попытка честного взгляда на суть трагедии, постигшей наше общество. Следующий роман «Лето Господне» написан Шмелевым по впечатлениям последних лет, проведенных в России. В картинах православных праздников писатель раскрывает душу простого народа.
Роман «Няня из Москвы» рассказывает о судьбе обычной женщины, волею обстоятельств оказавшейся в Париже. Стиль книги - в мягких, сочувственных тонах с нотками легкой иронии. И в то же время читатель ощущает в авторском отношении к происходящему великую скорбь и боль. Шмелев работал над романом «Пути небесные» и почти закончил его, когда его любимая жена Ольга после болезни ушла из жизни (1933). Он не представлял своего существования без нее.
Смерть
Ему пришлось еще много пережить. Он собирался написать продолжение романа «Пути небесные», но внезапный сердечный приступ остановил жизнь Ивана Сергеевича Шмелева. Это произошло 24.06.1950.
Шмелёв, может быть, самый глубокий писатель русской послереволюционной эмиграции, да и не только эмиграции... писатель огромной духовной мощи, христианской чистоты и светлости души. Его «Лето Господне», «Богомолье», «Неупиваемая Чаша» и другие творения - это даже не просто русская литературная классика, это, кажется, само помеченное и высветленное Божьим духом.
В. Распутин
Разные этапы биографии Шмелёва совпадают с разными этапами его духовной жизни. Принято делить жизненный путь писателя на две кардинально отличающиеся половины - жизнь в России и в эмиграции. Действительно, и жизнь Шмелёва, и его умонастроение, и манера писательства самым сильным образом изменились после революции и тех событий, которые писатель пережил в период гражданской войны: расстрел сына, голод и нищета в Крыму, отъезд за границу. Однако и до отъезда из России, и в эмигрантской жизни Шмелева можно выделить несколько других таких же резких поворотов, касавшихся в первую очередь его духовного пути.
Прадед Шмелёва был крестьянин, дед и отец занимались в Москве подрядами. Размах мероприятий, которые организовывал в своё время отец писателя, можно представить по описаниям в «Лете Господнем».
Иван Сергеевич Шмелёв родился 21 сентября (3 октября) 1873 года. Когда Шмелёву было семь лет, умер его отец - человек, игравший главную роль в жизни маленького Ивана. Мать Шмелёва Евлампия Гавриловна не была ему близким человеком. Насколько охотно всю жизнь потом он вспоминал отца, рассказывал о нём, писал, настолько же неприятными были воспоминания о матери - женщине раздражительной, властной, поровшей шаловливого ребенка за малейшее нарушение порядка.
О детстве Шмелёва все мы имеем самое ясное представление по «Лету Господню» и «Богомолью»... Две основы, заложенные в детстве, - любовь к Православию и любовь к русскому народу - собственно и сформировали на всю жизнь его мировоззрение.
Писать Шмелёв начал, ещё учась в гимназии, а первая публикация пришлась на начало пребывания на юридическом факультете Московского университета. Однако как ни счастлив был юноша увидеть своё имя на страницах журнала, но «... ряд событий - университет, женитьба - как-то заслонили моё начинание. И я не придал особое значение тому, что писал» .
Как это часто происходило с молодыми людьми в России начала ХХ века, в гимназические и студенческие годы Шмелёв отошёл от Церкви, увлекаясь модными позитивистскими учениями. Новый поворот в его жизни был связан с женитьбой и парадоксально со свадебным путешествием:
«И вот мы решили отправиться в свадебное путешествие. Но - куда? Крым, Кавказ?.. Манили леса Заволжья, вспоминалось «В лесах» Печерского. Я разглядывал карту России, и взгляд мой остановился на Севере. Петербург? Веяло холодком от Петербурга. Ладога, Валаамский монастырь?.. туда поехать? От Церкви я уже шатнулся, был если не безбожник, то никакой. Я с увлечением читал Бокля, Дарвина, Сеченова, Летурно... стопки брошюр...где студенты требовали «о самых последних завоеваниях науки». Я питал ненасытную жажду «знать». И я многое узнавал и это знание уводило меня от самого важного знания - от источника Знания, от Церкви. И вот в каком-то полубезбожном настроении, да еще в радостном путешествии, в свадебном путешествии, меня потянуло... к монастырям!» .
Перед отъездом в свадебное путешествие Шмелёв с женой направляются в Троице-Сергиеву Лавру - получить благословение у старца Варнавы Гефсиманского . Однако не только на предстоявшее путешествие благословил старец Шмелёва. Преподобный Варнава чудесным образом провидел будущий писательский труд Шмелева; то, что станет делом всей его жизни:
«Смотрит внутрь, благословляет. Бледная рука, как та в далеком детстве, что давала крестик. /.../ Кладет мне на голову руку, раздумчиво так говорит: «превознесешься своим талантом». Все. Во мне проходит робкой мыслью: «каким талантом... этим, писательским?»
Путешествие на Валаам состоялось в августе 1895 года и стало толчком к возвращению Шмелёва к церковной жизни. Значительную роль в этом повторном воцерковлении Шмелёва играла его жена Ольга Александровна , дочь генерала Александра Охтерлони , участника обороны Севастополя.
Когда они познакомились, Шмелёву было 18 лет, а его будущей супруге - 16. В течение последующих 50 с лишним лет, вплоть до смерти Ольги Александровны в 1946 году, они почти не расставались друг с другом. Благодаря её набожности он вспомнил свою детскую искреннюю веру, вернулся к ней уже на осознанном, взрослом уровне, за что всю жизнь был жене признателен.
Ощущения человека, от маловерия и скептицизма поворачивающегося к познанию Церкви, монашеской жизни, подвижничества, отражены в серии очерков , которые были написаны Шмелёвым сразу по возвращении из свадебного путешествия (позже уже в 30-х годах в эмиграции они были переписаны заново). Само название книги - «Старый Валаам» - подразумевает, что Шмелёв пишет об уже утраченном, о мире, который существовал только до революции, но, тем не менее, всё повествование очень радостное и живое. Читатель не просто видит яркие картины природы Ладоги и монастырского быта, а проникается самим духом монашества. Так, в нескольких словах описывается Иисусова молитва:
«Великая от этой молитвы сила, - говорит автору один из монахов, - но надо уметь, чтобы в сердце как ручеек журчал... этого сподобляются только немногие подвижники. А мы, духовная простота, так, походя пока, в себя вбираем, навыкаем. Даже от единого звучанья и то может быть спасение» .
То что в книге Шмелёва содержится не просто перечень поверхностных впечатлений автора, а богатый материал, знакомящий читателя со всеми сторонами Валаамской жизни - от устава старца Назария до технического устройства монастырского водопровода, - объясняется его подходом к творчеству в целом. Во время написания и «Старого Валаама», и «Богомолья», и своего последнего романа «Пути Небесные», Шмелёв прочитывал груды специальной литературы, пользуясь библиотекой Духовной академии, постоянно изучая Часослов, Октоих, Четьи-Минеи, так что в конечном итоге лёгкость и изящество стиля его книг сочетается с их громадной информативностью.
Первые литературные опыты Шмелева были прерваны на десять лет повседневной жизнью, заботами о хлебе насущном, необходимостью содержать семью. Однако не следует думать, что они прошли для писателя абсолютно бесследно. В «Автобиографии» он характеризует это время следующим образом:
«...поступил на службу в казенную палату. Служил во Владимире. Семь с половиной лет службы, разъезды по губернии столкнули меня с массой лиц и жизненных положений. /.../ Служба моя явилась огромным дополнением к тому, что я знал из книг. Это была яркая иллюстрация и одухотворение ранее накопленного материала. Я знал столицу, мелкий ремесленный люд, уклад купеческой жизни. Теперь я узнал деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дворянство» .
Кроме того, дар писательства, искра Божья всегда ощущались Шмелёвым, даже когда он годами не подходил к письменному столу: «кажется мне порой, что я не делался писателем, а будто всегда им был» . Поэтому так органично произошло вхождение Шмелёва в литературную жизнь России предреволюционной поры.
Опубликовав в 1905-1906 годах после долгого перерыва ряд рассказов «По спешному делу», «Вахмистр», «Жулик», остроумный и бесхитростный Иван Сергеевич быстро стал в кругу литераторов человеком авторитетным, с мнением которого считались и самые привередливые критики.
Период до 1917 года был достаточно плодотворным: опубликовано огромное количество рассказов, включая повесть «Человек из ресторана», принесшую писателю мировую известность.
Драматизм событий в России начала ХХ века Шмелёв и его жена почувствовали с началом первой мировой войны, проводив в 1915 году на фронт единственного горячо любимого сына Сергея. Шмелёв тяжело переживал это, но, естественно, никогда не сомневался в том что его семья, как и все другие должна, выполнить свой долг перед Россией. Возможно, уже тогда у него были страшные предчувствия касательно участи сына. Ухудшение в состоянии духа Шмелёва наблюдали его друзья, в частности Серафимович, отмечавший в одном из писем в 1916 году: «Шмелёв чрезвычайно подавлен отъездом сына на военную службу, был нездоров» . Практически сразу после революции Шмелевы переезжают в Крым, в Алушту - место, с которым оказались связаны самые трагические события в жизни писателя.
Сын, вернувшийся из Добровольческой армии Деникина больным и лечившийся от туберкулеза в госпитале в Феодосии, в ноябре 1920 года был арестован чекистами распоряжавшегося тогда в Крыму Бела Куна. Почти три месяца больной юноша провёл в перенаселенных и смрадных арестантских подвалах, а в январе 1921 его, как и сорок тысяч других участников «Белого движения», расстреляли без суда и следствия - при том что официально им была объявлена амнистия! Подробностей этого расстрела граждане «страны Советов» так и не узнали.
Долгое время Шмелёв имел самые противоречивые сведения о судьбе сына, и, когда в конце 1922 года, приехал в Берлин (как полагал, на время) он писал И.А. Бунину: «1/4 % остаётся надежды, что наш мальчик каким-нибудь чудом спасся» . Но в Париже его нашёл человек, сидевший с Сергеем в Виленских казармах в Феодосии и засвидетельствовавший его смерть. Сил возвращаться на родину у Шмелёва не было, он остался за границей, переехав из Берлина в Париж.
Трагедия эмиграции нами уже почти забыта , потери России, с одной стороны, и муки оставшихся без Родины и средств к существованию, с другой, редко фигурируют сейчас на страницах прессы или исторических трудов. Именно произведения Шмелёва напоминают о том, как много Россия потеряла . Важно, насколько чётко Шмелёв осознает, что многие люди, оставшиеся в России, приняли мученический венец. Он ощущает жизнь эмигрантов как ущербную в первую очередь потому, что в эмиграции упор ставится на личное выживание каждого: «Почему же теперь... покой? - восклицает героиня одного из его рассказов, - Ясно, что тогда те жертвы, миллионы замученных и павших - не оправданы./.../ Мы проливали кровь в боях, те - в подвалах! И продолжают. К нам вопиют мученики» .
Тем не менее, Шмелёв не оставался в стороне от насущных проблем русской эмиграции , что отражено в многочисленных публицистических работах писателя. В первую очередь, среди них выделяются призывы о помощи инвалидам Белой армии, жившим в эмиграции почти в полной нищете и забвении. Кроме того, Шмелев активно сотрудничал с журналом «Русский колокол», издаваемом Иваном Ильиным . Это был один из немногих журналов в русской эмиграции с патриотическим и православным уклоном.
Поддержка и помощь Ильина действительно были очень значительны для Шмелёва . Он не просто писал ему ободряющие письма и пропагандировал в своих статьях и выступлениях произведения Шмелёва. Ильин взял на себя самый тяжелый труд - поиск издателей, переписку с ними, обсуждение возможных условий. Когда в 1936 году Шмелёвы собирались на отдых в Латвию (поездка не состоялась из-за внезапной болезни и смерти Ольги Александровны), Ильин занимался практически всеми организационными вопросами, договаривался о серии вечеров, которые Шмелёв должен был дать проездом в Берлине. Забота его простиралась до того, что он оговаривал диетическое меню для Шмелёва в том пансионате, где писатель собирался остановиться! Поэтому недаром Ильин шуточно переделал известные пушкинские строки:
Слушай, брат Шмелини,
Как мысли чёрные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти - ильинские статейки о тебе ...
Однако тяжесть эмигрантской жизни для семьи Шмелёвых усиливалась постоянной скорбью: «Нашу боль ничто не может унять, мы вне жизни, потеряв самое близкое, единственное, нашего сына» .
При этом огромную массу сил и времени у Шмелёва отнимали заботы о самых насущных нуждах: что есть, где жить! Из всех писателей-эмигрантов Шмелёв жил беднее всех , в первую очередь, потому, что менее других умел (и хотел) заискивать перед богатыми издателями, искать себе покровителей, проповедовать чуждые ему идеи ради куска хлеба. Существование его в Париже без преувеличения можно назвать близким к нищете - не хватало денег на отопление, на новую одежду, отдых летом.
Поиск недорогой и приличной квартиры шёл долго и был чрезвычайно утомительным:
«Отозван был охотой за квартирой. Устали собачьи - нечего. Не по карману. Куда денемся?! /.../ Поглядел на мою, вечную... /т.е. Ольгу Александровну, жену И. Шмелева - Е.К./ до чего же истомлена! Оба больные - бродим, нанося визиты консьержкам./.../ Вернулись, разбитые. Собачий холод, в спальне +6 Ц.! Весь вечер ставил печурку, а угля кот наплакал» .
Тем не менее, в конечном итоге французская эмигрантская жизнь Шмелёвых по-прежнему напоминала жизнь старой России , с годовым циклом православных праздников, со многими обрядами, кушаньями, со всей красотой и гармонией уклада русской жизни. Православный быт , сохранявшийся в их семье, не только служил огромным утешением для самих Шмелевых, но и радовал окружающих. Неизгладимое впечатление все подробности этого быта произвели на племянника Шмелёвых Ива Жантийома-Кутырина , который, будучи крестником писателя, частью стал заменять ему потерянного сына.
«Дядя Ваня очень серьезно относился к роли крестного отца... - пишет Жантийом-Кутырин, - Церковные праздники отмечались по всем правилам. Пост строго соблюдался. Мы ходили в церковь на улице Дарю, но особенно часто - в Сергиевское подворье». «Тётя Оля была ангелом-хранителем писателя, заботилась о нём, как наседка... Она никогда не жаловалась... Её доброта и самоотверженность были известны всем. <...> Тётя Оля была не только прекрасной хозяйкой, но и первой слушательницей и советчицей мужа. Он читал вслух только что написанные страницы, представляя их жене для критики. Он доверял её вкусу и прислушивался к замечаниям» .
К Рождеству, например, в семье Шмелёвых готовились задолго до его наступления. И сам писатель, и, конечно, Ольга Александровна, и маленький Ив делали разные украшения: цепи из золотой бумаги, всякие корзиночки, звёзды, куклы, домики, золотые или серебряные орехи. Ёлку наряжали в эмиграции многие семьи. Рождественская ёлка в каждой семье сильно отличалась от других. Во всякой семье были свои традиции, свой секрет изготовления ёлочных украшений. Происходило своего рода соперничество: у кого самая красивая ёлка, кому удалось придумать самые интересные украшения. Так, и потеряв родину, русские эмигранты находили её в хранении дорогих сердцу обрядов .
Следующая колоссальная утрата произошла в жизни Шмелева в 1936 году , когда от сердечного приступа умерла Ольга Александровна. Шмелёв винил себя в смерти жены, убеждённый, что, забывая себя в заботах о нём, Ольга Александровна сократила собственную жизнь. Накануне смерти жены Шмелёв собирался ехать в Прибалтику, в частности, в Псково-Печерский монастырь, куда эмигранты в то время ездили не только в паломничество, но и чтобы ощутить русский дух, вспомнить родину.
Поездка состоялась спустя полгода. Покойная и благодатная обстановка обители помогла Шмелёву пережить это новое испытание, и он с удвоенной энергией обратился к написанию «Лета Господня» и «Богомолья», которые на тот момент были ещё далеки от завершения. Окончены они были только в 1948 году - за два года до смерти писателя.
Пережитые скорби дали ему не отчаяние и озлобление, а почти апостольскую радость для написания этого труда , той книги, про которую современники отзывались, что хранится она в доме рядом со Святым Евангелием. Шмелёв в своей жизни часто ощущал ту особую радость, которая даётся благодатью Духа Святого. Так, среди тяжёлой болезни ему почти чудом удалось оказаться в храме на пасхальном богослужении:
«И вот, подошла Великая Суббота... Прекратившиеся, было, боли поднялись...Слабость, ни рукой, ни ногой.../.../ Боли донимали, скрючившись сидел в метро... В десять добрались до Сергиева Подворья. Святая тишина обвеяла душу. Боли ушли. И вот, стала наплывать-нарождаться... радость! Стойко, не чувствуя ни слабости, ни болей, в необычайной радости слушал Заутреню, исповедовались, обедню всю выстояли, приобщились... - и такой чудесный внутренний свет засиял, такой покой, такую близость к несказанному, Божиему, почувствовал я, что не помню - когда так чувствовал!»
Поистине чудесным считал Шмелёв и свое выздоровление в 1934 году. У него была тяжёлая форма желудочного заболевания, писателю грозила операция, и он, и врачи опасались самого трагического исхода. Шмелёв долго не мог решиться на операцию. В тот день, когда его доктор пришел к окончательному выводу о том, что без операционного вмешательства можно обойтись, писатель видел во сне свои рентгеновские снимки с надписью «Св. Серафим». Шмелёв считал, что именно заступничество преп. Серафима Саровского спасло его от операции и помогло ему выздороветь.
Переживание чуда отразилось на многих произведениях Шмелёва , в том числе и на последнем романе «Пути Небесные», в художественной форме излагающем святоотеческое учение и описывающем практику повседневной борьбы с искушением, молитвы и покаяния. Шмелёв сам называл этот роман историей, в которой «земное сливается с небесным» . Роман не был окончен. В планах Шмелёва было создать еще несколько книг «Путей Небесных», в которых описывалась бы история и жизнь Оптиной пустыни (так как один из героев, по замыслу автора, должен был стать насельником этой обители).
Чтобы полнее проникнуться атмосферой монастырской жизни, 24 июня 1950 года Шмелёв переехал в обитель Покрова Пресвятой Богородицы в Бюсси-ан-Отт, в 140 километрах от Парижа. В тот же день сердечный приступ оборвал его жизнь. Монахиня матушка Феодосия, присутствовавшая при кончине Ивана Сергеевича, писала: «Мистика этой смерти поразила меня - человек приехал умереть у ног Царицы Небесной под её покровом» .
Почти все русские эмигранты буквально до конца своей жизни не могли смириться с тем, что они уехали из России навсегда. Они верили, что обязательно вернутся на родину, и, удивительно, но так или иначе эта мечта Ивана Шмелёва осуществилась уже в наши дни. Возвращение это началось для Шмелёва публикацией его полного собрания сочинений: Шмелёв И.С. Собр. соч.: В 5 т. - М.: Русская книга, 1999-2001.
За этим последовали два других события, не менее важных. В апреле 2000 года племянник Шмелева Ив Жантийом-Кутырин передал Российскому фонду культуры архив Ивана Шмелёва; таким образом, на родине оказались рукописи, письма и библиотека писателя, а в мае 2001 года с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II прах Шмелёва и его жены был перенесён в Россию, в некрополь Донского монастыря в Москве, где сохранилось семейное захоронение Шмелёвых. Так, спустя более полувека со дня своей смерти Шмелёв вернулся из эмиграции .
___________________________
Ильин И.А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1927-1934). - М.: Русская книга, 2001 - С. 371.
Ильин И.А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1927-1934). - М.: Русская книга, 2001 - С. 429.
Шмелёв И.С. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 6(доп.). - М.: Русская книга, 1999. - С. 281.
Шмелёв И.С. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. - М.: Русская книга, 2001. - С.18.
Шмелёв И.С. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 6 (доп.). - М.: Русская книга, 1999. - С. 282.
Шмелёв И.С. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 6 (доп.). - М.: Русская книга, 1999. - С. 284.
Шмелёв И.С. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 2. - М.: Русская книга, 2001. - С.358.
Шмелёв И.С. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. - М.: Русская книга, 2001. - С.19-20.
Шмелёв И.С. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 2. - М.: Русская книга, 2001. - С. 296.
Из письма к А.А. Кипену от 21 марта 1916//Шмелёв И.С. Неупиваемая чаша: Романы. Повести. Статьи. - М.: Школа-Пресс, 1996. - С. 26.
Письмо И.А. Бунину от 23 ноября 1923, цит. по изд.: Устами Буниных. - Т. II. - Франкфурт-на-Майне//Посев. - 1981. - С. 100.
Шмелёв И.С. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 6(доп.). - М.: Русская книга, 1999. - С. 502.
Письмо И.А. Ильину от 18 января 1932//Ильин И.А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1927-1934). - М.: Русская книга, 2001 - С. 253.
Письмо И.А. Ильину от 27 ноября 1933//Ильин И.А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1927-1934). - М.: Русская книга, 2001 - С. 419.
Жантийом-Кутыриин И. Мой дядя Ваня. - Москва: Российский Фонд Культуры-Издательство Сретенского монастыря, 2001. - С. 12.
Жантийом-Кутыриин И. Мой дядя Ваня. - Москва: Российский Фонд Культуры-Издательство Сретенского монастыря, 2001. - С. 14.
Письмо Ильину от 18 апреля 1933//Ильин И.А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1927-1934). - М.: Русская книга, 2001 - С. 379.
Цит. по изд.: Кутырина Ю.А. Светлая кончина И.С. Шмелёва//Шмелев И.С. Свет вечный. - Париж, 1968. - С. 375.
Екатерина Куликова
Также по этой теме:
Шмелев теперь - последний и единственный из русских писателей, у которого еще можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка. Шмелев изо всех русских самый распрерусский, да еще и коренной, прирожденный москвич, с московским говором, с московской независимостью и свободой духа.
А. И. Куприн
Все, что написано Иваном Шмелевым, служит глубинному познанию России, ее корневой системы, пробуждению любви к нашим праотцам. До конца своих дней чувствовал он саднящую боль от воспоминаний о Родине, ее природе, ее людях. В последних книгах великого писателя - крепчайший настой первородных русских слов, самый лик России, которая видится ему в своей кротости и поэзии.
“Этот весенний плеск остался в моих глазах - с праздничными рубахами, сапогами, лошадиным ржаньем, с запахами весеннего холодка, теплом и солнцем. Остался живым в душе, с тысячами Михаилов и Иванов, со всем мудреным до простоты-красоты душевным миром русского мужика, с его лукаво-веселыми глазами, то ясными как вода, то омрачающимися до черной мути, со смехом и бойким словом, с лаской и дикой грубостью. Знаю, связан я с ним до века. Ничто не выплеснет из меня этот весенний плеск, светлую весну жизни... Вошло - и вместе со мной уйдет” (“Весенний плеск”),
О Шмелеве, особенно его позднем творчестве, писали немало и основательно. Только по-немецки вышли две фундаментальные работы, существуют серьезные исследования и на других языках, число статей и рецензий велико. И все же среди этого обширного списка выделяются труды русского философа и публициста И. А. Ильина, которому Шмелев был особенно близок духовно и который нашел собственный ключ к шмелевс-кому творчеству как творчеству глубоко национальному. О “Лете Господнем” он, в частности, писал:
“Великий мастер слова и образа, Шмелев создал здесь в величайшей простоте утонченную и незабываемую ткань русского быта, в словах точных, насыщенных и изобразительных: вот “тартбнье мартовской капели”; вот в солнечном луче “суетятся золотинки”, “хряпкают топоры”, покупаются “арбузы с подтреском”, видна “черная каша галок в небе”. И так зарисовано все: от разливанного постного рынка до запахов и молитв яблочного Спаса, от “розговин” до крещенского купанья в проруби. Все узрено и показано насыщенным видением, сердечным трепетом; все взято любовно, нежным, упоенным и упоительным проникновением; здесь все лучится от сдержанных, непроливаемых слез умиленной и благодарной памяти. Россия и православный строй ее души показаны здесь силою ясновидящей любви”.
И действительно, “Богомолье”, “Лето Господне”, “Родное”, а также рассказы “Небывалый обед”, “Мартын и Кинга” объединены не только биографией ребенка, маленького Вани. Через материальный мир, густо насыщенный бытовыми и психологическими подробностями, читателю открывается нечто более масшатабное. Кажется, вся Россия, Русь предстает здесь “в преданьях старины глубокой”, в волшебном сочетании наивной серьезности, строгого добродушия и лукавого юмора. Это воистину “потерянный рай” Шмелева-эмигранта. Поэтому так велика сила пронзительной любви к родной земле, поэтому так ярки и незабываемы сменяющие друг друга картины.
Эти “вершинные” книги Шмелева по своей художественной канве приближаются к формам фольклора, сказания. Так, в “Лете Господнем” скорбная кончина отца следует за рядом грозных предзнаменований: это и вещие слова Пелагеи Ивановны, котрая и себе предсказала смерть; это и многозначительные сны, привидевшиеся Горкину и отцу; и редкостное цветение “змеиного цвета”, предвещающего беду, и “темный огонь в глазу” бешеной лошади Стальной. Все эти подробности и детали соединяются в единое, достигая размаха мифа, сказки-яви.
О языке стоит сказать особо. Без сомнения, не было подобного языка до Шмелева в русской литературе. Что ни слово, то золото. Волшебное великолепие нового невиданного языка. Отблеск небывшего, почти сказочного (как на легендарном “царском золотом”, что подарен был плотнику Марты ну) ложится на слова. Этот щедрый, богатый народный язык восхищал и продолжает восхищать.
По воспоминаниям современников можно собрать потртрет Ивана Сергеевича Шмелева: среднего роста, тонкий, худощавый, с большими серыми глазами; лицо старовера, страдальца, изборождено глубокими складками взор чаще серьезный и грустный, хотя и склонен к ласковой усмешке. По отцу он действительно старовер, а предки матери вышли из крестьянства. Родился писатель в Москве в 1873 году, в семье подрядчика. Москва - глубинный источник его творчества. Именно самые ранние детские впечатления навсегда заронили в его душу и мартовскую капель, и вербную неделю, и “стояние” в церкви, и путешествие старой Москвой. Семья отличалась патриархальностью, истинной религиозностью.
Совсем иной дух, чем в доме, царил на замоекворецком дворе Шмелевых, куда со всех концов России стекались рабочие-строители в поисках заработка. “Слов было много на нашем дворе - всяких, - вспоминал писатель. - Это была первая прочитанная мною книга - книга живого, бойкого и красочного слова”.
Родители дали сыну и дочерям прекрасное образование. Шмелев-гимназист открыл для себя новый, волшебный мир литературы и искусства. Уже в первом классе гимназии он носил прозвище “римский оратор” и был прославленным рассказчиком, специалистом по сказкам. Страсть к “сочинительству” была необоримой. И некую побудительную роль, безусловно, сыграл А.П.Чехов. На всю жизнь Чехов, с которым он не раз встречался, остался его истинным идеалом.
Юному гимназисту чрезвычайно повезло с преподавателем словесности Цветаевым, который разглядел в мальчике незаурядный талант и задавал ему специально писать сочинения на поэтические темы. Под благотворным влиянием Цветаева в жизнь юного Ивана вощли новые книги, новые авторы: Короленко, Успенский, Толстой. И вот летом, перед выпускным классом, отдыхая в глухой деревне, он написал большой рассказ, причем в один вечер, с маху. И в июле 1895 года, уже студентом, получил по почте журнал “Русское обозрение” со своим рассказом “У мельницы”. У него тряслись руки, он ликовал: “Писатель? Это я не чувствовал, не верил, боялся думать...”
Биография писателя Шмелева демонстрирует не раз страстность его натуры. В молодости его круто шатало: от истовой религиозности к рационализму в духе шестидесятников, от рационализма - к учению Льва Толстого, " идеям опрощения и нравственного самоусовершенствования. Поступив на юридический факультет Московского университета, Шмелев неожиданно для себя увлекается ботаническими открытиями Тимирязева, после чего новый прилив религиозности. После женитьбы осенью 1895 года он в качестве свадебной поездки выбирает Валаамский Преображенский монастырь на Ладоге. Так родились очерки “На скалах Валаама”. Изданная за счет автора, книга была остановлена цензурой.
После окончания университета Шмелев тянет лямку чиновника в глухих местах Московской губернии. Но и до этих мест уже докатились первые раскаты приближающейся революционной грозы. Такие произведения Ивана Шмелева как “Вахмистр” (1906), “Распад” (1906), “Иван Кузьмич” (1907), “Гражданин Уклейкин” - все они прошли под знаком первой русской революции. Герои Шмелева этой поры недовольны старым укладом жизни и жаждут перемен. Но рабочих Шмелев знал плохо. Он увидел и показал их в отрыве от среды, вне “дела”. Сама же революция у него передана глазами дру гих, пассивных и малосознательных людей. Так, из своего лабаза наблюдает за уличными “беспорядками” старый купец Громов в рассказе “Иван Кузьмич”. К “смутьянам” он относится с недоверием и враждебностью. Лишь случайно попав на демонстрацию. Он неожиданно для себя ощутил душевный перелом: “Его захватило всего, захватила блеснувшая перед ним правда”. Этот мотив настойчиво повторяется и в других произведениях. В те годы Шмелев был близок писателям-демократам, группировавшимся вокруг издательства “Знание”, в котором с 1900 года ведущую роль стал играть М. Горький.
Самым значительным произведением Шмелева дореволюционной поры является повесть “Человек из ресторана”. Действующие лица повес-тиобразуют единую социальную пирамиду, основание которой занимает главный герой Скороходов с ресторанной прислугой. Ближе к вершине лакейство совершается уже “не за полтинник, а из высшиз соображений”: так, важный господин в орденах кидается под стол, чтобы раньше официанта поднять оброненный министром платок. И чем ближе к вершине этойпира-миды, тем низменнее причины лакейства. Повесть “Человек из ресторана” стала важной вехой для Шмелева-писателя. Она была напечатана в сборнике “Знания” и имела шумный успех. Помотивам повести был снят фильм с выдающимся Михаилом Чеховым в главной роли.
Шмелев становится широко читаемым, признанным писателем России. В 1912 году организуется Книгоиздательство писателей в Москве, членами-вкладчиками которого становятся Найденов, братья Бунины, Зайцев. Вересаев, Телешов, Шмелев и другие. Все дальнейшее творчество Шмелева связано с этим издательством, в котором выходит собрание его сочинений в восьми томах. Особенность творчества Шмелева этих лет - тематическое разнообразие его произведений. Тут и разложение дворянской усадьбы (“Пугливая тишина”, “Стена”) и драматическая разъединенность пресыщенных жизнью артистов-интеллигентов с “простым” человеком - речным смотрителем Серегиным (“Волчий перекат”) и тихое житье-бытье прислуги (“Виноград”) и последние дни богатого подрядчика, приехавшего помирать в родную деревню (“Росстани”).
Шмелев встретил Февральскую революцию 1917 года восторженно. Он совершает ряд поездок по России, выступает на собраниях и митингах. Однако взглды Шмелева ограничивались рамками “умеренного” демократизма. Он не верил в возможность скорых и радикальных преобразований в России.
Октябрь Шмелев не принял. Он отошел от общественной деятельности вовсе. Его растерянность, неприятие происходящего - все это сказалось на его творчестве 1918-1922 годов. В ноябре 1918 года в Алуште он пишет повесть “Неупиваемая чаша”. Которая позже вызовеь восторженный отклик Томаса Манна (письмо Шмелеву от 26 мая 1926 года). Грустный рассказ о жизни Ильи Шаронова напоен подлинной поэзией и проникнут глубоким сочувствием к крепостному живописцу, который кротко и незлобиво, точно святой, прожил свою недолгую жизнь и сгорел, как восковая свеча, полюбив молодую барыню.
Видя вокруг себя неисчислимые страдания и смерть, Шмелев выступает с осуждением войны как массового психоза здоровых людей (повесть “Это было”, 1919), показывает бессмысленность гибели цельного и чистого человека Ивана в плену, на чужой стороне (“Чужая кровь”, 1918-1923). В произведениях этих лет уже ощутимы мотивы и проблематика Шмелева-эмиг Эмигрировать Шмелев не собирался. Об этом говорит тот факт, что в 1920 году он покупает в Алуште дом с клочком земли. Но трагическое обстоятельство все перевернуло. Своего единственного сына он любил очень сильно. И вот в 1920 году Сергей Шмелев, отказавшийся уехать с врангелевцами на чужбину, был взят в Феодосии из лазарета и без суда расстрелян красными. И не он один. Никакими словами нельзя описать страдания отца...
В 1922 году Шмелев принимает приглашение И.А.Бунина выехать за границу и выезжает сперва в Берлин, в потом в Париж. Пережив горе утраты, Шмелев выплескивает чувства осиротевшего отца в рассказах и повестях-памфлетах - “Каменный век”, “На пеньках”, “Про одну старуху”. Но против русского человека Шмелев не озлобился, хотя и многое в новой жизни проклял.
Но из глубины души, со дна памяти подымались образы и картины, не давшие иссякнуть току творчества в пору отчаяния и скорби. Живя в Гра-се, у Буниных, Шмелев рассказывал о своих переживаниях Куприну, которого горячо любил: “Доживаем дни свои в стране роскошной, чужой. Все - чужое. Души-то родной нет, а вежливости много... Все у меня плохо, на душе-то”. Отсюда, из чужой и “роскошной” страны, с необыкновенной остротой видится Шмелеву старая Россия, а в России - страна его детства, Москва, Замоскворечье. И он пишет...
Книги “Лето Господне” (1933-1948), “Богомолье” (1931-1948), сборник “Родное” (1931) явились вершиной позднего творчества Шмелева и принесли ему европейскую известность. Эти произведения не поддаются привычному жанровому определению. Что это? Быль-небыль, миф-воспоминание, свободный эпос? Или просто путешествие детской души, судьба, испытания, несчастье, просветление. Мир Горкина, Мартына и Кинги, “Наполеона”, бараночника Феди, богомольной Домны Парфеновны, старого кучера Антипушки, приказчика Василь Василича, “облезлого барина” Энтальцева, колбасника Коровкина, рыбника Горностаева - это мир воспоминаний писателя, его маленькая вселенная, наполненная светом одушевления и высшей нравственности.
Иван Сергеевич Шмелев страстно мечтал вернуться в Россию. Перед смертью он заповедал перевезти его прах и прах его жены в Москву для упокоения рядом с могилой отца его в Донском монастыре. В наши дни на Родину возвращаются его книги. Так возрождается его духовная жизнь на родной земле.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.litra.ru/
Репетиторство
Нужна помощь по изучению какой-либы темы?
Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку
с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.
Белова Полина
V Кирилло-Мефодиевские чтения Секция «Язык национальной культуры».
Скачать:
Предварительный просмотр:
V Кирилло-Мефодиевские чтения
Секция «Язык национальной культуры».
Художественное своеобразие повести И.С.Шмелева «Лето Господне».
Реферат подготовила:
ученица 9б класса
Белова Полина
ГБОУ СОШ с. Красноармейское
Красноармейского района
Самарской области
Научный руководитель:
Жданова О.А.,
учитель русского языка и литературы,
ГБОУ СОШ с. Красноармейское
с. Красноармейское, 2013
I.Введение. Обоснование темы. Задачи и пути исследования проблемы………………………………………………………………………. 3
II. Жизнь и творчество И.С.Шмелева………………………………………… 4-5
Ш. Художественное своеобразие повести И.С.Шмелева «Лето Господне»… ……………………………………………………………………………………6-9
1.Проблематика повести.
2.Жанр и композиция повести.
3. Стиль И.С.Шмелева
IV. Заключение. Выводы………………………………………………………10
V. Список литературы………………………………………………………….11
I. Введение. Обоснование темы. Задачи и пути исследования проблемы.
Русская литература – наше великое духовное достояние, наша национальная гордость. После Октябрьской революции многих поэтов и писателей не печатали, подвергали гонениям. Многие их них эмигрировали из страны. Одним из таких писателей является Иван Сергеевич Шмелев, прозаик, мастерски владеющий богатствами народной речи, продолжающий традиции Достоевского и Леского.
Особое место в творчестве И.С.Шмелева занимает повесть «Лето Господне»(1927-1948), «книга трепетная и молитвенная, поющая и благоухающая» . Это произведение не только по-новому освещает тему детства, но и открывает новые для этого жанра повествовательные формы.
Цель моей работы – привлечь внимание к творчеству И.С.Шмелева, заинтересовать его творчеством, убедить окружающих в том, что « Шмелев… последний… из русских писателей, у которого еще можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка» (А.И.Куприн).
Задача моей работы – рассмотреть своеобразие повести И.С.Шмелева «Лето Господне».
Актуальность своей работы я вижу в том, что в произведении И.С.Шмелева
« Лето Господне» раскрывается духовная жизнь личности в ее неразрывной связи с судьбой России, поэтически описывается народная культура, раскрываются богатства русского языка.
Метод исследования – описательный, частично поисковый.
Материал для исследования собран из изданий:
1.Иван Шмелев «Лето Господне», Москва, «Детская литература», 1997.
II. Жизнь и творчество И.С.Шмелева
Москвич, выходец из торгово-промышленной среды, он великолепно знал этот город и любил его – нежно, преданно, страстно. Именно самые ранние впечатления детства навсегда заронили в его душу и мартовскую капель, и вербную неделю, и «стояние» в церкви, и путешествие по старой Москве.
Москва жила для Шмелева живой и первородной жизнью, которая по сей день напоминает о себе в названиях улиц и улочек, площадей, проездов, набережных, тупиков. Но ближе всего Шмелеву оставалась Москва в том треугольнике, называемом Замоскворечье, где проживало купечество, мещанство и множество фабричного и заводского люда. Самые поэтические книги – «Богомолье»(1931) и «Лето Господне» - о Москве, о Замоскворечье.
Особое место в детских впечатлениях, в благодарной памяти Шмелева занимает отец. Сергей Иванович, которому писатель посвящает самые проникновенные поэтические строки. Собственную мать Шмелев упоминает в автобиографических книгах изредка и словно бы неохотно. Лишь отраженно, из других источников, узнаем мы о драме, с ней связанной, о детских страданиях, оставивших в душе незарубцевавшуюся рану.
Февральская 1917 года революция была встречена Шмелевым с энтузиазмом, однако после событий октября его отношение к новой власти стало глубоко критическим. Осенью 1918 года он уехал в Алушту, где у него было небольшое имение. Там Шмелев пережил все ужасы Гражданской войны, закончившейся для него арестом и расстрелом единственного сына, белого офицера, ставшего жертвой бессудных расправ. События этого времени отразились в написанной на автобиографическом материале повести "Солнце мертвых" (1923).
Писатель тяжело переживал трагические события, связанные с революцией и военными событиями, и по приезде в Москву, он всерьез задумывается над эмиграцией. В январе 1923 года Шмелев окончательно уехал из России в Париж, где прожил 27 лет.
С болью узнавал Иван Сергеевич о разрушениях московских святынь, о переименовании московских улиц и площадей. Но тем ярче и бережней он стремился сохранить в своих произведениях то, что помнил и любил больше всего на свете. Этим он совершил писательский и человеческий подвиг.
Несмотря на все тяготы, эмигрантская жизнь Шмелевых в Париже по-прежнему напоминала жизнь старой России с годовым циклом православных праздников, со многими постами, обрядами, со всей красотой и гармонией уклада русской жизни.
Когда фашисты бомбили в конце Второй мировой войны Париж, недалеко от дома Шмелева упали сразу четыре бомбы, превратив два здания напротив в руины.
Обычно Иван Сергеевич вставал рано, но в то утро из-за недомогания залежался в постели. Это и спасло ему жизнь. Стекла в окнах были разбиты вдребезги. Острые осколки изрешетили насквозь спинку его рабочего кресла. Хлопали пустые рамы, ветер гулял из угла в угол.
Вдруг маленький листок бумаги влетел в обезображенную комнату и, слегка покружив над письменным столом, опустился прямо под ноги Ивану Сергеевичу. Он поднял картинку. Это была репродукция «Богоматерь с Иисусом» итальянского художника Балдовинетти. Как залетела она сюда?
Видимо, Царице Небесной было угодно сохранить жизнь больному и одинокому русскому писателю – эмигранту.
На следующий день в Сергиевском подворье Шмелев отслужил благодарственный молебен.
Чтобы полнее проникнуться атмосферой монастырской жизни, Иван Сергеевич переехал в обитель Покрова Пресвятой Богородицы, в 140 километрах от Парижа. В тот же день сердечный приступ оборвал его жизнь.
Монахиня матушка Феодосия, присутствовавшая при кончине писателя, рассказывала:
«Мистика этой смерти поразила меня – человек приехал умереть у ног Царицы Небесной под ее покровом».
Шмелев страстно мечтал вернуться в Россию, хотя бы посмертно. Это произошло 30 мая 2000 года, когда прах Ивана Сергеевича и Ольги Александровны Шмелевых по инициативе русской общественности и при содействии Правительства России был перенесен из Франции в некрополь Донского монастыря в Москве.
III. Художественное своеобразие повести И.С.Шмелева «Лето Господне».
1.Проблематика повести.
Главная тема романа «Лето господне» - тема исторической и родовой памяти. Шмелев считал, что мир будет незыблем до тех пор, пока люди помнят прошлое и строят настоящее по его законам. Это делает мир одухотворенным, «обожествленным», а значит, осмысленным. Соблюдение древнего порядка помогают человеку быть нравственным. При таком понимании ежедневные дела превращаются в обряд, исполненный смысла.
«Лето Господне» - своеобразная энциклопедия обычаев, связанных с церковными и народными праздниками. Праздники эти описываются «из сердечной глубины верующего ребенка»: от эмоциональной оценки названия праздника через знакомство с его бытовой стороной маленький герой приходит к постижению его сути. Показателен в этом плане рассказ «Покров»: в его зачине наименование любимого на Руси праздника вводится как «чужое» слово и сочетается с местоимением «неизвестности», затем открывается многозначность слова, сближаются слова покров и покроет («землю снежком покроет»), с Покровом связывается представление о завершении дел (« Вот подойдет Покров – всему развязка»). Наконец, в рассказе Горкина дается народная интерпретация праздника и вводится образ осеняющего и спасающего Покрова Богоматери. В финале рассказа образ Покрова, символ милости, прощения и заступничества, соотносится с мотивами сияния, высоты, обретения свободы и преодоления страха.
Повествование построено по законам благодарной памяти, которая сохраняет воспоминания об утраченном материальном мире, духовной составляющей жизни. В «Лете Господнем» тема религиозная, тема устремленности души русского человека к Царствию Небесному связана с семейным укладом замоскворецкого двора «средней руки» купцов Шмелевых, бытом Москвы 80-х годов XIX века. Мальчик Ваня и его наставник Горкин не просто проживают земную жизнь с ее Благовещеньем, Пасхой, праздником иконы Иверской Божией Матери, Троицей, Преображением Господним, Рождеством Христовым, Святками, Крещением, Масленицей, но верят в Господа и бесконечность жизни.
Можно сказать, что мир «Лета Господня» - мир Горкина, Мартына и Кинги, бараночника Феди и богомольной Домны Панферовны, старого кучера Антипушки и приказчика Василь Василича – одновременно и существовал и не существовал никогда. Возвращаясь в воспоминаниях в прошлое, Шмелев рисует постижение детской душой духа православной веры. Текст повести включает многочисленные цитаты из молитв, церковных песнопений, Священного Писания и житий. Но, сам герой, Шмелев-ребенок, появляется перед читателями со всем опытом пройденного Шмелевым-писателем пути. Восприятие мира в этой книге – это восприятие и ребенка, и взрослого, оценивающего происходящее сквозь призму времени. Писатель создает свой особенный мир, маленькую вселенную, от которой исходит свет высшей нравственности.
Кажется, в этом произведении показана вся Русь, хотя речь идет всего лишь о московском детстве мальчика Вани Шмелева. Для Шмелева-эмигранта это – «потерянный рай». Идеалом писателя была Святая Русь, он любовно воскрешает ее образы. Органическая связь писателя с родиной проявляется в поэтизации народной культуры, в сохранении и преображении богатств русского языка.
Книга «Лето господне» - это книга-воспоминание и книга-напоминание. Она служит глубинному познанию России, пробуждению любви к ее старинному укладу. Нужно обернуться в прошлое, чтобы обнаружить истоки трагедии России и пути ее преодоления, связанные, по мнению Шмелева, только с христианством.
Название книги многозначно и носит цитатный характер. Оно восходит к Евангелию от Луки, где упоминается, что Иисус пришел «проповедовать Лето Господне благоприятное». Лето – обозначение церковного года и в то же время знак проявления Божественной благодати. В отношении же к тексту повести Шмелева, создававшейся в эмиграции, это название приобретает дополнительный смысл: «благоприятный» период жизни православной Руси, сохранявшей, с точки зрения автора, веру, дух любви, мудрое терпение и красоту патриархального периода, совпавшей с детством повествователя, которое он, будучи в разлуке с родиной, воскрешает силой благодарной памяти в надежде «отпустить измученных» и исцелить «сокрушенных сердцем».
2.Жанр и композиция повести.
«Лето Господне» строится как объединение ряда рассказов, посвященных детству писателя, и состоит из трех частей: «Праздники»-«Радости»-«Скорби». В этой книге реализован принцип кольцевой композиции: она состоит из сорока одной главы-очерка. И.А.Ильин говорил, что «каждый очерк замкнут в себе,…, подобно острову, устойчив и самостоятелен. И все связаны воедино неким непрерывным обстоянием – жизнью русской национальной религиозности…» .
Действие в повести движется по кругу, следуя за годовым циклом русского православия. Пространство организовано тоже по круговому принципу. Центром вселенной маленького Вани является его дом, который держится на отце – примере жизни «по совести». Это первый круг повести. Второй круг состоит из «двора», мира Калужской улицы, населенного простыми русскими людьми. Третий круг – Москва, которую Шмелев любил и считал душой России. Москва в «Лете Господнем» - живое, одушевленное существо. И главный, четвертый круг – это Россия. Все эти круги помещены во внутренне пространство памяти героя-повествователя.
Каждая глава может быть рассмотрена как отдельное произведение, связанное идейно и тематически с произведением в целом. В большинстве случаев повествование построено по единому принципу: сначала описаны события в доме или на дворе. Затем Горкин объясняет Ване суть происходящего, после этого – рассказ о том, как встречают праздник дома, в храме и во всей Москве. Каждый описанный день – модель бытия.
Повествование в «Лете Господнем» ведется от первого лица, что характерно для большинства автобиографических произведений XIX-XX вв. Автору важен чистый детский голос, раскрывающий целостную душу в свободной и радостной любви и вере. Но, повествование неоднородно: при доминирующей в целом точке зрения маленького героя ряд контекстов организован «голосом» взрослого рассказчика. Это прежде всего зачины глав, лирические отступления в центре, концовки, то есть сильные позиции текста.
Контексты, организованные точкой зрения маленького героя, и воспоминания взрослого повествователя разделены во времени. Их чередование, сопоставление или наложение создают в тексте лирическое напряжение и определяют сочетание речевых средств.
Воспоминания о детстве – это воспоминания о быте старой патриархальной Москвы и – шире – России, обладающие силой обобщения. В то же время «детский» сказ передает впечатления ребенка от каждого нового момента бытия, воспринимаего в звуке, цвете, запахах. Мир, окружающий героя, рисуется как мир, несущий в себе всю полноту и красоту земного бытия, мир ярких красок, чистых звуков, волнующих запахов: «Разросшаяся крапива и лопухи еще густеют сочно, и только под ними хмуро; а обдерганные кусты смородины так и блестят от света».
Книге Шмелева давали самые разные жанровые определения: роман-сказка, роман-миф, роман-легенда, свободный эпос. Тем самым подчеркивалась сила преображения действительности в произведении, жанрового определения которого сам писатель не дал. Но несомненно, что «Лето Господне» - книга духовная, так как ее внутренний сюжет – это становление души мальчика Вани под влиянием окружающей действительности.
3.Стиль И.С.Шмелева.
Великолепный русский язык, которым написано «Лето Господне», отмечали все, кто писал об этой повести. « И язык, язык… Без преувеличения, не было подобного языка до Шмелева в русской литературе. … Писатель расстилает огромные ковры, расшитые грубыми узорами сильно и смело расставленных слов, словец, словечек…Теперь на каждом слове – как бы позолота, теперь Шмелев не запоминает, а реставрирует слова. Издалека, извне восстанавливает он их в новом, уже волшебном великолепии» (О.Н. Михайлов).
Богатство речевых средств, передающих разнообразные чувственные ощущения, взаимодействует с богатством бытовых деталей, воссоздающих образ старой Москвы. Развернутые описания рынка, обедов и московских застолий с подробнейшим перечислением блюд показывают не только изобилие, но и красоту уклада русской жизни: «Глядим – и не можем наглядеться – такая-то красота румяная! ... И всякие колбасы, и сыры разные, и паюсная, и зернистая икра…»
Восхищаясь изобразительным мастерством Шмелева, И.А.Ильин, один из первых исследователей его творчества, писал: «Великий мастер слова и образа, Шмелев создает здесь в величайшей простоте утонченную и незабвенную ткань русского быта; этим словам и образам не успеваешь дивиться, иногда в душе тихо вплеснешь руками, когда выброситься уж очень точное, очень насыщенное словечко: вот «таратанье» «веселой мартовской капели»: вот в солнечном луче «суетятся золотинки»; топоры «хряпкают»; арбузы «с подтреском»; «черная каша галок в небе» .
Изобразительное мастерство писателя особенно ярко проявилось в отображении в слове сложных, нерасчлененных, «совмещенных» образов. С этой целью используются речевые средства, дающие многоаспектную характеристику реалии:
Сложные эпитеты: радостно-голубой, бледно-огнистый, розовато-пшеничный, пышно-тугой, прохладно-душистый;
Метонимические наречия, одновременно указывающие и на признак предмета, и на признак признака: закуски сочно блестят, крупно желтеет ромашка, пахнет священно кипарисом, льдисто края сияют;
Синонимические и антонимические объединения и ассоциативные сближения: скрип-хруст, негаданность-нежданность, льется-шипит, режется-скрежещет, свежие-белые и др.
Отмеченные сочетания, присущие языку фольклора, дополняются столь же регулярными повторами, выполняющими в тексте усилительно-выделительную функцию: « Слышно, как капает, булькает скучно-скучно; И выходят серебряные священники, много-много; И ви-жу…зеленый-зеленый свет!»
На фоне предельно точных описаний природы и бытовых реалий выделяются указательные и неопределенные местоименные слова, заменяющие прямые наименования. Они связаны с сопоставлением двух миров: дольнего и горнего. Первый воссоздается в тексте во всем многообразии мира. Второй для рассказчика невыразим: « И я когда-то умру, и все… Все мы встретимся там».
Детальные характеристики бытовых реалий, служащие средством изображения национального уклада, сочетаются в тесте с описанием Москвы, которая неизменно рисуется в единстве прошлого и настоящего. Показателен в этом отношении рассказ «Постный рынок»: здесь постепенное расширение пространства соотносится с обращением к историческому времени: граница между прошлым и настоящим разрушается, и личная память повествователя сливается с памятью исторической: «Все я знаю. Там, за стенами, церковка под бугром, - я знаю. И щели в стенах – знаю. Я глядел из-за стен…Когда?... И дым пожаров, и крики, и набат… - все помню! Все мнится былью, моею былью…-будто во сне забытом.»
Любимый знак писателя – многоточие, указывающее на незавершенность высказывания, отсутствие точной номинации, поиски единственно верного слова, наконец, на эмоциональное состояние рассказчика.
«Кажется, в русской литературе никто не пользовался паузою так, как Шмелев это делает, - заметил И.А.Ильин. – Пауза обозначает у Шмелева то смысловой отрыв (противопоставление), то эмоциональный перерыв, возникающий от интенсивности переживания…» .
Рассказ «Рождество», например, строится как сказ с пропущенными репликами и вопросами воображаемого собеседника. Они частично цитатно воспроизводятся в речи повествователя и диалогизируют ее: « Волсви? ... Значит, мудрецы, волхвы. А маленький я думал волки. Тебе смешно?».
Мир, изображенный Шмелевым, совмещает сиюминутное и вечное. Он рисуется как дар Божий. Весь текст повести пронизывает сквозной семантический ряд «свет». Его образуют слова «блеск», «свет», «сияние», «золото», которые употребляются как в прямом, так и в переносном значении. Освещенными (часто в блеске и сиянии) рисуются бытовые реалии, светом пронизана Москва, свет царит в описаниях природы и характеристиках персонажей: « Радостное до слез бьется в моей душе и светит от этих слов. И видится мне, за вереницею дней Поста, - Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым светом светит в эти грустные дни Поста;… и. плавно колышась, грядет Царица Небесная надо всем народом… Лик Ее обращен к народу, и вся Она блистает, розово озаренная ранним весенним солнцем…».
Сквозной образ света объединяет рассказы, составляющие «Лето Господне». С мотивом света связан и мотив преображения: бытовая, будничная жизнь рисуется преображенной дважды – взглядом ребенка, любовно и благородно открывающего мир, и Божественным Светом. Мотив преображения в повести находит выражение в использовании семантического ряда «новый» и в повторных описаниях одной и той же реалии: сначала прямом, затем метаморфическом, на основе приема олицетворения: « Беленькая красавица березка. Она стояла на бугре одна… - Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться… - Березка у кивота едва видна, ветки ее поникли. И надо мной березка, шуршит листочками. Святые они, божьи. Прошел по земле Господь и благословил их и всех».
Повтор сквозных рядов («праздники», «память», «свет», «преображение») составляет основу семантической композиции теста. В последней части повести («Скорби») развертываются ряды повторяющихся образов, символизирующих зло, несчастье, имеющих фольклорно-мифологическую основу («змеиный цвет» и др.). Смерть в финале осмысливается как многозначный образ, связанный не только с воспоминаниями о прошлом, но и с гибелью любимого с детства мира, потерей Родины: « Я знаю: это последнее прощание, прощанье с родимым домом, со всем, что было…».
Лирические воспоминания о детстве преобразуются, таким образом, в повествование о духовных основах бытия.
IV. Заключение. Выводы.
«Лето Господне» И.С. Шмелева – во многом произведение новой формы. Для него характерны особая пространственно-временная организация и сложная, контаминированная структура повествования, основанная на взаимодействии разных повествовательных типов.
Впервые в автобиографической прозе для изображения прошлого применен сказ, создающий иллюзию звучащей, произносимой речи. Рисуя образы светлого, счастливого детства и образ Святой Руси, взаимодействующие в повествовании, писатель использует и богатства народной речи, и новые изобразительные средства, открытые им.
Поэтика «Лета Господня» обогащает русскую прозу и обнаруживает новые тенденции в развитии художественной речи XX века.
V.Список литературы.
- Есаулов И.А. Праздники.Радости.Скорби. М.:Новый мир, 1992
2.И.А.Ильин «Одинокий художник. Статьи. Речи. Лекции.», Москва, 1993.
3.И.А.Ильин « О тьме и просветлении», Москва, 1991.
4.Иван Шмелев «Лето Господне», Москва, «Детская литература», 1997
5.Научно-популярная универсальная энциклопедия «Кругосвет»,1997
6..Кузичева А. "...Лето господне благоприятное"//Кн.обозр.- 1986.
Словесная ткань его произведений в высшей степени своеобразна и значительна. При этом она настолько обусловлена строением его художественного акта и так связана с образным составом и предметным содержанием его произведений, что открывает естественнейший и лучший доступ к его искусству. Вот признак истинного литературного мастерства: стиль оказывается верным и властным дыханием акта, образа и предмета.Тот, кто прочтет одно из зрелых произведений Шмелева, тот никогда не сможет забыть его, настолько ему присуще умение овладевать вниманием читателя, вовлекать его в показанный ему мир и приводить всю его душу в состояние напряженного видения.
Но произнося эти слова, я имею в виду только настоящего читателя, т. е. созерцателя с открытой душой, с послушным, гибким актом, с живым сердцем, не боящимся сгореть в огне художества. Напротив, человеку с замкнутой душой, который не желает пускать художника в свою глубину; самодовольному и сухому педанту, который не может или не хочет покидать свое обычное "жилище"; или тому, кто имеет для искусства только холодное, чисто бытовое или эротически-любопытное воображение, предоставляя художнику играть с ним или забавлять его, - такому человеку не удастся воспринять Шмелева, как не удастся ему воспринять ни Достоевского, ни Э. Т. А. Гофмана. И может быть, было бы лучше, если бы он совсем не читал Шмелева и, главное, воздержался от суждений о нем. Напротив, тот, кто отдает художнику и сердце, и волю, и свою нежность, и свою силу - всю свою душу, как покорную, лепкую и держкую глину ("вот, мол, я - доверяюсь тебе, бери, твори и лепи"!), тот очень скоро почувствует, что Шмелева надо не только серьезно и ответственно читать, но что его необходимо прежде всего принять в свое художественное сердце.
Настоящий художник не "занимает" и не "развлекает"; он овладевает и сосредоточивает. Доверившийся ему читатель сам не замечает, как он попадает в некий художественный водоворот, из которого выходит духовно заряженным и, может быть, обновленным. Он очень скоро начинает чувствовать, что в произведениях Шмелева дело идет не более и не менее, как о человеческой судьбе, о жизни и смерти, о последних основах и тайнах земного бытия, о священных предметах; и притом, что самое удивительное, не просто о судьбе описываемых персонажей (с которыми "что-то", "где-то", "когда-то" "случилось"), а о собственной судьбе самого читателя, необычайным образом настигнутого, захваченного и вовлеченного в какие-то события.
Откуда возникает это чувство, читатель, может быть, поймет не сразу. Но это чувство глубокой, кровной вовлеченности в ткань рассказа, и более того, в какое-то великое и сложное обстояние, раз появившись в его душе, уже не исчезает. И если он попытается объяснить себе силу этого захвата и вовлечения, то первое, на чем он остановится, будет язык и стиль Шмелева, т. е. "эстетическая материя" его искусства. Но не потому, что сила Шмелева исчерпывается его языком, а потому, что этот язык насыщен до отказа жизнью художественных образов и властью художественного предмета.
Стиль Шмелева приковывает к себе читателя с первых же фраз. Он не проходит перед нами в чинной процессии и не бежит, как у иных многотомных романистов, бесконечным приводным ремнем. Мало того, он не ищет читателя, не идет ему навстречу, стараясь быть ясным, "изящным", "увлекательным". Он как будто даже не обращает внимания на читателя - говорит мимо него, так, как если бы его совсем и не было. Читатель мгновенно чувствует, что здесь не в нем дело, что он "не важен": с ним не заговаривают ("любезный читатель!"), как бывало у Тургенева; его не заинтриговывают, как у Лескова; его не поучают, как любил Л. Н. Толстой; ему даже не повествуют, как делал Чехов. Нет, при нем что-то происходит, и ему, вот, случайно посчастливилось присутствовать: не то подслушать чужой рассказ о бывшем событии* или о потоке событий**, не то услышать взволнованную исповедь незнакомого ему человека***, а может быть, прочесть чужое письмо****. Это вводит его сразу "in medias res"34. Однако и там, где эта "разговорная" форма отсутствует, читатель вводится прямо в гущу событий, так, как если бы события развертывались сами на его глазах*****. Ему дается сразу опыт присутствия, чувство включенности, восприятие объективности; наподобие театра, но без всякой театральности: "оно" "совершается"; а ему дана возможность видеть и слышать. Иногда он "включается" в поток - даже на полслове*. Все "предисловия", сообщающие о том, кто, когда, где, по какому случаю рассказывал**, опущены: читатель окунается сразу в "струю" или даже в "омут" и должен догадываться, "ориентироваться", соображать самостоятельно: "его настигло", "началось"; "ему дается"; как он "вправится" и "войдет" в эти струи - это уже его личное, дело. И может быть, он почувствует себя в первый миг оглушенным и растерянным...
Если читатель не отдается этому потоку, не наполняет его мгновенно силами своего воображения и чувства, а пробует читать эти фразы сдержанно, объективно, подряд, то он скоро замечает, что ему далеко не все понятно. Он не может уловить, ему не удается следить: что здесь? к чему? откуда это? какая связь? - какие-то клочья! обрывки! восклицания...***
Но если читатель заполнит эти слова энергией своей души, вчувствуется в состояние рассказчика, раскроет свое сердце и отдаст свое воображение, то он вдруг почувствует, что эти слова как будто срываются со страниц книги, впиваются ему в душу, потрясают ее и обжигают, и вот, превращаются в стоны, в драматические восклицания, в художественно убедительные, точные выражения, идущие из душевной глубины; как если бы клоки трепетной страдающей жизни были "пришпилены" этими словами к странице...
Отдаваясь этому стилю, вы чувствуете, что он заставляет вас петь вместе с собой, нестись вперед, спотыкаться, вскакивать, опять нестись, вскрикивать, взвиваться, обрушиваться и обрывать рассказ от отсутствия воздуха... Он страстен и требует страсти от вас. Он певуч и заставляет вас петь вместе с собою. Он насыщен и требует от вас напряжения всех сил. Он страдает, и вы не можете не страдать вместе с ним. Он овладевает вами. И если вы не оторветесь от него, то он перельет в вас все, что в нем заложено.
И при всем том язык Шмелева прост. Всегда народен. Часто простонароден. Таким языком говорит или народная русская толща, или вышедшая из народа полуинтеллигенция, - часто с этими, то маленькими, то большими неправильностями или искажениями, которые совсем не переводимы на другие языки, но которые по-русски так плавно закруглены, так мягки и сочны, так "желанны" в народном произношении. В этом языке звучит и поет открытость русской души, простота и доброта русского сердца, эмоциональная подвижность и живость воображения, присущая русскому народу. И вдруг этот столь добро-душно-разливчатый, сочный язык становится жестким, сосредоточенным, приобретает крепость, ядреность, гневность, идет бросками, швырком, свайкой, режет, колет и одним ударом загоняет в душу точные, беспощадные формулы... с тем, чтобы опять распуститься в ту неописуемую певучую доброту и ширину, в которой вот уже столько веков купается русская душа... И все это течет, сыплется и вспыхивает с такой естественностью и непосредственностью, таким целостным, несмотря на свою задыхающуюся разорванность, самотеком, как если бы это была не словесная ткань искусства, а подслушиваемая вами, реально-живая, словесно звучащая действительность.
Чем глубже вы будете вчувствоваться в этот язык и в этот стиль, тем скорее вы заметите за этим величайшим, непосредственным простодушием, за этой беззаветной искренностью, целую летучую, то сгущающуюся, то разрежающуюся стихию глубокомыслия, иногда укрытую за простой, нежданно естественной игрой слов... И не то это игра слов, не то лучик острой, чуть сверкнувшей мысли, не то глубокое прозрение... Но произносится это всегда с большой наивной серьезностью, как если бы сам рассказчик {не автор!) не-до-понял или пере-понял обиходное словечко, так, может быть, в виде "недоразумения", а из этого "недоразумения" вдруг сверкнуло миросозерцание, иногда нравственное или политическое, а подчас и религиозно-мистическое глубокомыслие...
"Театральщики, уж известно, какой народ... все, будто, понарошку им, представляют и представляют"...
"А старуха в.ноги ему: Прости, сынок, Христа ради... сирота я слабая, безначальная... Погибаю"...
"Ну, приходит к нему в волость, в победный их комитет"...
"Не имею права. У нас теперь прикосновение личности. А пустяками не беспокойте, у нас дела специальные".
"А теперь старое помнить - грех, все мы так потонули, будто уж на том свете"... "Каждый, говорит, день в соборе плачу-молюсь, ничего больше нам не осталось, потонули мы все бездонно"*****.
"Верно, барыня, много добывал, да на много и дыр-то много. Сколько у них у тех-то было, на каждой тумбочке".
"Это дело надобное. Кажная женщина должна... Господь наказал, чтобы рожать. Ещество - закон. Что народу ходит, а каждый вышел из женщины на показ жизни! Такое ещество"... "Нет, от этого не уйдешь! От Бога вкладено, никто не обойдется. Кажный обязан доказать ещество! А то тот не оправдался, другой не желает, - все и прекратилось, конец! Этого нельзя. Кто тогда Богу молиться будет? 0-чень устроено"...
"Ни церкви, ни икон, ни... воспылания!? "...
"Ну, чистая волконалия"…
"Но все это я ставлю не так ужасно, как насмеяние над душой, которая есть зеркало существа"...
Слова Шмелева просты, а душа у читателя вдруг просыпается встревоженная, открывает глаза и начинает вслушиваться и всматриваться, как в тучу на горизонте, где сверкнула молния и погасла. И это не Шмелев "играет словами", подобно тому, как это бывает у Лескова ("нимфозория", "керамиды", "двухсестный", "свистовые", "пропилеи" и т. д.). Лесков - признанный мастер русского языка; но в его фонетической игре бывает иногда нарочитое и выдуманное. Он владел первобытно-творческими истоками русского языка и знал им цену, но нередко затевал предметно необоснованную, изобретательную, но художественно ненужную игру звуками, подчас очень забавную, но не ведущую в глубину предмета. А у Шмелева играют как бы сами слова; и это даже не игра, а неожиданные взрывы смысловых возможностей, вылетающие из души - то негодующей, то испуганной, то прозревающей. Его слово никогда не становится искусственным или выдуманным. Все особенности его языка всегда связаны с личностью рассказчика, с его душевным уровнем и настроением. И чем первобытно-простонароднее его язык, тем наивнее, серьезнее, непосредственнее бывает повествовательная установка его рассказчика. Поэтому язык его есть чаще всего не его собственный, условный способ выражаться, а внешне и внутренне обоснованный язык его героев.
(Источник: Книга "О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин - Ремизов - Шмелев")
В. Распутин
Шмелев, может быть, самый глубокий писатель русской послереволюционной эмиграции, да и не только эмиграции... писатель огромной духовной мощи, христианской чистоты и светлости души. Его "Лето Господне", "Богомолье", "Неупиваемая Чаша" и другие творения - это даже не просто русская литературная классика, это, кажется, само помеченное и высветленное Божьим духом.
А. Солженицын
На жизни Ивана Сергеевича Шмелёва, как и многих общественных и культурных деятелей России ещё дореволюционного, а потом и послереволюционного времени, мы можем видеть этот неотвратимый поворот мировоззрения от "освобожденческой" идеологии 1900-х - 10-х годов - к опоминанию, к умеренности, у кого к поправению, а у кого - как у Шмелёва - углублённый возврат к русским традициям и православию. Вот
"Человек из ресторана" (1911). Шмелёв исправно выдерживает "освобожденческую" тему (тут и разоблачительные фамилии - Глотанов, Барыгин) - и в течение повести уклоняется не раз к этой теме от ресторанной, такой плотно-яркой у него. (Концом повести вернулся.) А именно мещанско-официантское восприятие, ресторанный обиход - они-то и удались, они-то и центр повести.
В этом истинно мещанском языке, почти без простонародных корней и оборотов с одной стороны и без литературности с другой, - главная удача автора, и не знаю: давал ли такое кто до него? (Пожалуй - сквозинки таких интонаций у Достоевского.)
Покоритесь на мою к вам любовь;
Желаю тебя домогаться;
Вместо утешения я получил ропот;
В вас во-первых спирт, а во-вторых необразование;
Если хорошенькая и в нарядах, то такое раздражение может сделать;
Человек должен стремиться или на всё без внимания?
Для пользы отечества всякий должен иметь обзаведение;
Возвращаются из тёплого климата и обращаются к жизни напоказ;
Очень, очень грустно по человечеству;
Посторонние интересы, что Кривой повесился;
Почему вы так выражаете про мёртвое тело?
Хорошо знаем взгляды разбирать и следить даже за бровью;
По моему образованному чувству;
Даже не за полтинник, а из высших соображений;
Если подаю спичку, так по уставу службы, а не сверх комплекта;
Теперь время серьёзное, мне и без политики тошно;
Для обращения внимания.
Но в этом же языке, при незаметном малом сдвиге привычного сочетания слов мы встречаем:
Так необходимо по устройству жизни;
Помогает обороту жизни;
От них пользуется в разных отношениях, - (нет ли здесь уже корней платоновского синтаксиса? Он ведь не на пустом месте вырос).
А иногда в мещанском этом языке просверкнёт и подлинно народное:
На разжиг пошло; - шустротба;
Мне Господь за это причтёт; - с примостью;
Не на лбу гвозди гнуть; - србыву (наречие).
И каково общее рассуждение о повадках и обхождении лакея! (гл. XI)
И - плотный быт ресторанный, и названия изощрённых блюд - верен быту, не соврёт. Хватка у него - большого писателя.
Впрочем и тут к освобожденчеству уже не без лёгкой насмешки: "Как много оказалось людей за народ и даже со средствами! Ах, как говорили! Обносишь их блюдами и слушаешь! А как к шампанскому дело, очень сердечно отзывались". Или: "Одна так-то всё про то, как в подвалах обитают, и жалилась, что надо прекратить, а сама-то рябчика в белом вине так и лущит, так это ножичком-то по рябчику как на скрипочке играет".
Задумывается и вглубь: "Так поспешно и бойко стало в жизни, что нет и времени понять как следует". По этой линии Шмелёву ещё много предстоит в будущем.
"Росстани" (1913). А вот это - уже проступает будущий сложившийся Шмелёв: величественно-медленный ход старика к смерти, без метаний, без терзаний, лишь с тоскою. И всё описано - с готовностью, покорностью и даже вкусом к смерти, очень православно. Весь дух повести - приятен. (Хотя она явно перезатянута.)
Эти травяные улицы, по которым почти не ездят. "Куковала кукушка чистым, точно омытым в дожде голоском". Ветхие деревья, похожие на стариков. Вот утренний рёв коров - может быть последние голоса, которые Данила Степаныч слышит. "Оставил он в прошлом все отличавшие его от прочих людей черты, оставил временное, и теперь близкое вечному начинало проступать в нём".
Ясные воспоминания его и жены Арины об их ранних летах.
Яркий быт - последних именин.
При смерти - звенящая под потолком оса. Кланяется умирающему Медвежий Враг (урочище) - и умирающий кланяется ему.
Арина вспоминает примету смерти: "Подошла как-то под окошко старуха, просила милостыньку, а когда подала Арина в окно, никто не принял. Смерть то и приходила". Мистика по-народному.
И панихида - в плотном быте. (Старики думают: чей теперь черёд?) И погребальное шествие: "Когда вступили в еловый лесок... казалось, поют как в пустой церкви... А когда пошёл березняк, стало весело... И было похоже в солнечной роще, что это не последние проводы, а праздничный гомон деревенского крестного хода". Как хорошо.
На том бы - и кончить. Но Шмелёв даёт ещё "шумные поминки, похожие на именины" (тоже, конечно, - необходная правда русской жизни). И ещё, ещё главы - а не надо бы.
На припбор; - выпот тела; - смертная рубаха;
Ворохнбя; - мурластый; - тяжёлая ступь.
"Спорила в его бороде зола с угольком" (прелесть).
"НеупиваемаЯ Чаша" (1918, Алушта). Рассказ - сборный и во многом традиционный, сюжеты такие уже читаны.
Современное вступление - и юмористическое, и лирическое, и интригующее. (Тут и 1905: "парни выкинули из гробов кости", барские.)
История о помещиках - правдива, конечно, но - в "социально-прогрессивном" духе. И в диссонанс с тем - увлечение монастырём, божественностью, иконописью.
Но что замечательно: святость - как экстракт из земной красоты, любви и страдания.
- "Всё, что вливалось в его глаза и душу, что обрадовало его во дни жизни - вот красота Господня". И "всё, чего и не видели глаза его, но что есть и вовеки будет, - вот красота Господня".
Бедная церковь: "выцелованные понизу дощатые иконы в полинялых лентах".
- "радостно-плещущие глаза" с портрета молодой женщины.
И тут ярко бытовое - ярмарка под монастырём.
Удивительно, что это написано в Крыму в 1918, уже отведав красных (но, видимо, ещё до гибели сына).
Благопохвбально; - ни хбожева, ни езжева (!)
Вышпынивать; - кбалечь (ж. р.);
Труждбение.
"Чужой крови" (1918). Замечательно удачный рассказ: пленный русский солдат в батраках у немецкого бауэра. Безукоризненно точное сопоставление и столкновение русского и немецкого характеров.
"Солнце мЁртвых" (1923). Это такая правда, что и художеством не назовешь. В русской литературе первое по времени настоящее свидетельство о большевизме. Кто ещё так передал отчаяние и всеобщую гибель первых советских лет, военного коммунизма? Не Пильняк же! у того - почти легко воспринимается. А здесь - такое душевно трудное преодоление, прочтёшь несколько страниц - и уже нельзя. Значит - правильно передал ту тягость. Вызывает острое сочувствие к этим бьющимся в судорогах и умирающим. Страшней этой книги - есть ли в русской литературе? Тут целый погибающий мир вобран, и вместе со страданием животных, птиц. В полноте ощущаешь масштабы Революции, как она отразилась и в делах, и в душах. Как вершинный образ - слышен "подземный стон", "Недобитые стонут, могилки просят"? (а это - вытьё тюленей-белух).
Перед потоком этих событий трудно переключаться на соображения художественно-критические. (И страшнее всего, что о таком нашем прошлом - нынешний народ почти сплошь не знает.)
"Солнце мёртвых" - летнее, жаркое, крымское - над умирающими людьми и животными. "Это солнце обманывает блеском... поёт, что ещё много будет дней чудесных, вот подходит бархатный сезон". Хотя автор к концу объясняет, что "солнце мёртвых" - сказано о бледном, полузимнем крымском. (А ещё "оловянное солнце мёртвых" он видит и в равнодушных глазах далёких европейцев. К 1923 он его уже ощутил там, за границей.)
Это - надо перечитывать, чтоб освежить чувство Происшедшего, чтоб осознать его размеры.
Особенно сначала - невыносимо сгущено. Всё время чередуются в беспощадном ритме: приметы мертвеющего быта, омертвлённый пейзаж, настроение опустошённого отчаяния - и память о красных жестокостях. Первозданная правда.
Затем перебивается рассказами доктора: "Мементо мори" (хотя и замечательного по сюжету, символа всеобще-связанной мировой революции, "фебрис революционис", и автор как бы шлёт проклятие заблуждениям своей молодости) и "Садами миндальными" (сперва кажется: зря вставил, снижает общий накал сегодняшнего; потом постепенно открывается, что - нет, должно произойти и широкое осмысление всего содеянного, к дыханию извечному). А сквозного сюжета - и не будет в повести: вот так, в последних попытках людей выжить, и должна развернуться галерея лиц - большей частью страдающих, но - и обманщиков, и злодеев, и ставших злодеями на грани всеобщей смерти. И в соответствии с суровым тоном времени - все они высечены как из камня. И ничего другого - не надо, другого - и не спросишь с автора: вот такое оно и есть.
Однако некоторые места разговоров, особенно монологи доктора - с прямо-таки откровенным, непреоборимым заимствованием у Достоевского, это - зря, жаль. А такого немало.
Во второй половине строгость ужасного повествования, увы, сбивается, снижается декламацией, хоть и верной по своей разоблачительности. Разводнение риторикой - не к выигрышу для вещи. (Хотя - так естественно, что автор озлобился на равнодушных, сытых, благополучных западных союзников. "Вздохи тех, что и тебя когда-то спасали, прозрачная башня Эйфеля". И с какою горечью об интеллигенции!) К концу нарастает и число возвышенных отступлений, это - не украшает, размягчает каменность общего изваяния.
Сам повествователь поразительный идеалист: содержит индюшку с курами безо всякой выгоды, только к ущербу для себя (куры-собеседницы); часто делится последним с голодающими. - "Я больше не хожу по дорогам, не разговариваю ни с кем. Жизнь сгорела... Смотрю в глаза животных"; "немые коровьи слёзы". - И отчётливо пробуждение в нём веры.
Всё это - он ненавязчиво даёт и сильно располагает к себе. И заклинание уверенное: "Время придёт - прочтётся".
Но вот странно: по всему повествованию автор живёт и действует в одиночку, один. А несколько раз заветно прорывается: "мы", "наш дом". Так он - с женой? Или так хранится память о его сыне, расстрелянном красными, ни разу им не упоминаемом (тоже загадка!), но будто - душевно сохраняемом рядом?..
Тревожный тон поддерживается и необычными снами, с первой же страницы.
Начатая тоном отречённости от жизни и всего дорогого, повесть и вся прокатывается в пронзительной безысходности: "Календаря - не надо, бессрочнику - всё едино. Хуже, чем Робинзону: не будет точки на горизонте, и не ждать..."
Ни о чём нельзя думать, не надо думать! Жадно смотри на солнце, пока глаза не стали оловянной ложкой.
Солнце и в мёртвых глазах смеется.
Теперь в земле лучше, чем на земле.
Я хочу оборвать последнее, что меня вяжет с жизнью, - слова людские.
Теперь на всём лежит печать ухода. И - не страшно.
Кбак после такой помойки - поверишь, что там есть что-то?
Какой же погост огромный! и сколько солнца!
Но теперь нет души, и нет ничего святого. Содраны с человеческих душ покровы. Сорваны-пропиты кресты нательные. Последние слова-ласки втоптаны сапогами в ночную грязь.
Боятся говорить. И думать скоро будут бояться.
Останутся только дикие, - сумеют урвать последнее.
Ужас в том, что они-то никакого ужаса не ощущают.
Было ли Рождество? Не может быть Рождества. Кто может теперь родиться?!
Говорить не о чем, мы знаем всё.
Да будет каменное молчание! Вот уж идёт оно.
Приметы того времени:
Всеобщее озлобление голода, жизнь сведена к первобытности. "Рёвы звериной жизни". "Горсть пшеницы стоила дороже человека", "могут и убить, теперь всё можно". "Из человеческих костей наварят клею, из крови настряпают кубиков для бульона". На дороге убивают одиноких прохожих. Вся местность обезлюдела, нет явного движения. Люди затаились, живут - не дышат. Всё прежнее изобилие Крыма - "съедено, выпито, выбито, иссякло". Страх, что придут и последнее отымут воры, или из Особотдела; "мука рассована по щелям", ночью придут грабить. Татарский двор, 17 раз перекопанный в ночных набегах. Ловят кошек в западни, животных постигает ужас. Дети гложут копыта давно павшей лошади. Разбирают покинутые хозяевами дома, из парусины дачных стульев шьют штаны. Какие-то ходят ночами грабить: рожи намазаны сажей. Обувь из верёвочного половика, прохваченного проволокой, а подошвы из кровельного железа. Гроб берут напрокат: прокатиться до кладбища, потом выпрастывают. В Бахчисарае татарин жену посолил и съел. В листки Евангелия заворачивают камсу. Какие теперь и откуда письма?.. В больницу? со своими харчами и со своими лекарствами. Горький кислый виноградный жмых, тронут грибком бродильным, продают на базаре в виде хлеба. "С голоду ручнеют, теперь это всякий знает".
"А в городишке - витрины побитые, заколоченные. На них линючие клочья приказов трещат в ветре: расстрел... расстрел... без суда, на месте, под страхом трибунала!.."
Дом церковный с подвалом пустили под Особотдел.
Как гибли лошади добровольцев, ушедших за море в ноябре 1920.
Один за другим, как на предсмертный показ, проплывают отдельные люди, часто даже друг с другом никак не соотносясь, не пересекаясь, все ободиночели.
Старая барыня, продающая последние вещи прошлого ради внуков-малолеток. И - няня при ней, которая сперва поверила, что "всё раздадут трудящим" и будут все жить как господа. "Все будем сидеть на пятом етажу и розы нюхать".
Старый доктор: как его грабят все, даже съёмную челюсть украли при обыске, золотая пластинка на ней была. Кого лечил, отравили ему воду в бассейне. Сгорел в самодельной избушке.
Генерал Синявин, известный крымский садовод. Матросы из издёвки срубили его любимое дерево, потом и самого застрелили. И китайских гусей на штыках жарили.
Чудесный образ "культурного почтальона" Дрозда, оставшегося и без дела, и без смысла жизни. Обманутая вера в цивилизацию и "Лойд-Жоржа".
И поразительнейший Иван Михайлович, историк (золотая медаль Академии наук за труд о Ломоносове), попавший с Дроздом в первые большевицкие аресты, там показал своё "вологодство": чуть не задушил конвоира - вологодца же; а тот, на радостях, отпустил земляка. Теперь Ивану Михайловичу как учёному паёк: фунт хлеба в месяц. Побирается на базаре, глаза гноятся. Ходил с миской клянчить на советскую кухню - и кухарки убили его черпаками. Лежит в чесучёвом форменном сюртуке с генеральскими погонами; сдерут сюртук перед тем, как в яму...
Дядя Андрей с революцией занёсся, приехал из-под Севастополя верхом. А тут у него корову матрос увёл. И сам он лукаво уводит козла у соседки, обрекает её мальцов на гибель, и отнекивается: не он. Та его проклинает - и по проклятью сбывается: коммунисты, уже за другое воровство, отбивают ему все внутренности.
И типы из простонародья:
Фёдор Лягун услужает и красным и белым; при красных отнял у профессора корову, при белых вернул. "Кого хочу, могу подвести под мушку... Я так могу на митинге сказать... все трепетают от ужаса".
Безымянный старый казак - всё донашивал свою военную шинель, за неё и расстреляли.
Коряк-драгаль, всё надеялся на будущие дворцы. Избивает до смерти соседа, подозревая, что тот зарезал его корову.
Солдат германской войны, тяжкий плен и побеги. Чуть не расстрелян белыми. Остался под красными - так и расстрелян, с другими молодыми.
Старый жестянщик Кулеш, лучшего жестянщика не знал Южный Берег. Раньше и в Ливадии работал, и у великого князя Николая Николаевича. Долго честно менял печки на пшеницу, картошку. Таскался из последних сил, шатаясь. "Жалуйся на их, на куманистов! Волку жалуйся, некому теперь больше. Чуть слово какое - подвал! В морду ливанвером". А верил им, простак... И вот - помер с голоду.
Ещё простак - обманутый новой властью рыбак Пашка. "Нет самого главного стажа - не пролил родной крови. Придёт артель рыбачья с моря - девять десятых улова забирают. Коммуна называется. Вы весь город должны кормить". Автор ему: "Поманили вас на грабёж, а вы предали своих братьев".
Оборотистый хохол Максим, без жалости к умирающим, - этот не пропадёт.
И - обречённые, с обострённым вниманием дети. И ребёнок - смертёныш.
И - Таня-подвижница: детей ради - рискует ходить через перевал, где изнасилуют или ограбят: менять вино на продукты в степи.
И отдельная история о покинутом, а потом погибшем павлине - таким же ярким, цветным пятном на всём, как и его оперение.
И - праведники: "Не поклонились соблазну, не тронули чужой нитки - бьются в петле".
Надо же увидеть это всё - глазами неподготовленного дореволюционного поколения. Для советских, в последующие вымаривания, - ничто уже не было в новинку.
Наконец - и красные.
Шура-Сокол - мелкозубый стервятник на коне, "кровью от него пахнет".
Конопатый матрос Гришка Рагулин - курокрад, словоблуд. Вошёл ночью к работнице, не далась, заколол штыком в сердце, дети нашли её утром со штыком. Бабы пели по ней панихиду - ответил бабам пулемётом. "Ушёл от суда вихлястый Гришка - комиссарить дальше".
Бывший студент Крепс, обокравший доктора.
Полупьяный красноармеец, верхом, "без родины, без причала, с помятой звездой красной - "тырцанальной"".
Ходят отбирают "излишки" - портянки, яйца, кастрюльки, полотенца. Пожгли заборы, загадили сады, доломали.
"Кому могила, а им светел день".
"Тех, что убивать хотят, не испугают и глаза ребёнка".
О массовых расстрелах после ухода Врангеля. Убивали ночью. Днём они спали, а другие, в подвалах, ждали. Целые армии в подвалах ждали. Недавно бились открыто, Родину защищали, Родину и Европу, на полях прусских и австрийских, в степях российских. Теперь, замученные, попали в подвалы. "Промести Крым железной метлой".
Спины у них широкие, как плита, шеи - бычачьей толщины; глаза тяжёлые, как свинец, в кровяно-масляной плёнке, сытые. ...Но бывают и другой стати: спины - узкие, рыбьи, шеи - хрящевой жгут, глазки востренькие с буравчиком, руки - цапкие, хлёсткой жилки, клещами давят.
И где-то там, близко к Бела Куну и Землячке, - главный чекист Михельсон, "рыжевый, тощий, глаза зелёные, злые, как у змеи".
Семеро "зелёных" спустились с гор, поверив "амнистии". Схвачены, на расстрел.
"Инквизиция, как-никак, судила. А тут - никто не знает, за что". В Ялте убили древнюю старуху за то, что на столике держала портрет покойного мужа-генерала. Или: ты зачем на море после Октября приехал? бежать надумал? Пуля.
"Только в одном Крыму за три месяца расстреляно без суда человечьего мяса восемь тысяч вагонов".
После расстрела делят офицерское, штаны-галифе.
И груди вырезбали, и на плечи звёздочки сажали, и затылки из наганов дробили, и стенки в подвалах мозгами мазали.
И различие между большевицкими волнами. Первые большевики, 1918 года: оголтелые матросские орды, грянувшие брать власть. Били пушкой по татарским деревням, покоряли покорный Крым... Жарили на кострах баранов, вырвав кишки руками. Плясали с гиком округ огней, обвешанные пулемётными лентами и гранатками, спали с девками по кустам... Они громили, убивали под бешеную руку, но не способны были душить по плану и равнодушно. На это у них не хватило бы "нервной силы" и "классовой морали". "Для этого нужны были нервы и принципы людей крови не вологодской".
Про следующую волну красных пришельцев Кулеш: "его не поймёшь, какого он происхождения... порядку нашего не принимает, церковь грабит".
Пошли доглядывать коров: "Коровы - народное достояние!" "Славные рыбаки! Вы с честью держали дисциплину пролетариата. Ударная задача! Помогите нашим героям Донбасса!"
А ещё - и об интеллигенции:
"Плясали и пели для них артистки. Подали себя женщины".
По повесткам "Явка обязательна, под страхом предания суду революционного трибунала" - все и явились (на собрание). "Не являлись, когда их на борьбу звали, но тут явились на порку аккуратно. В глазах хоть и тревожный блуд, и как бы подобострастие, но и сознание гордое - служение свободному искусству". Товарищ Дерябин в бобровой шапке: "Требую!!! Раскройте свои мозги и покажите пролетариату!" И - наганом. "Прямо в гроб положил. Тишина..."
Крым. И во всю эту безысходность вписан, ритмически вторгаясь, точно и резко переданный крымский пейзаж, больше солнечный Крым - в этот ужас смерти и голода, потом и грозный зимний Крым. У кого были такие последовательные картины Крыма? Сперва - сияющим летом:
Особенная крымская горечь, настоявшаяся в лесных щелях;
Генуэзская башня чёрной пушкой уставилась косо в небо;
Пылала синим огнём чаша моря.
Малютка-гора Костель, крепость над виноградниками, сторожит свои виноградники от стужи, греет ночами жаром... Густое брюхо [ущелье], пахнущее сафьяном и черносливом - и крымским солнцем.
Знаю, под Костелью не будет винограда: земля напиталась кровью, и вино выйдет терпким и не даст радостного забытья.
Крепостная стена - отвес, голая Куш-Кая, плакат горный, утром розовый, к ночи синий. Всё вбирает, всё видит, чертит на нём неведомая рука. Страшное вписала в себя серая стена Куш-Каи. Время придёт - прочтётся.
Западает солнце. Судакские цепи золотятся вечерним плеском. Демержи зарозовела, замеднела, плавится, потухает. А вот уже и синеть стала. Заходит солнце за Бабуган, горит щетина лесов сосновых. Похмурился Бабуган, ночной, придвинулся.
Сентябрь отходит. И звонко всё - сухо-звонко. Сбитое ветром перекати-поле звонко треплется по кустам. Днём и ночью зудят цикады... Крепкой душистой горечью потягивает от гор, горным вином осенним - полынным камнем.
И море стало куда темней. Чаще вспыхивают на нём дельфиньи всплески, ворочаются зубчатые чёрные колёса.
А вот и зима:
Зимние дожди с дремуче-чёрного Бабугана.
Всю ночь дьяволы громыхали крышей, стучали в стены, ломились в мою мазанку, свистали, выли. Чатыр-Даг ударил!.. Последняя позолота слетела с гор - почернели они зимней смертью.
Третий день рвёт ледяным ветром с Чатыр-Дага, свистит бешено в кипарисах. Тревога в ветре, кругом тревога.
На Куш-Кае и на Бабугане - снег. Зима раскатывает свои полотна. А здесь, под горами, солнечно, по сквозным садам, по пустым виноградникам, буро-зелено по холмам. Днём звенят синицы, тоскливые птицы осени.
Падает снег - и тает. Падает гуще - и тает, и вьёт, и бьёт... Седые, дымные стали горы, чуть видны на белесом небе. И в этом небе - чёрные точки: орлы летают... Тысячи лет тому - здесь та же была пустыня, и ночь, и снег, и море. И человек водился в пустыне, не знал огня. Руками душил зверьё, прятался по пещерам. Нигде огонька не видно - не было и тогда.
Первобытность - повторилась...
И в сравненье - прежнее кипучее многонациональное крымское население: тогда и - "коровы трубили благодатной сытью".
А вот и новинка:
Ялта, сменившая янтарное, виноградное своё имя на... какое! издёвкой пьяного палача - "Красноармейск" отныне!
Но "Чаю Воскресения Мёртвых! Великое Воскресенье да будет!" - увы, звучит слишком неуверенным заклинанием.
Из его слов, выражений:
Стбудно (наречие); - выщегбаливать; - на прикборме;
Гремь (ж. р.); - словокрбойщик; - пострадание;
Сверль (ж. р.); - насулили-намурили; - мальчушьё;
С умболчья; - время шбатовое; - облютбеть.
"Слова - гремучая вода жизни".
"Мещанство - слово, выдуманное безглазыми".
И вот досталось нескольким крупным русским писателям после раздирательных революционных лет да окунуться в долго-тоскливые и скудные годы эмиграции - на душевную проработку пережитого. У иных, в том числе и у Бунина, она приняла окраску эгоистическую и порой раздражённую (на этакий недостойный народ). А Шмелёву, прошедшему и заразительное поветрие "освобожденчества", потом изстрадавшемуся в большевицком послеврангелевском Крыму, - дано было пройти оживленье угнетённой, омертвелой души - катарсис. И дано было ему теперь, споздна, увидеть промытыми глазами ту невозвратимую Россию, которую сыны её столькие силились развалить, а косвенно приложился и сам он. И увидеть ту неповторимую, ещё столь самобытную яркую Москву, упорно не опетербурженную (а потом и не враз обольшевиченную). И теперь, под свои 60-65 лет, взяться воссоздать, описать, чего не приладилась, на что и не смотрела наша перекособоченная тогда литература.
Тут пошли один за другим милые рассказы: "Наполеон", "Москвой", "Мартын и Конча".
- "Пухлые колокола клубятся. Тлеют кресты на них тёмным и дымным золотом".
- "Молись, а Она (Владычица) уже всю душу видит".
И - все запахи Москвы... (переулков, соснового моста).
Так Шмелёв втягивался в
"Лето Господне" (1927 - 1944) - 17 лет писал.
И ведь ничего не придумывает: открывшимся зрением - видит, помнит, и до каких подробностей! Как сочно, как тепло написано, и Россия встаёт - живая! Правда, несколько перебрано умиления - но поскольку ведётся из уст ребёнка, то вполне соразмерно. Некоторые упрекают Шмелёва в идеализации тогдашнего быта, но ведь в детском восприятии многие тени и не бывают видны. А цельное изображение - уверенно добротно.
Вначале повествование малоподвижно, ход его - только от годового круга христианских праздников. Но потом включается сердечный сюжет: болезнь и смерть отца. В книге три части: Праздники (этот годовой круг) - Радости (тут дополняется пропущенное по первому кругу) - и Скорби.
И как верно начат годовой круг: Дух Поста ("душу готовить надо"), постный благовест, обычаи Чистого Понедельника. Как "масляницу выкуривают" (воскурение уксуса по дому). Говение. - Образы подвижников (прабабушка Устинья). - После причастия: "Теперь и помирать не страшно, будто святые стали". - Крестят корову свечой, донесенной от Двенадцати Евангелий. На Великую Пятницу кресты на дверях ставят свечкой. - Пунцовые лампадки на Пасху. Куличи на пуховых подушках. Красные яички катают по зелёной траве. Радуница: "духовно потрапезуем с усопшими", покрошим птичкам - "и они помянут за упокой". - Описание разных церковных служб и примыкающих обрядов. Процессия с Иверской Богоматерью. Крестный ход из Кремля в Донской монастырь ("само небо движется"). - "На Троицу вся земля именинница" (и копнуть её - нельзя). На Троицу венки пускают на воду. - Яблочный Спас, ярмарка. - Мочка яблок к Покрову и засолка огурцов (с массой забытых теперь подробностей, молитва над огурцами). - Заговенный стол перед Филипповками ("без молочной лапши не заговенье"), закрещивают все углы: "выдувают нечистого!". Дом в рождественский вечер без ламп, одни лампадки и печи трещат. Ёлку из холодных сеней вносят только после всенощной. Голубая рождественская скатерть и ковёр голубой. - Купанье в крещенской проруби. Святочные обычаи. После святок грешно надевать маски: "прирастут к лицу".
И все-все эти подробности, весь неторопливый поток образов - соединяются единым тёплым, задушевным, праведным тоном, так естественно давшимся потому, что это всё льётся через глаза и душу мальчика, доверчиво отдающегося в тёплую руку Господню. Тон - для русской литературы XX века уникальный: он соединяет опустошённую русскую душу этого века - с нашим тысячелетним духовным устоянием.
А своим кругом - сочно плывут картины старой Москвы. Все оттенки московской весны от первого таянья до сухости. Ледоколье - заготовка льда на всё лето. Дружная работа артели плотников. ("Помолемшись-то и робятам повеселей".) "На сапогах по солнцу" (так наблещены). - Пастуший рожок с Егорьева дня. Примета: лошадки ночью ложились - на тепло пойдёт. - Птичий рынок. Детали замоскворецкого быта, мебели, убранства. - Зимние обозы к Рождеству из Подмосковья, торговля из саней. "Товар по цене, цена по слову". Святочные обеды "для разных" (кто нуждается). - Раскатцы на дороге зимней, "саночки-щегольки". На масленицу "широкие столы" - для рабочих. "Наш народ пуще всего обхождение ценит, ласку". - Изобилие Постного рынка (уже не представимое нам), разнообразие постного стола. "Великая кулебяка" на Благовещение. Сбитень с мёдом и инбирём, лучше чая. Русские блюда, давно теперь забытые, тьма-тьмущая закусок и сладостей, все виды их.
А в последней части, "Скорби": ушиб и болезнь отца. "После тяжкой болезни всегда, будто, новый глаз, во всё творение проникает". Хорошая баня, для лечения, с мастерами парки: "Бболесь в подполье, а вам на здоровье. Вода скатится, бболесь свалится". Благословение детей перед смертью. Соборование. - "Когда кто помирает, печей не топят"; "первые три дня душа очень скорбит от разлуки с телом и скитается как бесприютная птица". На ногах у покойника - "босовики" с нехожеными подошвами. Гроб несут на холстинных полотенцах. Поминальный звон. Поминовенный обед.
Чбудная книга, очищает душу. Богатое многоцветье русской жизни и православного мировосприятия - в последние десятилетия ещё неугнетённого состояния того и другого. И - то самонастоящее (слово автора), чтбо и было Москвой, - чего уже нет, мы не видели и никогда не увидим.
Немало слов Шмелёва я включил в свой Словарь. Вот ещё несколько:
На подвбар; - примбан (м. р.); - топлая лужа;
Прижбарки (мн. ч.); - рбадование; - чвокать зубом;
На соблбаз; - не завиствуй; - увбозливый;
Поглуббеть; - залюбованье; - подгбанивают;
Настбойный; - в предшедшем году;
Не обзеленись (об траву);
Духотрясение;
Нищелюбивый;
Дрязгуны;
Онукивать лошадь;
Бырко (о течении воды).