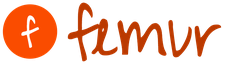Гоголь. Мертвые Души
Глава первая
"В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в которой ездят холостяки." В бричке сидел господин приятной наружности, не слишком толст, но и не слишком тонок, не красавец, но и не дурен собой, нельзя сказать, чтобы он был стар, но и слишком молодым он тоже не был. Бричка подъехала к гостинице. Это было очень длинное двухэтажное здание с нижним неоштукатуренным этажом и верхним, выкрашенным вечной желтой краской. Внизу были лавочки, в одном из окон помещался сбитенщик с самоваром из красной меди. Гостя встретили и повели показывать его "покой", обычный для гостиниц такого рода, "где за два рубля в сутки проезжающие получают... комнату с тараканами, выглядывающими отовсюду, как чернослив..." Вслед за господином появляются его слуги - кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет тридцати, с несколько крупными губами и носом.
Во время обеда гость задает трактирному слуге различные вопросы, начиная с того, кому раньше принадлежал этот трактир, и большой ли мошенник новый хозяин, заканчивая подробностями иного рода. Он подробно расспросил слугу о том, кто в городе председатель палаты, кто прокурор, не пропустил ни одного мало-мальски значительного лица, а также интересовался местными помещиками. От внимания приезжего не ускользнули и вопросы, касающиеся состояния дел в крае: не было ли болезней, эпидемий и иных бедствий. Пообедав, господин написал по просьбе трактирного слуги на листке бумаги свое имя и звание для уведомления полиции: "Коллежский советник Павел Иванович Чичиков". Сам же Павел Иванович отправился осмотреть уездный город и был удовлетворен, поскольку тот ничуть не уступал другим губернским городам. Те же заведения, что и везде, те же магазины, тот же парк с тоненькими деревьями, которые еще плохо принялись, но о котором писала местная газета, что "наш город украсился садом из ветвистых деревьев". Чичиков подробно расспросил будочника о том, как лучше пройти к собору, к присутственным местам, к губернатору. Затем он возвратился в свой номер в гостинице и, поужинав, улегся спать.
На следующий день Павел Иванович отправился наносить визиты городским чиновникам: губернатору, вице-губернатору, председателю палаты, полицмейстеру и другим власть предержащим. Он нанес визит даже инспектору врачебной управы и городскому архитектору. Долго думал, кому бы еще засвидетельствовать свое почтение, но больше значительных лиц в городе не осталось. И везде Чичиков очень умело вел себя, каждому смог очень тонко польстить, следствием чего последовало приглашение от каждого чиновника к более короткому знакомству в домашней обстановке. О себе же коллежский советник избегал много говорить и довольствовался общими фразами.
Глава вторая
Пробыв более недели в городе, Павел Иванович решил, наконец, нанести визиты Манилову и Собакевичу. Едва только Чичиков выехал за город в сопровождении Селифана и Петрушки, появилась обычная картина: кочки, плохие дороги, обгорелые стволы сосен, деревенские дома, покрытые серыми крышами, зевающие мужики, бабы с толстыми лицами, и прочее.
Манилов, приглашая Чичикова к себе, сообщил ему, что его деревня находится в пятнадцати верстах от города, но уже минула и шестнадцатая верста, а деревни никакой не было. Павел Иванович был человек сообразительный, и вспомнил, если тебя приглашают в дом за пятнадцать верст, стало быть, ехать придется все тридцать.
Но вот и деревня Маниловка. Немногих гостей могла она заманить к себе. Господский дом стоял на юру, открытый всем ветрам; возвышенность, на которой он стоял, была покрыта дерном. Две-три клумбы с акацией, пять-шесть жиденьких берез, деревянная беседка и пруд довершали эту картину. Чичиков принялся считать и насчитал более двухсот крестьянских изб. На крыльце господского дома уже давно стоял его хозяин и, приставив руку к глазам, пытался разглядеть подъезжающего в экипаже человека. По мере приближения брички лицо Манилова менялось: глаза становились все веселее, а улыбка – все шире. Он очень обрадовался появлению Чичикова и повел его к себе.
Что же за человек был Манилов? Охарактеризовать его достаточно сложно. Он был, как говорится, ни то ни се - ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. Манилов был человек приятный, но в эту приятность было положено чересчур много сахару. Когда разговор с ним только начинался, в первое мгновение собеседник думал: "Какой приятный и добрый человек!", но уже через минуту хотелось сказать: "Черт знает что такое!" Домом Манилов не занимался, хозяйством тоже, даже никогда не ездил на поля. Большей частью он думал, размышлял. О чем? – никому не ведомо. Когда приказчик приходил к нему с предложениями по ведению хозяйства, мол, сделать надо бы вот это и это, Манилов обычно отвечал: "Да, недурно". Если же к барину приходил мужик и просил отлучиться, чтобы заработать оброк, то Манилов тут же отпускал его. Ему даже в голову не приходило, что мужик отправляется пьянствовать. Иногда он придумывал разные проекты, например, мечтал построить через пруд каменный мост, на котором бы стояли лавки, в лавках сидели купцы и продавали разные товары. В доме у него стояла прекрасная мебель, но два кресла не были обтянуты шелком, и хозяин два года уже говорил гостям, что они не закончены. В одной комнате мебели вовсе не было. На столе рядом со щегольским стоял хромой и засаленный подсвечник, но этого не замечал никто. Женой своей Манилов был очень доволен, потому что она была ему «под стать». В продолжение достаточно долгой уже совместной жизни супруги оба ничем не занимались, кроме как запечатлевали друг на друге продолжительные поцелуи. Много вопросов могло возникнуть у здравомыслящего гостя: почему пусто в кладовой и так много и бестолково готовится на кухне? Почему ключница ворует, а слуги вечно пьяны и нечистоплотны? Почему дворня спит или откровенно бездельничает? Но это все вопросы низкого свойства, а хозяйка дома воспитана хорошо и никогда до них не опустится. За обедом Манилов и гость говорили друг другу комплименты, а также различные приятные вещи о городских чиновниках. Дети Манилова, Алкид и Фемистоклюс, демонстрировали свои познания в географии.
После обеда состоялся разговор непосредственно о деле. Павел Иванович сообщает Манилову, что хочет купить у того души, которые согласно последней ревизской сказке числятся как живые, а на самом деле давно уже умерли. Манилов в недоумении, но Чичикову удается его уговорить на сделку. Поскольку хозяин – человек, старающийся быть приятным, то совершение купчей крепости он берет на себя. Для регистрации купчей Чичиков и Манилов договариваются встретиться в городе, и Павел Иванович, наконец, покидает этот дом. Манилов садится в кресло и, покуривая трубку, обдумывает события сегодняшнего дня, радуется, что судьба свела его с таким приятным человеком. Но странная просьба Чичикова продать ему мертвых душ прервала его прежние мечтания. Мысли об этой просьбе никак не варились в его голове, и поэтому он долго сидел на крыльце и курил трубку до самого ужина.
Глава третья
Чичиков тем временем ехал по столбовой дороге, надеясь на то, что вскорости Селифан привезет его в имение Собакевича. Селифан же был нетрезв и, поэтому, не следил за дорогой. С неба закапали первые капли, а вскоре зарядил настоящий долгий проливной дождь. Бричка Чичикова окончательно сбилась с пути, стемнело, и уже неясно было, что делать, как послышался собачий лай. Вскоре Селифан уже стучал в ворота дома некой помещицы, которая пустила их переночевать.
Изнутри комнаты помещичьего домика были оклеены старенькими уже обоями, на стенах висели картины с какими-то птицами и огромные зеркала. За каждое такое зеркало была заткнута или старая колода карт, или чулок, или письмо. Хозяйка оказалась женщиной пожилых лет, одной из тех матушек-помещиц, которые все время плачутся на неурожаи и отсутствие денег, а сами понемногу откладывают денежки в узелочки и в мешочки.
Чичиков остается ночевать. Проснувшись, он разглядывает в окошко хозяйство помещицы и деревню, в которой оказался. Окно выходит на курятник и забор. За забором тянутся пространные грядки с овощами. Все посадки на огороде продуманы, кое-где растут несколько яблонь для защиты от птиц, от них же понатыканы чучела с растопыренными руками, на одном из этих пугал был чепец самой хозяйки. Внешний вид крестьянских домов показывал "довольство их обитателей". Тес на крышах был везде новый, нигде не было видно покосившихся ворот, а кое-где Чичиков увидел и стоявшую новую запасную телегу.
Настасья Петровна Коробочка (так звали помещицу) пригласила его позавтракать. С ней Чичиков вел себя в разговоре уже намного свободнее. Он изложил свою просьбу относительно покупки мертвых душ, но уже вскоре пожалел об этом, поскольку его просьба вызвала недоумение хозяйки. Затем Коробочка стала предлагать в придачу к мертвым душам пеньку, лен и прочее, вплоть до птичьих перьев. Наконец-то согласие было достигнуто, но старуха все время боялась, что продешевила. Для нее мертвые души оказались таким же товаром, как и все производимое в хозяйстве. Потом Чичиков был накормлен пирогами, пышками и шанежками, и с него было взято обещание, купить по осени также свиное сало и птичьи перья. Павел Иванович поторопился уехать из этого дома – очень уж трудна была Настасья Петровна в разговоре. Помещица дала ему девчонку в провожатые, и та показала, как выехать на столбовую дорогу. Отпустив девчонку, Чичиков решил заехать в трактир, стоявший на пути.
Глава четвертая
Так же, как и гостиница, это был обычный трактир для всех уездных дорог. Путешественнику был подан традиционный поросенок с хреном, и, как обычно, гость расспросил хозяйку обо всем на свете – начиная с того, как давно она содержит трактир, и заканчивая вопросами о состоянии живущих поблизости помещиков. Во время разговора с хозяйкой послышался стук колес подъехавшего экипажа. Из него вышли двое мужчин: белокурый, высокого роста, и, пониже его, чернявый. Вначале в трактире появился белокурый, вслед за ним вошел, снимая картуз, его спутник. Это был молодец среднего роста, очень недурно сложенный, с полными румяными щеками, с белыми, как снег зубами, черными, как смоль бакенбардами и весь свежий, как кровь с молоком. Чичиков узнал в нем своего нового знакомца Ноздрева.
Тип этого человека наверняка известен всем. Люди такого рода в школе слывут хорошими товарищами, но при этом бывают часто поколачиваемы. Лицо у них чистое, открытое, не успеешь познакомиться, как уже через некоторое время они говорят тебе "ты". Дружбу заведут, казалось бы, навсегда, но бывает так, что уже через некоторое время дерутся с новым приятелем на пирушке. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи и, при всем при этом, отчаянные лгуны.
К тридцати годам жизнь нисколько не переменила Ноздрева, он остался таким, каким был и в восемнадцать, и в двадцать лет. Никак на него не повлияла и женитьба, тем более что жена вскоре отправилась на тот свет, оставив мужу двух ребятишек, которые ему были совершенно не нужны. Ноздрев имел страсть к карточной игре, но, будучи нечист на руку и нечестен в игре, часто доводил своих партнеров до рукоприкладства, из двух бакенбард оставшись с одной, жидкой. Впрочем, через некоторое время он встречался с людьми, которые его тузили, как ни в чем не бывало. И приятели его, как ни странно, тоже вели себя так, как будто ничего не было. Ноздрев был человек исторический, т.е. он везде и всегда попадал в истории. С ним ни за что нельзя было сходиться на короткую ногу и тем более открывать душу – он в нее и нагадит, и такую небылицу сочинит про доверившегося ему человека, что трудно будет доказать обратное. Этого же человека он, спустя какое-то время, брал при встрече дружески за петлицу и говорил: "Ведь ты такой подлец, никогда ко мне не заедешь". Еще одной страстью Ноздрева была мена – ее предметом становилось все что угодно, от лошади до самых мелких вещей. Ноздрев приглашает Чичикова к себе в деревню, и тот соглашается. В ожидании обеда Ноздрев, в сопровождении зятя, устраивает своему гостю экскурсию по деревне, при этом хвастается направо и налево всем подряд. Его необыкновенный жеребец, за которого он заплатил якобы десять тысяч, на деле не стоит и тысячи, поле, завершающее его владения, оказывается болотом, а на турецком кинжале, который в ожидании обеда рассматривают гости, почему-то надпись "Мастер Савелий Сибиряков". Обед оставляет желать лучшего – что-то не сварилось, а что-то и пригорело. Повар, видимо, руководствовался вдохновением и клал первое, что попадалось под руку. Про вина и говорить было нечего - от рябиновки несло сивухой, а мадера оказалась разбавленной ромом.
После обеда Чичиков все же решился изложить Ноздреву просьбу относительно покупки мертвых душ. Закончилось это тем, что Чичиков и Ноздрев совершенно разругались, после чего гость отправился спать. Спал он отвратительно, пробуждение и встреча с хозяином на следующее утро были такими же неприятными. Чичиков ругал уже себя за то, что он доверился Ноздреву. Теперь Павлу Ивановичу предлагалось сыграть в шашки на мертвые души: в случае выигрыша Чичикову души достались бы бесплатно. Партия в шашки сопровождалась жульничеством Ноздрева и едва не закончилась дракой. Судьба уберегла Чичикова от такого поворота событий – к Ноздреву приехал капитан-исправник, чтобы сообщить скандалисту, что он находится под судом до окончания следствия, потому что в пьяном виде нанес оскорбление помещику Максимову. Чичиков, не дожидаясь конца разговора, выбежал на крыльцо и велел Селифану гнать лошадей во весь опор.
Глава пятая
В размышлениях обо всем происшедшем Чичиков ехал в своем экипаже по дороге. Столкновение с другой коляской несколько встряхнуло его – в ней сидела прелестная молоденькая девушка с сопровождающей ее пожилой женщиной. После того, как они разъехались, Чичиков еще долго думал о встреченной незнакомке. Наконец показалась деревня Собакевича. Мысли путешественника обратились к своему постоянному предмету.
Деревня была довольно велика, ее окружали два леса: сосновый и березовый. Посредине виднелся господский дом: деревянный, с мезонином, красной крышей и серыми, можно даже сказать дикими, стенами. Видно было, что при его постройке вкус архитектора постоянно боролся со вкусом хозяина. Зодчий хотел красоты и симметрии, а хозяин удобства. На одной стороне окна были заколочены, а вместо них проверчено одно окно, видимо, понадобившееся для чулана. Фронтон приходился не на середину дома, поскольку хозяин велел убрать одну колонну, коих получилось не четыре, а три. Во всем чувствовались хлопоты хозяина о прочности его строений. На конюшни, сараи и кухни были употреблены очень прочные бревна, крестьянские избы были срублены тоже прочно, крепко и очень аккуратно. Даже колодец был обделан очень крепким дубом. Подъезжая к крыльцу, Чичиков заметил выглянувшие в окно лица. Лакей вышел его встречать.
При взгляде на Собакевича сразу напрашивалось: медведь! совершенный медведь! И точно, облик его был похож на облик медведя. Человек большой, крепкий, он всегда ступал вкривь и вкось, из-за чего постоянно наступал кому-то на ноги. Даже фрак на нем был медвежьего цвета. В довершение всего хозяина звали Михаилом Семеновичем. Шеей он почти не ворочал, голову держал скорее вниз, чем вверх, и редко смотрел на своего собеседника, а если ему и удавалось это сделать, то взгляд приходился на угол печки или на дверь. Поскольку Собакевич сам был человек здоровый и крепкий, то он хотел, чтобы его окружали такие же крепкие предметы. У него и мебель была тяжелая и пузатая, и на стенах висели портреты крепких здоровяков. Даже дрозд в клетке был очень похож на Собакевича. Словом, казалось, что каждый предмет в доме говорил: "И я тоже похож на Собакевича".
Перед обедом Чичиков пытался завязать разговор, лестно отозвавшись о местных чиновниках. Собакевич отвечал, что "это все мошенники. Там весь город такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет". Случайно Чичиков узнает о соседе Собакевича – некоем Плюшкине, имеющем восемьсот крестьян, которые мрут, как мухи.
После сытного и обильного обеда Собакевич и Чичиков отдыхают. Чичиков решается изложить свою просьбу относительно покупки мертвых душ. Собакевич ничему не удивляется и внимательно выслушивает своего гостя, который беседу начал издалека, подводя постепенно к предмету разговора. Собакевич понимает, что мертвые души Чичикову для чего-то нужны, поэтому торг начинается с баснословной цены – ста рублей за штуку. Михайло Семенович рассказывает о достоинствах умерших крестьян так, как будто крестьяне живые. Чичиков в недоумении: какой может быть разговор о достоинствах умерших крестьян? В конце концов, сошлись на двух рублях с полтиной за одну душу. Собакевич получает задаток, они с Чичиковым договариваются о встрече в городе для совершения сделки, и Павел Иванович уезжает. Доехав до конца деревни, Чичиков подозвал мужика и спросил, как проехать к Плюшкину, который плохо кормит людей (иначе спросить было нельзя, потому как крестьянин не знал фамилию соседского барина). "А, заплатанной, заплатанной!" - вскричал крестьянин и указал дорогу.
Глава шестая
Чичиков усмехался всю дорогу, вспоминая характеристику Плюшкина, и вскоре сам не заметил, как въехал в обширное село, с множеством изб и улиц. Вернул его к действительности толчок, произведенный бревенчатой мостовой. Бревна эти были похожи на фортепьянные клавиши – то поднимались вверх, то опускались вниз. Ездок, который не оберегал себя или подобно Чичикову не обративший внимания на эту особенность мостовой, рисковал получить либо шишку на лоб, либо синяк, а что еще хуже, откусить кончик собственного языка. Путешественник заметил на всех строениях отпечаток какой-то особенной ветхости: бревна были старые, многие крыши сквозили, подобно решету, а иные вообще остались только с коньком наверху и с бревнами, похожими на ребра. Окна были либо вовсе без стекол, либо заткнуты тряпкой или зипуном; в иных избах, если и были балкончики под крышами, то они уже давно почернели. Между избами тянулись огромные клади хлеба, запущенные, цвета старого кирпича, местами заросшие кустарником и прочей дрянью. Из-за этих кладей и изб виднелись две церквушки, тоже запущенные и полуразрушенные. В одном месте избы заканчивались, и начинался какой-то огороженный ветхим забором пустырь. На нем дряхлым инвалидом выглядел господский дом. Дом этот был длинный, местами в два этажа, местами в один; облупившийся, видевший много всяких непогод. Все окна были либо закрыты ставнями наглухо, либо совсем заколочены досками, и только два из них были открыты. Но и они были подслеповаты: на одно из окон был приклеен синий треугольник от сахарной бумаги. Оживлял эту картину только дикий и великолепный в своем запустении сад. Когда Чичиков подъехал к господскому дому, то увидел, что вблизи картина еще печальнее. Деревянные ворота и ограду уже покрыла зеленая плесень. По характеру строений было видно, что когда-то здесь хозяйство велось обширно и продуманно, но сейчас все вокруг было пусто, и ничто не оживляло картину всеобщего запустения. Все движение состояло из приехавшего на телеге мужика. Павел Иванович заметил какую-то фигуру в совершенно непонятном одеянии, которая тут же начала спорить с мужиком. Чичиков долго пытался определить, какого пола эта фигура – мужик или баба. Одето это существо было в нечто, похожее на женский капот, на голове – колпак, который носили дворовые бабы. Чичикова смутил только сиплый голос, который бабе принадлежать не мог. Существо ругало приехавшего мужика последними словами; на поясе у него была связка ключей. По этим двум признакам Чичиков решил, что перед ним ключница, и решил рассмотреть ее поближе. Фигура в свою очередь очень пристально рассматривала приезжего. Видно было, что приезд гостя здесь в диковинку. Человек внимательно рассмотрел Чичикова, затем взгляд его перекинулся на Петрушку и Селифана, и даже лошадь не была оставлена без внимания.
Выяснилось, что вот это существо, то ли баба, то ли мужик, и есть местный барин. Чичиков был ошарашен. Лицо чичиковского собеседника было похоже на лица многих стариков, и только маленькие глазки бегали постоянно в надежде что-нибудь найти, а вот наряд был из ряда вон выдающийся: халат был совершенно засален, из него лезла клочьями хлопчатая бумага. На шее у помещика было повязано нечто среднее между чулком и набрюшником. Если бы Павел Иванович встретил его где-нибудь около церкви, то непременно подал бы ему милостыню. Но ведь перед Чичиковым стоял не нищий, а барин, у которого была тысяча душ, и вряд ли нашлись бы у кого-нибудь другого такие огромные запасы провизии, столько всякого добра, посуды, никогда не употреблявшейся, сколько было у Плюшкина. Всего этого хватило бы на два имения, даже таких огромных, как это. Плюшкину всего этого казалось мало – каждый день он ходил по улицам своей деревни, собирая разные мелочи, от гвоздя до перышка, и складывая их в кучу у себя в комнате.
А ведь было время, когда имение процветало! У Плюшкина была славная семья: жена, две дочери, сын. У сына был учитель француз, у дочерей - гувернантка. Дом славился хлебосольством, и друзья с удовольствием съезжались к хозяину пообедать, послушать умные речи и поучиться ведению домашнего хозяйства. Но добрая хозяйка умерла, к главе семейства перешла часть ключей, соответственно, и забот. Он стал беспокойнее, подозрительнее и скупее, как и все вдовцы. На старшую дочь Александру Степановну он не мог положиться, и не зря: она вскоре обвенчалась тайком со штабс-ротмистром и убежала с ним, зная, что отец не любит офицеров. Отец проклял ее, но преследовать не стал. Мадам, ходившая за дочерьми, была уволена, поскольку оказалась не безгрешной в похищении старшей, учитель-француз тоже был отпущен. Сын определился в полк на службу, не получив от отца ни копейки на обмундирование. Младшая дочь умерла, и одинокая жизнь Плюшкина дала сытную пищу скупости. Плюшкин становился все более и более несговорчив в отношениях с покупщиками, которые торговались-торговались с ним, да и бросили это дело. Сено и хлеб гнили в амбарах, к материи страшно было прикоснуться – она превращалась в пыль, мука в подвалах давно стала камнем. А ведь оброк оставался прежним! И все приносимое становилось "гнилью и прорехой", да и сам Плюшкин постепенно превращался в "прореху на человечестве". Приезжала как-то старшая дочь с внуками, в надежде получить что-нибудь, но он не дал ей ни копейки. Сын уже давно проигрался в карты, просил у отца денег, но и ему тот отказал. Все больше и больше Плюшкин обращался к своим баночкам, гвоздикам и перышкам, забывая, сколько добра у него в кладовых, но, помня, что в шкафу у него стоит графинчик с недопитой наливкой, и надо сделать отметку на нем, чтобы наливку никто тайком не выпил.
Чичиков какое-то время не знал, какую причину придумать для своего приезда. Потом сказал, что он наслышан об умении Плюшкина руководить имением в строгой экономии, поэтому решил к нему заехать, познакомиться поближе и засвидетельствовать свое почтение. Помещик сообщил в ответ на расспросы Павла Ивановича, что у него сто двадцать мертвых душ. В ответ на предложение Чичикова купить их, Плюшкин подумал, что гость, очевидно, глуп, но не мог скрыть своей радости и даже велел поставить самовар. Чичиков получил список на сто двадцать мертвых душ и договорился о совершении купчей крепости. Плюшкин пожаловался на наличие еще и семидесяти беглых, которые Чичиков тоже купил по тридцать две копейки за душу. Полученные деньги он спрятал в один из многочисленных ящичков. От наливки, очищенной от мух, и пряника, который когда-то привозила Александра Степановна, Чичиков отказался и поспешил в гостиницу. Там он заснул сном счастливца, не ведающего ни геморроя, ни блох.
Глава седьмая
На следующий день Чичиков проснулся в отличном расположении духа, подготовил все списки крестьян для совершения купчей крепости и отправился в палату, где его уже ожидали Манилов и Собакевич. Были оформлены все необходимые документы, а председатель палаты подписал купчую за Плюшкина, которого тот просил в письме быть своим поверенным в делах. На вопросы председателя и чиновников палаты, что же дальше новоявленный помещик собирается делать с купленными крестьянами, Чичиков ответил, что они определены на вывод в Херсонскую губернию. Покупку необходимо было отметить, и в соседней комнате гостей уже ожидал прилично накрытый стол с винами и закусками, из которых выделялся огромный осетр. Собакевич немедленно пристроился к этому произведению кулинарного искусства и не оставил от него ничего. Тосты следовали один за другим, один из них был за будущую жену новоявленного херсонского помещика. Тост этот сорвал приятную улыбку с уст Павла Ивановича. Долго еще гости отпускали комплименты человеку приятному во всех отношениях и уговаривали его хоть на две недели остаться в городе. Итогом обильного застолья было то, что Чичиков приехал в гостиницу в совершенно разморенном состоянии, будучи в мыслях уже херсонским помещиком. Все улеглись спать: и Селифан с Петрушкой, подняв храп невиданной густоты, и Чичиков, отвечавший им из комнаты тонким носовым свистом.
Глава восьмая
Покупки Чичикова сделались предметом номер один всех разговоров, происходящих в городе. Все рассуждали о том, что вывезти такое количество крестьян в одночасье на земли в Херсон достаточно трудно, и давали свои советы по предотвращению могущих возникнуть бунтов. На это Чичиков отвечал, что купленные им крестьяне спокойного нрава, и конвой для сопровождения их на новые земли не понадобится. Все эти разговоры, впрочем, пошли Павлу Ивановичу на пользу, поскольку сложилось мнение, что он миллионщик, и жители города, еще до всех этих слухов полюбившие Чичикова, после слухов о миллионах полюбили его еще больше. Особенно усердствовали дамы. Купцы с удивлением обнаружили, что некоторые ткани, привезенные ими в город и не продававшиеся по причине высокой цены, были раскуплены нарасхват. В гостиницу к Чичикову пришло анонимное письмо с признанием в любви и амурными стихами. Но самым замечательным из всей почты, приходившей в эти дни в номер Павла Ивановича, было приглашение на бал к губернатору. Долго новоявленный помещик собирался, долго занимался туалетом своим, и даже сделал балетный антраша, отчего задрожал комод, и с него упала щетка.
Появление Чичикова на балу произвело необыкновенный фурор. Чичиков переходил из объятий в объятия, поддерживал то одну беседу, то другую, постоянно раскланивался и в итоге совершенно всех очаровал. Его обступили дамы, разодетые и надушенные, и Чичиков старался угадать среди них сочинительницу письма. Так закружился он, что забыл выполнить самый главный долг вежливости – подойти к хозяйке бала и засвидетельствовать свое почтение. Чуть позже в растерянности он подошел к губернаторше, и обомлел. Она стояла не одна, а с молоденькой хорошенькой блондинкой, ехавшей в том самом экипаже, с которым столкнулся экипаж Чичикова на дороге. Губернаторша представила Павлу Ивановичу свою дочь, только что выпущенную из института. Все происходящее куда-то отдалилось и потеряло для Чичикова интерес. Он был даже настолько неучтив по отношению к дамскому обществу, что удалился от всех и отправился посмотреть, куда пошла губернаторша со своей дочерью. Губернские дамы этого не простили. Одна из них тут же задела блондинку своим платьем, а шарфом распорядилась так, что он махнул ей прямо по лицу. В это же время в адрес Чичикова раздалось весьма едкое замечание, и ему были даже приписываемы сатирические стихи, написанные кем-то в насмешку над губернским обществом. И тут судьба приготовила Павлу Ивановичу Чичикову пренеприятную неожиданность: на балу появился Ноздрев. Он шел под руку с прокурором, который не знал, как избавиться от своего спутника.
"А! Херсонский помещик! Много ли мертвых наторговал?" - кричал Ноздрев, идя навстречу Чичикову. И рассказал всем, как тот торговал у него, Ноздрева, мертвых душ. Чичиков не знал, куда ему деться. Все пришли в замешательство, а Ноздрев продолжал свою полупьяную речь, после чего полез к Чичикову с поцелуями. Этот номер у него не прошел, его так оттолкнули, что он полетел на землю, все от него отступились и не слушали более, но слова о покупке мертвых душ были произнесены громко и сопровождены таким громким смехом, что привлекли всеобщее внимание. Это происшествие настолько расстроило Павла Ивановича, что он в продолжение бала уже не чувствовал себя так уверенно, совершил ряд ошибок в карточной игре, не сумел поддержать беседу там, где в другое время чувствовал себя как рыба в воде. Не дождавшись конца ужина, Чичиков вернулся в гостиничный номер. А на другом конце города меж тем готовилось событие, которое грозило усугубить неприятности героя. В город на своей колымаге приехала коллежская секретарша Коробочка.
Глава девятая
Утром следующего дня две дамы – просто приятная и приятная во всех отношениях – обсуждали последние новости. Дама, которая была просто приятной, рассказала новость: Чичиков, вооруженный с головы до ног, явился к помещице Коробочке и велел продать ему души, которые уже умерли. Хозяйка, дама приятная во всех отношениях, сказала, что ее муж слышал об этом от Ноздрева. Стало быть, в этой новости что-то есть. И обе дамы стали строить предположения, что бы могла значить эта покупка мертвых душ. В итоге пришли к выводу, что Чичиков хочет похитить губернаторскую дочку, и соучастником этого является не кто иной, как Ноздрев. В то время как обе дамы решали такое удачное объяснение событий, в гостиную вошел прокурор, которому тут же все было рассказано. Оставив прокурора совершенно сбитым с толку, обе дамы отправились бунтовать город, каждая в свою сторону. В течение короткого времени город был взбудоражен. В другое время при других обстоятельствах на эту историю, быть может, никто и не обратил бы внимания, но город уже давно не получал подпитки для сплетен. А тут такое!.. Образовалось две партии – женская и мужская. Женская партия занялась исключительно похищением губернаторской дочки, а мужская – мертвыми душами. Дело дошло до того, что все сплетни были доставлены в собственные уши губернаторши. Она, как первая в городе дама и как мать, учинила блондинке допрос с пристрастием, а та рыдала и не могла понять, в чем ее обвиняют. Швейцару было строго-настрого приказано Чичикова на порог не пускать. А тут как на грех всплыло несколько темных историй, в которые Чичиков вполне вписывался. Что же такое Павел Иванович Чичиков? Никто не мог ответить на этот вопрос наверняка: ни городские чиновники, ни помещики, у которых он торговал души, ни слуги Селифан и Петрушка. Для того чтобы потолковать об этом предмете, все решили собраться у полицмейстера.
Глава десятая
Собравшись у полицмейстера, чиновники долго обсуждали, кто же такой Чичиков, но так и не пришли к единому мнению. Один говорил, что делатель фальшивых ассигнаций, а потом сам же и прибавлял "а может, и не делатель". Второй предполагал, что Чичиков, скорее всего, чиновник генерал-губернаторской канцелярии, и тут же добавлял " а впрочем, черт его знает, на лбу ведь не прочтешь". Предположение о том, что он переодетый разбойник, отмели все. И вдруг почтмейстера осенило: "Это, господа! не кто иной, как капитан Копейкин!" И, поскольку никто не знал, кто же такой капитан Копейкин, почтмейстер начал рассказывать "Повесть о капитане Копейкине".
"После кампании двенадцатого года, – стал рассказывать почтмейстер, – был прислан с ранеными некто капитан Копейкин. То ли под Красным, то ли под Лейпцигом ему оторвало руку и ногу, и он превратился в безнадежного инвалида. А тогда еще не было распоряжений насчет раненых, и инвалидный капитал был заведен намного позже. Стало быть, Копейкину надо было каким-то образом работать, чтобы прокормиться, да еще, к сожалению, оставшаяся у него рука была левая. Решил Копейкин в Петербург податься, монаршей милости испросить. Кровь, мол, проливал, инвалидом остался... И вот он в Петербурге. Копейкин попытался снять квартиру, но это оказалось необыкновенно дорого. В конце концов, остановился в трактире за рубль в сутки. Видит Копейкин, что заживаться нечего. Расспросил, где находится комиссия, в которую ему следует обращаться, и отправился на прием. Долго ждал, часа четыре. В это время народу в приемную набилось, как бобов на тарелке. И все больше генералитет, чиновники четвертого или пятого класса.
Наконец, вошел вельможа. Дошла очередь и до капитана Копейкина. Вельможа интересуется: "Зачем вы здесь? Какое ваше дело?" Копейкин собрался с духом и отвечает: "Так, мол, и так, ваше превосходительство, проливал кровь, руки и ноги лишился, работать не могу, осмелюсь просить монаршей милости". Министр, видя такое положение, отвечает: "Хорошо, понаведайтесь на днях". Копейкин вышел с аудиенции в полном восторге, он решил, что через несколько дней все решится, и ему будет назначен пенсион.
Через три-четыре дня он снова является к министру. Тот снова его признал, но теперь заявил, что участь Копейкина не решена, поскольку надо ждать приезда государя в столицу. А у капитана деньги уже кончились давно. Он решил взять канцелярию министра штурмом. Министра это чрезвычайно рассердило. Он вызвал фельдъегеря, и Копейкин был выдворен из столицы за казенный счет. Куда именно привезли капитана, история об этом умалчивает, но только месяца через два в рязанских лесах появилась шайка разбойников, и атаманом у них был не кто иной, как..." Полицмейстер в ответ на этот рассказ возразил, что у Копейкина не было ни ноги, ни руки, а у Чичикова все на месте. Прочие тоже отвергли эту версию, но пришли к выводу, что Чичиков очень похож на Наполеона.
Посплетничав еще, чиновники решили пригласить Ноздрева. Они почему-то подумали, что, раз Ноздрев первым огласил эту историю с мертвыми душами, то может что-то знать наверняка. Ноздрев, прибыв, сразу записал господина Чичикова в шпионы, делатели фальшивых бумаг и похитители губернаторской дочки одновременно.
Все эти толки и слухи так подействовали на прокурора, что он, придя домой, умер. Чичиков ничего этого не знал, сидя в номере с простудой и флюсом, и очень удивлялся, почему к нему никто не едет, ведь еще несколько дней назад под окном его номера постоянно были чьи-нибудь дрожки. Почувствовав себя лучше, он решил нанести визиты чиновникам. Тут выяснилось, что у губернатора его велели не принимать, и остальные чиновники избегают встреч и бесед с ним. Объяснение происходящему Чичиков получил вечером в гостинице, когда к нему с визитом заявился Ноздрев. Тут Чичиков и узнал, что он делатель фальшивых ассигнаций и несостоявшийся похититель губернаторской дочки. А также он – причина смерти прокурора и приезда нового генерал-губернатора. Будучи очень сильно испуганным, Чичиков поскорее выпроводил Ноздрева, велел Селифану и Петрушке собирать вещи и готовиться завтра чуть свет к отъезду.
Глава одиннадцатая
Уехать быстро не удалось. Селифан пришел и сообщил, что надо подковать лошадей. Наконец все было готово, бричка выехала из города. По дороге им встретилась похоронная процессия, и Чичиков решил, что это к счастью.
А теперь несколько слов о самом Павле Ивановиче. В детстве жизнь на него взглянула кисло и неприютно. Родители Чичикова были дворяне. Мать Павла Ивановича рано умерла, отец все время болел. Он заставлял маленького Павлушу учиться и часто наказывал. Когда мальчик подрос, отец отвез его в город, поразивший мальчика своим великолепием. Павлуша был сдан на руки родственнице для того, чтобы у нее остаться и ходить в классы городского училища. Отец на второй день уехал, оставив сыну вместо денег наставление: "Учись, Павлуша, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. С товарищами не водись, а если уж будешь водиться, то с теми, которые побогаче. Никогда никого не угощай, а делай так, чтобы угощали тебя. А пуще всего береги копейку". И добавил к своим наставлениям полтину медью.
Павлуша хорошо запомнил эти советы. Из отцовских денег он не только не взял ни гроша, а, напротив, через год уже сделал к этой полтине приращения. Мальчик не обнаружил способностей и склонностей в учебе, отличался более всего прилежанием и опрятностью и обнаружил в себе практический ум. Он не только никогда не угощал товарищей, но делал так, что их угощение он им же продавал. Однажды Павлуша слепил из воска снегиря и продал его потом очень выгодно. Затем он два месяца дрессировал мышь, которую потом тоже выгодно продал. Учитель Павлуши ценил своих учеников не за знания, а за примерное поведение. Чичиков был образцом такового. В результате он закончил училище, получив аттестат и в награду за примерное прилежание и благонадежное поведение книгу с золотыми буквами.
Когда училище было окончено, умер отец Чичикова. В наследство Павлуше остались четыре сюртука, две фуфайки и незначительная сумма денег. Ветхий домишко Чичиков продал за тысячу рублей, единственную семью крепостных перевел в город. В это время учителя, любителя тишины и благонравного поведения, выгнали из гимназии, он начал пить. Все бывшие ученики помогали ему, чем могли. Один Чичиков отговорился неимением денег, дав пятак серебра, тут же выброшенный товарищами. Учитель долго плакал, узнав об этом.
После училища Чичиков с жаром занялся службой, поскольку хотел жить богато, иметь красивый дом, экипажи. Но и в захолустье нужна протекция, поэтому местечко ему досталось захудалое, с жалованием тридцать или сорок рублей в год. Но Чичиков работал денно и нощно, при этом на фоне неряшливых чиновников палаты всегда выглядел безукоризненно. Начальником его был престарелый повытчик, человек неприступный, с полным отсутствием всяких эмоций на лице. Пытаясь подобраться с разных сторон, Чичиков, наконец, обнаружил слабое место своего начальника – у него была зрелая дочь с некрасивым, рябым лицом. Сначала он вставал супротив нее в церкви, потом был зван на чай, а вскоре уже считался в доме начальника женихом. В палате образовалось вскоре вакантное место повытчика, на которое и определился Чичиков. Как только это свершилось, сундук со своими вещами Чичиков тайно отослал из дома предполагаемого тестя, сбежал сам и перестал звать повытчика папенькой. При этом он не переставал ласково улыбаться бывшему начальнику при встрече и приглашать в гости, а тот каждый раз только крутил головой и говорил, что его мастерски надули.
Это был самый трудный для Павла Ивановича порог, который он успешно преодолел. На следующем хлебном местечке он успешно развернул борьбу с взятками, при этом на деле оказался сам крупным взяточником. Следующим делом Чичикова было участие в комиссии по постройке какого-то казенного весьма капитального строения, в которой Павел Иванович был одним из деятельнейших членов. Шесть лет строительство здания не двигалось дальше фундамента: то грунт мешал, то климат. В это время в других концах города у каждого члена комиссии появилось по красивому зданию гражданской архитектуры – наверное, там грунт был получше. Чичиков стал позволять себе излишества в виде материи на сюртуке, которой ни у кого не было, тонких голландских рубашек, да пары отличных рысаков, не говоря уже о прочих мелочах. Вскоре судьба переменилась к Павлу Ивановичу. На место прежнего начальника был прислан новый, человек военный, страшный гонитель всяческой неправды и злоупотреблений. Карьера Чичикова в этом городе закончилась, а дома гражданской архитектуры были переданы в казну. Павел Иванович переехал в другой город для того, чтобы начать все сначала. В короткое время он вынужден был переменить две-три низменные должности в неприемлемом для него окружении. Начавший уже некогда округляться, Чичиков даже похудел, но преодолел все неприятности и определился на таможню. Его давняя мечта сбылась, и он принялся за свою новую службу с необыкновенным рвением. По выражению начальства, это был черт, а не человек: он отыскивал контрабанду в тех местах, куда никому бы не пришло в голову забраться, и куда дозволяется забираться одним таможенным чиновникам. Это была гроза и отчаяние для всех. Честность и неподкупность его были почти неестественны. Такое служебное рвение не могло остаться незамеченным для начальства, и вскоре Чичикова повысили в должности, а затем он представил начальству проект, как изловить всех контрабандистов. Проект этот был принят, и Павел Иванович получил в этой области неограниченную власть. В то время "образовалось сильное общество контрабандистов", которое хотело подкупить Чичикова, но он ответил подосланным: "Еще не время".
Как только Чичиков получил в свои руки неограниченную власть, то сразу дал этому обществу знать: "Пора". И вот в пору службы Чичикова на таможне случилась история об остроумном путешествии испанских баранов через границу, когда под двойными тулупчиками те пронесли на миллионы брабантских кружев. Говорят, состояние Чичикова, после трех-четырех таких походов, составило около пятисот тысяч, а его подельников – около четырехсот тысяч рублей. Однако Чичиков в пьяном разговоре поссорился с другим чиновником, который тоже участвовал в этих махинациях. В результате ссоры все тайные сношения с контрабандистами стали явными. Чиновников взяли под суд, имущество конфисковали. В результате у Чичикова из пятисот тысяч осталось тысчонок десяток, которые частично пришлось потратить для того, чтобы отвертеться от уголовного суда. Вновь он начал жизнь с карьерных низов. Будучи поверенным в делах, заслужив предварительно полное расположение хозяев, занимался он как-то закладом нескольких сот крестьян в опекунский совет. И тут ему подсказали, что, несмотря на то, что половина крестьян вымерла, по ревизской сказке-то они числятся живыми!.. Стало быть, беспокоиться ему не о чем, и деньги будут, независимо от того, живы эти крестьяне или отдали богу душу. И тут Чичикова осенило. Вот где поле для деятельности! Да накупи он мертвых крестьян, которые по ревизской сказке все еще числятся живыми, приобрети он их хотя бы тысячу, да опекунский совет даст за каждого рублей по двести - вот вам и двести тысяч капиталу!.. Правда, без земли их купить нельзя, поэтому следует объявить, что крестьяне покупаются на вывод, например, в Херсонскую губернию.
И вот приступил он к исполнению задуманного. Заглянул в те места государства, которые более всего пострадали от несчастных случаев, неурожаев и смертностей, словом те, в которых можно было накупить потребного Чичикову люда.
"Итак, вот весь налицо герой наш... Кто же он относительно качеств нравственных? Подлец? Почему же подлец? Теперь у нас подлецов не бывает, есть люди благонамеренные, приятные... Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель... А кто из вас не гласно, а в тишине, один, углубит внутрь собственной души сей тяжелый запрос: "А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?" Да как бы не так!".
Тем временем бричка Чичикова несется дальше. "Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал?.. Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонная тройка несешься?.. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства".
Сообщения из России приводили Гоголя в еще большее смятение. Крестьянские волнения, обострение политической борьбы усиливают растерянность писателя. Опасения за будущее России внушают Гоголю мысль о необходимости уберечь Россию от противоречий Западной Европы. В поисках выхода он увлекается реакционно-патриархальной утопией о возможности всенародного единения и благоденствия. Смог ли он преодолеть кризис, и в какой мере этот кризис коснулся Гоголя-художника? Увидели бы свет произведения лучше, чем «Ревизор» или «Мертвые души»?
О содержании второго тома можно судить лишь по дошедшим черновикам и рассказам мемуаристов. Известен отзыв Н. Г. Чернышевского: «В уцелевших отрывках есть очень много таких страниц, которые должны быть причислены к лучшему, что когда-либо давал нам Гоголь, которые приводят в восторг своим художественным достоинством и, что еще важнее, правдивостью и силой...»
Спор мог бы быть решен окончательно только последней рукописью, но она утеряна для нас, по - видимому, навеки.
4. Путешествие к смыслу
Каждая последующая эпоха по-новому открывает классические творения и такие грани в них, которые в той или иной мере созвучны ее собственным проблемам. Современники писали о «Мертвых душах», что они «разбудили Русь» и «пробудили в нас сознание о нас самих». И ныне еще не перевелись в мире Маниловы и Плюшкины, Ноздревы и Чичиковы. Они, конечно, стали другими, чем были в те времена, но сущности своей не утратили. Каждое новое поколение открывало в гоголевских образах новые обобщения, толкавшие на раздумья о самых существенных явлениях жизни.
Такова судьба великих произведений искусства, они переживают своих творцов и свою эпоху, преодолевают национальные границы и становятся вечными спутниками человечества.
«Мертвые души» - одно из самых читаемых и почитаемых произведений русской классики. Сколько бы времени не отделяло нас от этого произведения, мы никогда не перестанем изумляться его глубине, совершенству и, наверное, не будем считать наше представление о нем исчерпанным. Читая «Мертвые души», впитываешь в себя благородные нравственные идеи, которые несет в себе каждое гениальное творение искусства, и незаметно для себя сам становишься и чище и прекраснее.
Во времена Гоголя в литературной критике и искусствознании часто употреблялось слово «изобретение». Сейчас это слово мы относим к продуктам технической, инженерной мысли, но прежде оно подразумевало и художественные, литературные произведения. И означало это слово единство смысла, формы и содержания. Ведь чтобы высказать что-то новое, нужно изобрести – создать еще никогда не существовавшее художественное целое. Вспомним слова А.С. Пушкина: «Есть высшая смелость – смелость изобретения». Познание тайн «изобретения» – это такое путешествие, которое не сопряжено с обычными трудностями: для него не нужно ни с кем встречаться, не нужно вообще трогаться с места. Можно отправиться вслед за литературным героем, и проделать в воображении тот путь, которым он прошел. Нужно лишь время, да книга, да желание подумать над ней. Но это и самое трудное путешествие: никогда нельзя сказать, что цель достигнута, потому что за каждым понятым и осмысленным художественным образом, разгаданной тайной, встает новая – еще более трудная и увлекательная. Оттого и художественное произведение неисчерпаемо и путешествие к его смыслу бесконечно.
Список литературы
гоголь мертвый душа чичиков
1. Манн Ю. «Смелость изобретения» – 2-е изд., дополн.- М.: Дет. лит., 1989. 142 с.
2. Машинский С. «Мертвые души» Гоголя» – 2-е изд., дополн.- М.:Худож. Лит., 1980. 117 с.
3. Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы.- Полн. Собр. соч., т.3. М.,1947, с. 5-22.
4. www.litra.ru.composition
5. www.moskva.com
6. Белинский В.Г. «Похождения Чичикова, или Мертвые души» – Полн. собр. соч., т. VI. М., 1955, с. 209-222.
7. Белинский В.Г. «Несколько слов о поэме Гоголя…» – Там же, с. 253-260.
8. Сб. «Гоголь в воспоминаниях современников», С. Машинский. М., 1952.
9. Сб. «Н.В. Гоголь в русской критике», А. Котова и М. Полякова, М., 1953.
том второй
сохранившиеся главы позднейшей редакции
Мёртвые души
Глава третья
Если полковник Кошкарев, точно, сумасшедший. то это недурно,-говорил Чичиков, очутившись опять посреди открытых полей и пространств, когда все исчезло и только остался один небесный свод да два облака в стороне.
Ты, Селифан, расспросил ли хорошенько, как дорога к полковнику Кошкареву?
Я, Павел Иванович, изволите видеть, так как все хлопотал около коляски, так мне некогда было; а Петрушка расспрашивал у кучера.
Вот и дурак! На Петрушку, сказано, не полагаться: Петрушка бревно. Петрушка глуп; Петрушка, чай, и теперь пьян.
Ведь тут не мудрость какая! -сказал Петрушка, полуоборотясь и глядя искоса.-Окроме того, что, спу-стясь с горы, взять лугом, ничего больше и нет.
А ты, окроме сивухи, ничего и в рот не брал? Хорош, очень хорош! Уж вот, можно сказать, удивил красотой Европу!-Сказав это, Чичиков погладил свой подбородок и подумал: "Какая, однако ж, разница между просвещенным гражданином и грубой лакейской фи-зиогномией!"
Коляска стала между тем спускаться. Открылись опять луга и пространства, усеянные осиновыми ро-щами.
Тихо вздрагивая на упругих пружинах, продолжал бережно спускаться незаметным косогором покойный экипаж и наконец понесся лугами мимо мельниц, с легким громом по мостам, с небольшой покачкой по тряскому мякишу низменной земли. И хоть бы один бугорок или кочка дали себя почувствовать бокам! Утешенье, а <не> коляска. Вдали мелькали пески. Быстро пролетали мимо их кусты лоз, тонких ольх и серебристых тополей, ударяя ветвями сидевших на козлах Селифана и Петрушку. С последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый служитель соскакивал с козел, бранил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою все не хотел, надеясь, что в последний раз и дальше не случится. К деревьям же скоро присоединилась береза, там ель. У. корней гущина; трава-синяя ирь* и желтый лесной тюльпан. [Непробудный мрак бесконечного леса сгущался и, казалось,] готовился превратиться в ночь. Но вдруг отовсюду сверкнули проблески света, как бы сияющие зеркала. Деревья заредели, блески становились больше, и вот перед ними озеро - водная равнина, версты четыре в поперечнике. На супротивном берегу, над озером, высыпалась серыми бревенчатыми избами деревня. Крики раздавались в воде. Человек двадцать, по пояс, по плеча и по горло в воде, тянули к супротивному берегу невод. Случилась оказия: вместе с рыбою запутался как-то круглый человек, такой же меры в вышину, как и в толщину, точный арбуз или бочонок. Он был в отчаянном положении и кричал во всю глотку:
"Телепень Денис, передавай Козьме! Козьма, бери конец у Дениса! Не напирай так, Фома Большой! Ступай туды, где Фома Меньшой. Черти! говорю вам, оборвете сети!" Арбуз, как видно, боялся не за себя: потонуть, по причине толщины, он не мог, и, как бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все выносила наверх; и если бы село к нему на спину еще двое, он бы, как упрямый пузырь, остался с ними на верхушке воды, слегка только под ними покряхтывая да пуская носом волдыри. Но он боялся крепко, чтобы не оборвался невод и не ушла рыба, и потому, сверх прочего, тащили его еще накинутыми веревками несколько человек, стоявших на берегу.
* ...ирь (аир) - болотное растение с длинными листьями.
Должен быть барин, полковник Кошкарев,- сказал Селифан.
Оттого, что тело у него, изволите видеть, побелей, чем у других, и дородство почтительное, как у барина.
Барина, запутанного в сети, притянули между тем уже значительно к берегу. Почувствовав, что может достать ногами, он стал на ноги, и в это время увидел спускавшуюся с плотины коляску и в ней сидящего Чичикова.
Обедали?-закричал барин, подходя с пойманною рыбою на берег, весь опутанный в сеть, как в летнее время дамская ручка в сквозную перчатку, держа одну руку над глазами козырьком в защиту от солнца, другую же пониже, на манер Венеры Медицейской, выходящей из бани.
Нет,- сказал Чичиков, приподымая картуз и продолжая раскланиваться с коляски.
Ну, так благодарите же бога!
А что? - спросил Чичиков любопытно, держа над головою картуз.
А вот что. [Брось, Фома Меньшой, сеть, да приподыми] осетра из лоханки! Телепень Козьма, ступай помоги!
Двое рыбаков приподняли из лоханки голову какого-то чудовища.
Бона какой князь! Из реки зашел!-кричал круглый барин.- Поезжайте во двор! Кучер, возьми дорогу пониже, через огород! Побеги, телепень Фома Большой, снять перегородку! Он вас проводит, а я сейчас.
Длинноногий босой Фома Большой, как был, в одной рубашке, побежал впереди коляски через всю деревню, где у всякой избы развешены были бредни, сети и морды: все мужики были рыбаки; потом вынул из какого-то огорода перегородку, и огородами выехала коляска на площадь, близ деревянной церкви. За церковью, подальше, видны были крыши господских строений.
"Чудаковат этот Кошкарев",- думал Чичиков про себя.
А вот я и здесь! - раздался голос сбоку. Чичиков оглянулся. Барин уже ехал возле него, одетый: травяно-зеленый нанковый сертук, желтые штаны и шея без галстука, на манер купидона! Боком сидел он на дрожках, занявши собою все дрожки. Он хотел было что-то сказать ему, но толстяк уже исчез. Дрожки показались снова на том <месте>, где вытаскивали рыбу. Раздались снова голоса: "Фома Большой да Фома Меньшой, Козьма да Денис!" Когда же подъехал он к крыльцу дома, к величайшему изумлению его толстый барин был уже на крыльце и принял его в свои объятья. Как он успел так слетать - было непостижимо. Они поцеловались, по старому русскому обычаю, троекратно навкрест: барин был старого покроя.
Я привез вам поклон от его превосходительства,- сказал Чичиков.
От какого превосходительства?
От родственника вашего, от генерала Александра Дмитриевича.
Кто это Александр Дмитриевич?
Генерал Бетрищев,- отвечал Чичиков с некоторым изумленьем.
Незнаком,-сказал с изумлением х<озяин>. Чичиков пришел еще в большее изумление.
Как же это?.. Я надеюсь по крайней мере, что имею удовольствие говорить с полковником Ка-шкаревым?
Нет, не надейтесь. Вы приехали не к нему, а ко мне. Петр Петрович Петух! Петух Петр Петрович! - подхватил хозяин.
Чичиков остолбенел.
Как же? - оборотился он к Селифану и Петрушке, которые тоже оба разинули рот и выпучили глаза, один сидя на козлах, другой стоя у дверец коляски.- Как же вы, дураки? Ведь вам сказано: к полковнику Кошкареву... А ведь это Петр Петрович Петух...
Ребята сделали отлично! Ступай на кухню: там вам дадут по чапорухе водки,-сказал Петр Петрович Петух.-Откладывайте коней и ступайте сей же час в людскую!
Я совещусь: такая нежданная ошибка...- говорил Чичиков.
Не ошибка. Вы прежде попробуйте, каков обед, да потом скажете: ошибка ли это? Покорнейше прошу,-сказал < Петух >, взявши Чичикова под руку и вводя его во внутренние покои. Из покоев вышли им навстречу двое юношей в летних сертуках - тонкие, точно ивовые хлысты; целым аршином выгнало их вверх [выше] отцовского роста.
Сыны мои, гимназисты, приехали на праздники... Николаша, ты побудь с гостем; а ты, Алексаша, ступай за мною.- Сказав это, хозяин исчезнул.
Чичиков занялся с Николашеи. Николаша, кажется, был будущий человек-дрянцо. Он рассказал с первых же разов Чичикову, что в губернской гимназии нет никакой выгоды учиться, что они с братом хотят ехать в Петербург, потому <что> провинция не стоит того, чтобы в ней жить...
"Понимаю,-подумал Чичиков,-кончится дело кондитерскими да булеварами..."
А что,- спросил он вслух,- в каком состоянии именье вашего батюшки?
Заложено,-сказал на это сам батюшка, снова очутившийся в гостиной,- заложено.
"Плохо,-подумал Чичиков.-Этак скоро не останется ни одного именья: нужно торопиться".
Напрасно, однако же,- сказал он с видом со-болезнованья,- поспешили заложить.
Нет, ничего,- сказал Петух.- Говорят, выгодно. Все закладывают: как же отставать от других? Притом же все жил здесь: дай-ка еще попробую прожить в Москве. Вот сыновья тоже уговаривают, хотят просве-щенья столичного.
"Дурак, дурак! - думал Чичиков,- промотает все, да и детей сделает мотишками. Именьице порядочное. Поглядишь - и мужикам хорошо, и им недурно. А как просветятся там у ресторанов да по театрам - все пойдет к черту. Жил бы себе, кулебяка, в деревне".
А ведь я знаю, что вы думаете,- сказал Петух.
Что? -спросил Чичиков, смутившись.
Вы думаете: "Дурак, дурак этот Петух: зазвал обедать, а обеда до сих пор нет". Будет готов, почтеннейший. Не успеет стриженая девка косы заплесть, как он поспеет.
Батюшка! Платон Михалыч едет! - сказал Але-ксаша. глядя в окно.
Верхом на гнедой лошади! - подхватил Никола-ша, нагибаясь к окну.
Где, где? - прокричал Петух, подступив <к окну>.
Кто это Платон <Михайлович> ? - спросил Чичиков у Алексаши.
Сосед наш, Платон Михайлович Платонов, прекрасный человек, отличный человек,-сказал сам <Пе-тух>.
Между тем вошел в комнату сам Платонов, красавец, стройного роста, светло-русый: [блестящие кудри и темные глаза]. Гремя медным ошейником, мордатый пес, собака-страшилище, именем Ярб, вошел вослед за ним.
Обедали?-спросил хозяин.
Что ж вы, смеяться, что ли, надо мной приехали? Что мне в вас после обеда?
Гость, усмехнувшись, сказал:
Утешу вас тем, что ничего не ел: вовсе нет аппетита.
А каков был улов, если б вы видели! Какой осетрище пожаловал! Какие карасищи, коропищи какие!
Даже досадно вас слушать. Отчего вы всегда так веселы?
Да отчего же скучать? помилуйте!-сказал хозяин.
Как отчего скучать? - оттого, что скучно.
Мало едите, вот и все. Попробуйте-ка хорошенько пообедать. Ведь это в последнее время выдумали скуку; прежде никто не скучал.
Да полно хвастать! Будто уж вы никогда не скучали?
Никогда! Да и не знаю, даже и времени нет для скучанья. Поутру проснешься - ведь тут сейчас повар, нужно заказывать обед. Тут чай, тут приказчик, там на рыбную ловлю, а тут и обед. После обеда не успеешь всхрапнуть - опять повар, нужно заказывать ужин. Когда же скучать?
Во все время разговора Чичиков рассматривал гостя, который его изумлял необыкновенной красотой своей, стройным, картинным ростом, свежестью неистраченной юности, девственной чистотой ни одним прыщиком не опозоренного лица. Ни страсти, ни печали, ни даже что-либо похожее на волнение и беспокойство не дерзнули коснуться его девственного лица и положить на нем морщину, но с тем вместе и не оживили его. Оно оставалось как-то сонно, несмотря на ироническую усмешку, временами его оживлявшую.
Я также, если позволите заметить,- сказал он,- не могу понять, как при такой наружности, какова ваша, скучать. Конечно, если недостача денег или враги, как есть иногда такие, которые готовы покуситься даже на самую жизнь...
Поверьте,- прервал красавец гость,- что для разнообразия я бы желал иногда иметь какую-нибудь тревогу: ну, хоть бы кто рассердил меня,- и того нет. Скучно, да и только.
Стало быть, недостаточность земли по имению, малое количество душ?
Ничуть. У нас с братом земли на десять тысяч десятин и при них больше тысячи человек крестьян.
Странно, не понимаю. Но, может быть, неурожаи, болезни? много вымерло мужеска пола людей?
Напротив, всё в наилучшем порядке, и брат мой отличнейший хозяин.
И при этом скучать! не понимаю,-сказал Чичиков и пожал плечами.
А вот мы скуку сейчас прогоним,-сказал хозяин,-Бежи, Алексаша, проворней на кухню и скажи повару, чтобы поскорей прислал нам расстегайчиков. Да где ж ротозей Емельян и вор Антошка? Зачем не дают закуски?
Но дверь растворилась. Ротозей Емельян и вор Антошка явились с салфетками, накрыли стол, поставили поднос с шестью графинами разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок со всякой подстрекающей снедью. Слуги поворачивались расторопно, беспрестанно принося что-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло. Ротозей Емельян и вор Антошка расправлялись отлично. Названья эти были им даны так только-для поощренья. Барин был вовсе не охотник браниться, он был добряк. Но русский человек уж любит пряное слово. [Оно ему] нужно, как рюмка водки для сваренья в желудке. Что ж делать? такая натура: ничего пресного не любит.
Закуске последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал ему тут же другой, приговаривая: "Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете". У кого два - подваливал ему третий, приговаривая: "Что ж за число два? Бог любит троицу". Съедал гость три-он ему: "Где ж бывает телега о трех колесах? Кто ж строит избу о трех углах?" На четыре у него была тоже поговорка, на пять-опять. Чичиков съел чего-то чуть ли не двенадцать ломтей и думал:
"Ну, теперь ничего не приберет больше хозяин". Не тут-то было: не говоря ни слова, положил ему на тарелку хребтовую часть теленка, жаренного на вертеле, с почками, да и какого теленка!
Два года воспитывал на молоке,-сказал хозяин,-ухаживал, как за сыном!
Не могу,- сказал Чичиков.
Вы попробуйте да потом скажите; не могу!
Не взойдет, нет места.
Да ведь и в церкви не было места, взошел городничий-нашлось. А была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте: втот кусок тот же городничий.
Попробовал Чичиков-действительно, кусок был вроде городничего. Нашлось ему место, а казалось, ничего нельзя было поместить.
"Ну, как этакому человеку ехать в Петербург или в Москву? С этаким хлебосольством он там в три года проживется в пух!" То есть он не знал того, что теперь это усовершенствовано: и без хлебосольства спустить не в три года, а в три месяца все.
Он то и дело подливал да подливал; чего ж не допивали гости, давал допить Алексаше и Николаше, которые так и хлопали рюмку за рюмкой; вперед видно <было, на> какую часть человеческих познаний обратят -<они> внимание по приезде в столицу, С гостьми было не то: в силу, в силу перетащились они на балкон и в силу поместились в креслах. Хозяин, как сел в свое, какое-то четырехместное, так тут же и заснул. Тучная собственность его, превратившись в кузнецкий мех, стала издавать через открытый рот и носовые продухи такие звуки, какие редко приходят в голову и нового сочинителя: и барабан и флейта, и какой-то отрывистый гул, точный собачий лай.
Эк его насвистывает! - сказал Платонов. Чичиков рассмеялся.
Разумеется, если этак пообедаешь, как тут прийти скуке! Тут сон придет. Не правда ли?
Да. Но я, однако же,- вы меня извините,- не могу понять, как можно скучать. Против скуки есть так много средств.
Какие же?
Да мало ли для молодого человека? Танцевать, играть на каком-нибудь инструменте... а не то-жениться.
Да будто в окружности нет хороших и богатых невест?
Ну, поискать в других местах, поездить.- И богатая мысль сверкнула вдруг в голове Чичикова.-Да вот прекрасное средство! - сказал он, глядя в глаза Платонову.
Путешествие.
Куда ж ехать?
Да если вам свободно, так поедем со мной,-сказал Чичиков и подумал про себя, глядя на Платонова:
"А это было бы хорошо. Тогда бы можно издержки пополам, а подчинку коляски отнести вовсе на его счет".
А вы куда едете?
Покамест еду я не столько по своей нужде, сколько по надобности другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников... Конечно, родственники родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя:
ибо видеть свет, коловращенье людей -кто что ни говори, есть как бы живая книга, вторая наука.-И, сказавши это, помышлял Чичиков между тем так: "Право, было бы хорошо. Можно даже и все издержки на его счет, даже и отправиться на его лошадях, а мои бы покормились у него в деревне".
"Почему ж не проездиться? - думал между тем Платонов.-Дома же мне делать нечего, хозяйство и без того на руках у брата; стало быть, расстройства никакого. Почему ж, в самом деле, не проездиться?"
А согласны ли вы,-сказал он вслух,-погостить у брата денька два? Иначе он меня не отпустит.
С большим удовольствием. Хоть три.
Ну, так по рукам! Едем! -сказал, оживясь, Платонов.
Они хлопнули по рукам: "Едем!"
Куда, куда? - вскрикнул хозяин, проснувшись и выпуча на них глаза.-Нет, сударики! и колеса у ко-ляскн приказано снять, а вашего жеребца, Платон Ми-хайлыч, угнали отсюда за пятнадцать верст. Нет, вот вы сегодня переночуйте, а завтра после раннего обеда и поезжайте себе.
Что было делать с Петухом? Нужно было остаться. Зато награждены они были удивительным весенним вечером. Хозяин устроил гулянье на реке. Двенадцать гребцов, в двадцать четыре весла, с песнями понесли их по гладкому хребту зеркального озера. Из озера они пронеслись в реку, беспредельную, с пологими берегами на обе стороны, подходя беспрестанно под протянутые впоперек реки канаты для ловли. Хоть бы струйкой шевельнулись воды; только безмолвно являлись пред ними один за другим виды, и роща за рощей тешила взоры разнообразным размещением дерев. Гребцы, хвативши разом в двадцать четыре весла, подымали вдруг все весла вверх, и катер сам собой, как легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Парень-запевала, плечистый детина, третий от руля, починал чистым, звонким голосом, выводя как бы из соловьиного горла начинальные запевы песни, пятеро подхватывало, шестеро выносило, и разливалась она, беспредельная, как Русь. И Петух, встрепенувшись, пригаркивал, поддавая, где не хватало у хора силы, и сам Чичиков чувствовал, что он русский. Один только Платонов думал: "Что хорошего в этой заунывной песне? От нее еще большая тоска находит на душу".
Возвращались назад уже сумерками. Впотьмах ударяли весла по водам, уже не отражавшим неба. В темноте пристали они к берегу, по которому разложены были огни; на треногах варили рыбаки уху из животрепещущих ершей. Все уже было дома. Деревенская скотина и птица уже давно была пригнана, и пыль от них уже улеглась, и пастухи, пригнавшие их, стояли у ворот, ожидая кринки молока и приглашения к ухе. В сумерках слышался тихий гомон людской, бреханье собак, где-то отдававшееся из чужих деревень. Месяц подымался, и начали озаряться потемневшие окрестности, и все озарилось. Чудные картины! Но некому было ими любоваться. Николаша и Алексаша, вместо того чтобы пронестись в это время перед ними на двух лихих жеребцах, в обгонку друг друга, думали о Москве, о кондитерских, о театрах, о которых натолковал им заезжий из столицы кадет. Отец их думал о том, как бы окормить своих гостей. Платонов зевал. Всех живей оказался Чичиков. "Эх, право! заведу когда-нибудь деревеньку!" И стали ему представляться и бабенка и Чичонки.
А за ужином опять объелись. Когда вошел Павел Иванович в отведенную комнату для спанья и, ложась в постель, пощупал животик свой: "Барабан!-сказал,- никакой городничий не взойдет!" Надобно <же быть> такому стеченью обстоятельств, что за стеной был кабинет хозяина. Стена была тонкая, и слышалось все, что там ни говорилось. Хозяин заказывал повару, под видом раннего завтрака на завтрашний день, решительный обед. И как заказывал! У мертвого родился бы аппетит.
Да кулебяку сделан на четыре угла,-говорил он с присасыванием и забирая к себе дух.-В один угол положи ты мне щеки осетра да вязиги, в другой гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого, какого-нибудь там того... Да чтобы она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, с другого пусти ее полегче. Да исподкуто, пропеки ее так, чтобы всю ее прососало, проняло бы так, чтобы она вся, знаешь, этак растого - не то чтобы рассыпалась, а истаяла бы во рту, как снег какой, так чтобы и не услышал.-Говоря это. Петух при-смактывал и подшлепывал губами.
"Черт побери! не даст спать",-думал Чичиков и закутал голову в одеяло, чтобы не слышать ничего. Но и сквозь одеяло было слышно:
А в обкладку к осетру подпусти свеклу звездочкой, да снеточков, да груздочков, да там, знаешь, ре-пушки да морковки, да бобков, там чего-нибудь этакого, знаешь, того-растого, чтобы гарниру, гарниру всякого побольше. Да в свиной сычуг положи ледку, чтобы он вэбухнул хорошенько.
Много еще Петух заказывал блюд. Только и раздавалось: "Да поджарь, да подпеки, да дай взопреть хорошенько!" Заснул Чичиков уже на каком-то индюке.
На другой день до того объелись гости, что Платонов уже не мог ехать верхом. Жеребец был отправлен с конюхом Петуха. Они сели в коляску. Мордатый пес лениво пошел за коляской: он тоже объелся.
Это уже слишком,- сказал Чичиков, когда выехали они со двора.
А не скучает, вот что досадно! - сказал Платонов. "Было бы у меня, как у тебя, семьдесят тысяч в год доходу,- подумал Чичиков,- Да я бы скуку и на глаза к себе <не допустил?". Вот откупщик Муразов,- легко сказать,-десять миллионов... Экой куш!"
Что, вам ничего заехать? Мне бы хотелось проститься с сестрой и с зятем.
С большим удовольствием,- сказал Чичиков.
Если вы охотник до хозяйства,-сказал Платонов,- то вам будет с ним интересно познакомиться. Уж лучше хозяина вы не сыщете. Он в десять лет возвел свое именье до <того>, что вместо тридцати теперь получает двести тысяч.
Ах, да это, конечно, препочтеннын человек! Это преинтересно будет с этаким человеком познакомиться. Как же? Да ведь это сказать... А как по фамилии?
Костанжогло.
А имя и отчество, позвольте узнать?
Константин Федорович.
Константин Федорович Костанжогло. Очень будет интересно познакомиться. Поучительно узнать этакого человека.
Платонов принял на себя руководить Селифаном,- что было нужно, потому что тот едва держался на козлах. Петрушка два раза сторчаком слетел с коляски, так что необходимо было наконец привязать его веревкой к козлам. "Экая скотина!"-повторял только Чичиков.
Вот, поглядите-ка, начинаются его земли,-сказал Платонов,- совсем другой вид.
И в самом деле, через все поле сеяный лес - ровные, как стрелки, дерева; за ними другой, повыше, тоже мо-лодник; за ними старый десняк, и всё один выше другого. Потом опять полоса поля, покрытая густым лесом, и снова таким же образом молодой лес, н опять старый. И три раза проехали, как сквозь ворота стен, сквозь леса.
Это все у него выросло каких-нибудь лет в восемь, в десять, что у другого и в двадцать <не вырастет >.
Как же это он сделал?
Расспросите у него. Это землевед такой, у него ничего нет даром. Мало что он почву знает, как знает, какое соседство для кого нужно. Возле какого хлеба какие дерева. Всякий у него три, четыре должности разом отправляет. Лес у него, кроме того что для леса, нужен затем, чтобы в таком-то месте на столько-то влаги прибавить полям, на столько-то унавозить падающим листом, на столько-то дать тени. Когда вокруг засуха, у него нет засухи; когда вокруг неурожай, у него нет неурожая. Жаль, что я сам мало эти вещи знаю, не умею рассказать, а у него такие штуки... Его называют колдуном.
"В самом деле, это изумительный муж,- подумал Чичиков.-Весьма прискорбно, что молодой человек поверхностен и не умеет рассказать".
Наконец показалась деревня. Как бы город какой, высыпалась она множеством изб на трех возвышениях, увенчанных тремя церквами, перегражденная повсюду исполинскими скирдами и кладями. "Да,-подумал Чичиков,- видно, что живет хозяин-туз". Избы всё крепкие, улицы торные; стояла ли где телега-телега была крепкая и новешенькая; мужик попадался с каким-то умным выражением лица; рогатый скот на отбор; даже крестьянская свинья глядела дворянином. Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поется в песне, серебро лопатой. Не было тут аглицких парков и газонов со всякими затеями, но, по-старинному, шел проспект амбаров и рабочих домов вплоть до самого дому, чтобы все было видно барину, что ни делается вокруг его; и в довершение-поверх дома фонарь обозревал на пятнадцать верст кругом всю окольность. У крыльца их встретили слуги, расторопные, совсем не похожие на пьяницу Петрушку, хотя на них и не было фраков, а казацкие чекмени синего домашнего сукна.
Хозяйка дома выбежала сама на крыльцо. Свежа она была, как кровь с молоком; хороша, как божий день;
походила как две капли на Платонова, с той разницей толйко, что не была вяла, как он. но разговорчива и весела.
Здравствуй, брат! Ну, как же я рада, что ты приехал. А Константина нет дома; но он скоро будет.
Где ж он?
У него есть дело на деревне с какими-то покупщиками,-говорила она, вводя гостей в комнату.
Чичиков с любопытством рассматривал жилище этого необыкновенного человека, который получал двести тысяч, думая по нем отыскать свойства самого хозяина, как по оставшейся раковине заключают об устрице или улитке, некогда в ней сидевшей и оставившей свое от-печатление. Но нельзя было вывести никакого заключения. Комнаты все просты, даже пусты: ни фресков, ни картин, ни бронз, ни цветов, ни этажерок с фарфором, ни даже книг. Словом, все показывало, что главная жизнь существа, здесь обитавшего, проходила вовсе не в четырех стенах комнаты, но в поле, и самые мысли не обдумывались заблаговременно сибаритским образом, у огня пред камином, в покойных креслах, но там же, на месте дела, приходили в голову, и там же, где приходили, там и претворялись в дело. В комнатах мог только заметить Чичиков следы женского домоводства: на столах и стульях были поставлены чистые липовые доски и на них лепестки каких-то цветков, приготовленные к сушке.
Что это у тебя, сестра, за дрянь такая наставлена? - сказал Платонов.
Как дрянь! - сказала хозяйка.- Это лучшее средство от лихорадки. Мы вылечили им в прошлый <год> всех мужиков. А это для настоек; а это для варенья. Вы всё смеетесь над вареньями да над соленьями, а потом, когда едите, сами же похваливаете.
Платонов подошел к фортепиано и стал разбирать ноты.
Господи! что за старина!-сказал он.-Ну не стыдно ли тебе, сестра?
Ну, уж извини, брат, музыкой мне и подавно некогда заниматься. У меня осьмилетняя дочь, которую я должна учить. Сдать ее на руки чужеземной гувернантке затем только, чтобы самой иметь свободное время для музыки,- нет, извини, брат, этого-то не сделаю,
Какая ты, право, стала скучная, сестра!-сказал брат и подошел к окну.-А! вот он! идет! идет!-сказал Платонов.
Чичиков тоже устремился к окну. К крыльцу подходил лет сорока человек, живой, смуглой наружности, в сертуке верблюжьего <сукна?>. О наряде своем он не думал. На нем был триповый картуз*. По обеим сторонам его, сняв шапки, шли два человека нижнего сословия,-шли, разговаривая и о чем-то с -<ним> толкуя. Один-простой мужик, другой-какой-то заезжий кулак и пройдоха, в синей сибирке. Так как остановились они все около крыльца, то и разговор их был слышен в комнатах.
* триповый картуз.- Трип - шерстяная ворсистая ткань.
Вы вот что лучше сделайте: вы откупитесь у вашего барина. Я вам, пожалуй, дам взаймы: вы после мне отработаете.
Нет, Константин Федорович, что уж откупаться? Возьмите нас. Уж у вас всякому уму выучишься. Уж эдакого умного человека нигде во всем свете нельзя смекать. А ведь теперь беда та, что себя никак не убережешь. Целовальники такие завели теперь настойки, что с одной рюмки так те живот станет драть, что воды ведро бы выпил. Не успеешь опомниться, как все спустишь. Много соблазну. Лукавый, что ли, миром ворочает, ей-богу! Всё заводят, чтобы сбить с толку мужиков: и табак, и всякие такие. . Что ж делать, Константин Федорович? Человек-не удержишься.
Послушай, да ведь вот в чем дело. Ведь у меня все-таки неволя. Это правда, что с первого разу все получишь-и корову и лошадь; да ведь дело в том, что я так требую с мужиков, как нигде. У меня работай- первое; мне ли, или себе, но уж я не дам никому залежаться Я и сам работаю как вол, и мужики у меня; потому что испытал, брат; вся дрянь лезет в голову оттого, что не работаешь. Так вы об этом все подумайте миром и потолкуйте между <собою>.
Да мы-с толковали уж об этом, Константин Федорович. Уж это и старики говорят. Что говорить, ведь всякий мужик у вас богат: уж это недаром; и священники таки сердобольные. А ведь у нас и тех взяли, и хоронить некому.
Все-таки ступай и переговори.
Слушаю-с.
Так уж того-с, Константин Федорович, уж сделайте милость... посбавьте,- говорил шедший по другую сторону заезжий кулак в синен сибирке.
Уж я сказал: торговаться я не охотник. Я не то, что другой Помещик, к которому ты подъедешь под самый срок уплаты в ломбард. Ведь я вас знаю всех: у вас есть списки всех, кому когда следует уплачивать. Что ж тут мудреного? Ему приспичит, ну, он тебе и отдаст за полцены. А мне что твои деньги? У меня вещь хоть три года лежи: мне в ломбард не нужно уплачивать.
Настоящее дело, Константин Федорович. Да ведь я того-с, оттого только, чтобы и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстья. Три тысячи задаточку извольте принять.-Кулак вынул из-за пазухи пук засаленных ассигнаций. Костанжогло прехладнокровно взял их и, не считая, сунул в задний карман своего сертука.
"Гм!-подумал Чичиков,-точно как бы носовой платок.
Костанжогло показался в дверях гостиной. Он еще более поразил Чичикова смуглостью лица, жесткостью черных волос, местами до времени поседевших, живым выраженьем глаз и каким-то желчным отпечатком пылкого южного происхожденья. Он был не совсем русский. Он сам не знал, откуда вышли его предки. Он не занимался своим родословием, находя, что это в строку нейдет и в хозяйстве вещь лишняя. Он даже был совершенно уверен, что он русский, да и не знал другого языка, кроме русского.
Платонов представил Чичикова. Они поцеловались.
Вот решился проездиться по разным губерниям,- сказал Платонов,- размыкать хандру. И вот Павел Иванович предложил ехать с ним.
Прекрасно,-сказал Костанжогло.-В какие же места,- продолжал он, приветливо обращаясь к Чичикову,-предполагаете теперь направить путь?
Признаюсь,-сказал Чичиков, приветливо наклонив голову набок и в то же время поглаживая рукой кресельную ручку,- еду я покамест не столько по своей нужде, сколько по нужде другого: генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но с другой стороны, так сказать, и для самого себя, потому что, точно не говоря уже о пользе, которая может быть в геморроидальном отношении, увидать свет, коловращенье люден... есть, так сказать, живая книга, та же наука.
Да, заглянуть в иные уголки не мешает.
Превосходно изволили заметить: именно, истинно, действительно не мешает. Видишь вещи, которых бы не видел; встречаешь людей, которых бы не встретил. Разговор с иным тот же червонец, как вот, например, теперь представился случай... К вам прибегаю, почтеннейший Константин Федорович, научите, научите, оросите жажду мою вразумленьем истины. Жду, как манны, сладких слов ваших.
Чему же, однако?.. чему научить?-сказал Костанжогло, смутившись.-Я и сам учился на медные деньги.
Мудрости, почтеннейший, мудрости! Мудрости управлять трудным кормилом сельского хозяйства, мудрости извлекать доходы верные, приобресть имущество не мечтательное, а существенное, исполня тем долг гражданина, заслужа уваженье соотечественников.
Знаете ли что,- сказал Костанжогло, смотря на него в размышлении,- останьтесь денек у меня. Я покажу вам все управление и расскажу обо всем. Мудрости тут, как вы увидите, никакой нет.
Конечно, останьтесь,-сказала хозяйка и, обратясь к брату, прибавила:-Брат, оставайся, куды тебе торопиться?
Мне все равно. Как Павел Иванович?
Я тоже, я с большим удовольствием... Но вот обстоятельство: родственник генерала Бетрищева, некто полковник Кошкарев...
Да ведь он сумасшедший.
Это так, сумасшедший. Я бы к нему и не ехал, но генерал Бетрищев, близкий приятель и, так сказать, благотворитель...
В таком случае, знаете что?-сказал <Костанжогло>,-поезжайте, к нему и десяти верст нет. У меня стоят готовые пролетки. Поезжайте к нему теперь же. Вы успеете к чаю возвратиться назад.
Превосходная мысль! - вскрикнул Чичиков, взявши шляпу.
Пролетки были ему поданы и в полчаса примчали его к полковнику. Вся деревня была вразброску: постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревен повеем улицам. Выстроены были какие-то домм, вроде присутственных мест. На одном было написано золотыми буквами: "Депо земледельческих орудий"; на другом:
Полковника он застал за пульпитром стоячей конторки, с пером в зубах. Полковник принял Чичикова отменно ласково. По виду он был предобрейший, преобхо-дительный человек: стал ему рассказывать о том, скольких трудов ему стоило возвесть имение до нынешнего благосостояния; с соболезнованием жаловался, как трудно дать понять мужику, что есть высшие побуждения, которые доставляет человеку просвещенная роскошь, искусство и художество; что баб он до сих <пор> не мог заставить ходить в корсете, тогда как в Германии, где он стоял с полком в четырнадцатом году, дочь мельника умела играть даже на фортепиано; что, однако же, несмотря на все упорство со стороны невежества, он непременно достигнет того, что мужик его деревни, идя за плугом, будет в то же время читать книгу о громовых отводах Франклина, или Виргилиевы "Георгики", или "Химическое исследование почв".
"Да, как бы не так!-подумал Чичиков.-А вот я до сих пор еще "Графини Лавальер" не прочел, все нет времени".
Много еще говорил полковник о том, как привести людей к благополучию. Костюм у него имел большое значение. Он ручался головой, что если только одеть половину русских мужиков в немецкие штаны - науки возвысятся, торговля подымется и золотой век настанет в России.
Посмотревши на него пристально, Чичиков подумал:
"С этим, кажется, чиниться нечего",-и тут же объявил, что имеется надобность вот а каких душах, с совершеньем таких-то крепостей и всех обрядов.
Сколько могу видеть из слов ваших,-сказал полковник, нимало не смутясь,-это просьба, не так ли?
Так точно.
В таком случае изложите ее письменно. Просьба пойдет в контору принятия рапортов и донесений. [Контора], пометивши, препроводит ее ко мне; от меня поступит она в комитет сельских дел; оттоле, по сделании выправок, к управляющему. Управляющий совокупно с секретарем...
Помилуйте! - вскрикнул Чичиков,- ведь этак затянется бог знает! Да как же трактовать об этом письменно? Ведь это такого рода дело... Души ведь неко-которым образом мертвые.
Очень хорошо. Вы так и напишите, что души некоторым образом мертвые.
Но ведь как же-мертвые? Ведь этак же нельзя написать. Они хотя и мертвые, но нужно, чтобы казались как бы были живые.
Хорошо. Вы так и напишите: "но нужно, или требуется, желается, ищется, чтобы казалось, как бы Лживые". Без бумажного производства нельзя этого сделать. Пример-Англия и сам даже Наполеон. Я вам отряжу комиссионера, который вас проводит по всем местам.
Он ударил в звонок. Явился какой-то человек.
Секретарь! Позвать ко мне комиссионера! - Предстал комиссионер, какой-то не то мужик, не то чиновник.-Вот он вас проводит <по> нужнейшим местам.
Чичиков решился из любопытства пойти с комиссионером смотреть все эти самонужнейшие места. Контора подачи рапортов существовала только на вывеске, и двери были заперты. Правитель дел ее Хрулев был переведен во вновь образовавшийся комитет сельских построек. Место его заступил камердинер Березовский; но он тоже был куда-то откомандирован комиссией построения. Толкнулись они в департамент сельских дел-там переделка: разбудили какого-то пьяного, но не добрались от него никакого толку. "У нас бестолковщина,-сказал наконец Чичикову комиссионер.- Барина за нос водят. Всем у нас распоряжается комиссия построения: отрывает всех от дела, посылает куда угодно. Только и выгодно у нас, что в комиссии построения". Он, как видно, был недоволен на комиссию построения. Далее Чичиков не хотел и смотреть, но, пришедши, рассказал полковнику, что так и так, что у него каша и никакого толку нельзя добиться, и комиссии подачи рапортов и вовсе нет.
Полковник воскипел благородным негодованьем, крепко пожавши руку Чичикова в знак благодарности. Тут же, схвативши бумагу и перо, написал восемь строжайших запросов: на каком основании комиссия построения самоуправно распорядилась с неподведомственными ей чиновниками; как мог допустить главноуправляющий, чтобы представитель, не сдавши своего поста, отправился на следствие; и как мог видеть равнодушно комитет сельских дел, что даже не существует контора подачи рапортов и донесений?
"Ну, кутерьма!"- подумал Чичиков и хотел уже уехать.
Нет, я вас не отпущу. Теперь уже собственное мое честолюбие затронуто. Я докажу, что значит органическое, правильное устройство хозяйства. Я поручу ваше дело такому человеку, который один стоит всех: окончил университетский курс. Вот каковы у меня крепостные люди... Чтобы не терять драгоценного времени, по-корнейше < прошу > посидеть у меня] в библиотеке,- сказал полковник, отворяя боковую дверь.-Тут книги, бумага, перья, карандаши, все. Пользуйтесь, пользуйтесь всем: вы-господин. Просвещение должно быть открыто всем.
Так говорил Кошкарев, введя его в книгохранилище. Это был огромный зал, снизу доверху уставленный книгами. Были там даже и чучела животных. Книги по всем частям: по части лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства; специальные журналы по всем частям, которые только рассылаются с обязанностью подписок, но никто <их> не читает. Видя, что всё это были книги не для приятного препровождения -<времени:>, он обратился к другому шкафу - из огня в полымя: всё книги философии. Шесть огромных томищей предстало ему пред глаза, под названием: "Предуготовительное вступление в область мышления. Теория общности, совокупности, сущности, и в применении к уразумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности". Что ни разворачивал Чичиков книгу, на всякой странице: проявленье, . развитье, абстракт. замкнутость и сомкнутость, и черт знает чего там не было. "Это не по мне",- сказал Чичиков и оборотился к третьему шкафу, где были книги по части искусств. Тут вытащил какую-то огромную книгу с нескромными мифологическими картинками и начал их рассматривать Такого рода картинки нравятся холостякам средних <лет>, а иногда и тем старикашкам, которые подзадоривают себя балетами и прочими пряностями. Окончивши рассматривание этой книги, Чичиков вытащил уже было и другую в том же роде, как появился полковник Кошкарев, с сияющим видом и бумагою.
Все сделано, и сделано отлично! Человек, о котором я вам говорил, решительный гений. За это я поставлю <> выше всех и для него одного заведу целый департамент. Вы посмотрите, какая светлая голова и как в несколько минут он решил все.
"Ну, слава те господи!" - подумал Чичиков и приготовился слушать. Полковник стал читать:
- "Приступая к обдумыванию возложенного на меня вашим высокородием поручения, честь имею сим донести на оное:
1-е. В самой просьбе господина коллежского советника и кавалера Павла Ивановича Чичикова уже содержится недоразумение, ибо неосмотрительным образом ревизские души названы умершими. Под сим, вероятно, они изволили разуметь близкие к смерти, а не умершие. Да и самое таковое название уже показывает изучение наук более эмпирическое, вероятно ограничившееся приходским училищем, ибо душа бессмертна".
Плут!-сказал, остановившись, Кошкарев с самодовольствием.- Тут он немножко кольнул вас. Но сознайтесь, какое бойкое перо!
- "Во 2-х, никаких незаложенных, не только близких к смерти, но и всяких прочих, по именью не имеется, ибо все в совокупности не токмо заложены без изъятия, но и перезаложены, с прибавкой по полутораста рублей на душу, кроме небольшой деревни Гурмайловки, находящейся в спорном положении по случаю тяжбы с помещиком Предищевым и вследствие того под запрещеньем, о чем объявлено в сорок втором номере "Московских ведомостей".
Так зачем же вы мне этого не объявили прежде? Зачем из пустяков держали?-сказал с сердцем Чичиков.
Да! да ведь нужно было, чтобы <вы> все это увидели сквозь форму бумажного производства. Этак не штука. Бессознательно может и дурак увидеть, но нужно сознательно.
В сердцах, схвативши шапку, Чичиков-бегом из дому, мимо всяких приличий, да в дверь: он был сердит. Кучер стоял с пролетками наготове, зная, что лошадей нечего откладывать, потому что о корме пошла бы письменная просьба, и резолюция выдать овес лошадям вышла бы только на другой день. [Как ни был Чичиков груб и неучтив, но Кошкарев, несмотря на все, был с ним необыкновенно] учтив и деликатен. Он насильно пожал ему руку, прижал ее к сердцу и благодарил его за то, что он дал ему случай увидеть на деле ход производства; что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать и пружины управления заржавеют и ослабеют; что вследствие этого события пришла ему счастливая мысль-устроить новую комиссию, которая будет называться комиссией наблюдения за комиссиею построения, так что уже тогда никто не осмелится украсть.
Чичиков приехал, сердитый и недовольный, поздно, когда уже давно горели свечи.
Что это вы так запоздали?-сказал Костанжог-ло, когда он показался в дверях.
О чем вы это так долго с ним толковали?-сказал Платонов.
Этакого дурака я еще отроду не видывал,- сказал <Чичиков>-.
Это еще ничего,- сказал Костанжогло.- Кошкарев - утешительное явление. Он нужен затем, что в нем отражаются карикатурно и видней глупости всех наших умников,- вот этих всех умников, которые, не узнавши прежде своего, набираются дури в чужи. Вон каковы помещики теперь наступили: завели и конторы, и мануфактуры, и школы, и комиссию, и черт их знает чего не завели! Вот каковы эти умники! Было поправились после француза двенадцатого года, так вот теперь всё давай расстроивать сызнова. Ведь хуже француза расстроили, так что теперь какой-нибудь Петр Петрович Петух еще хороший помещик.
Да ведь и он заложил теперь в ломбард,-сказал Чичиков.
Ну да, все в ломбард, все пойдет в ломбард.- Сказав это, Костанжогло стал понемногу сердиться.- Вон шляпный, свечной заводы,- из Лондона мастеров выписали свечных, торгашами поделались. Помещик - этакое званье почтенное - в мануфактуристы, фабриканты! Прядильные машины... кисеи шлюхам городским, девкам.
Да ведь и у тебя же есть фабрики,- заметил Платонов.
А кто их заводил? Сами завелись! накопилось шерсти, сбыть некуда - я и начал ткать сукна, да и сукна толстые, простые - по дешевой цене их тут же на рынках у меня и разбирают,- мужику надобные, моему мужику. Рыбью шелуху сбрасывали на мой берег в продолжение шести лет сряду промышленники,-ну куды ее девать? Я начал из нее варить клей, да сорок тысяч и взял. Ведь у меня всё так.
"Экой черт!-думал Чичиков, глядя на него в оба глаза,- загребистая какая лапа".
Да и то потому занялся, что набрело много работников, которые умерли бы с голоду. Голодный год, и все по милости этих фабрикантов, упустивших посевы. Этаких фабрик у меня, брат, наберется много. Всякий год другая фабрика, смотря по тому, от чего накопилось остатков и выбросков. Рассмотри только попристальнее свое хозяйство - всякая дрянь даст доход, так что отталкиваешь, говоришь: не нужно. Ведь я не строю для этого дворцов с колоннами да с фронтонами.
Это изумительно... Изумительнее же всего то, что всякая дрянь даст доход! - сказал Чичиков.
Да помилуйте! Если бы только брать дело попросту, как оно есть; а то ведь всякий-механик, всякий хочет открыть ларчик с инструментом, а не просто. Он для этого съездит нарочно в Англию, вот в чем дело. Дурачье!-Сказавши это, Костанжогло плюнул.-И ведь глупее всотеро станет после того, как возвратится из-за границы.
Ax, Константин! ты опять рассердился,- сказала с беспокойством жена.- Ведь ты знаешь, что это для тебя вредно.
Да ведь как не сердиться? Добро бы, это было чужое, а то ведь это близкое собственному сердцу. Ведь досадно то, что русский характер портится. Ведь теперь явилось в русском характере донкишотство, которого никогда не было! Просвещение придет ему в ум - сделается Дон-Кишотом просвещенья: заведет такие школы, что дураку в ум не войдет! Выйдет из школы такой человек, что никуда не годится, ни в деревню, ни в город,- только что пьяница да чувствует свое достоинство. В че-ловеколюбье пойдет - сделается Дон-Кишотом человеко-любья: настроит на миллион рублей бестолковейших больниц да заведений с колоннами, разорится, да и пустит всех по миру: вот тебе и человеколюбье!
Чичикову не до просвещенья было дело. Ему хотелось обстоятельно расспросить о том, как всякая дрянь дает доход: но никак не дал ему Костанжогло вставить слова. Желчные речи уже лились из уст его, так что уже он их не мог удержать.
Думают, как просветить мужика! Да ты сделай его прежде богатым да хорошим хозяином, а там он сам выучится. Ведь как теперь, в это время, весь свет поглупел, так вы не можете себе представить. Что пишут теперь эти щелкоперы! Пустит какой-нибудь молокосос книжку, и так вот все и бросятся на нее. Вот что стали говорить: "Крестьянин ведет уж очень простую жизнь; нужно познакомить его с предметами роскоши, внушить ему потребности свыше состоянья..." Что сами благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди, и болезней черт знает каких понабрались, и уж нет осьмнадцатилетнего мальчишки, который бы не испробовал всего: и зубов у него нет, и плешив, как пузырь,- так хотят теперь и этих заразить. Да слава богу, что у нас осталось хотя одно еще здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями! За это мы просто должны благодарить бога. Да хлебопашцы для меня всех почтеннее - что вы его трогаете? Дай бог, чтобы все были хлебопашцы.
Так вы полагаете, что хлебопашеством доходли-вей заниматься? -спросил Чичиков.
Законнее, а не то что доходнее. Возделывай землю в поте лица своего, сказано. Тут нечего мудрить. Это уж опытом веков доказано, что в земледельческом звании человек нравственней, чище, благородней, выше. Не говорю-не заниматься другим, но чтобы в основание легло хлебопашество-вот что! Фабрики заведутся сами собой, да заведутся законные фабрики-того, что нужно здесь, под рукой человеку, на месте, а не эти всякие потребности, расслабившие теперешних людей. Не эти фабрики, что потом для поддержки и для сбыту употребляют все гнусные меры, развращают, растлевают несчастный народ. Да вот же не заведу у себя, как ты там ни говори в их пользу, никаких этих внушающих высшие потребности производств, ни табака, ни сахара, хоть бы потерял миллион. Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки! Пусть я буду перед богом прав... Я двадцать лет живу с народом; я знаю, какие от этого следствия.
Для меня изумительнее всего, как при благоразумном управлении, из останков, из обрезков получается, <что> и всякая дрянь дает доход.
Гм! Политические экономь!!-говорил Костан-жогло, не слушая его, с выражением желчного сарказма в лице.-Хороши политические экономм! Дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Дальше своего глупого носа не видит. Осел, а еще взлезет на кафедру, наденет очки... Дурачье!-И во гневе он плюнул.
Все это так и все справедливо, только, пожалуйста, не сердись,- сказала жена,- как будто нельзя говорить об этом, не выходя из себя.
Слушая вас, почтеннейший Константин Федорович, вникаешь, так сказать, в смысл жизни, щупаешь самое ядро дела. Но, оставив общечеловеческое, позвольте обратить внимание на приватное. Если бы, положим, сделавшись помещиком, возымел я мысль в непродолжительное <время> разбогатеть так, чтобы тем, так сказать, исполнить существенную обязанность гражданина, то каким образом, как поступить?
Как поступить, чтобы разбогатеть?-подхватил Костанжогло.-А вот как...
Пойдем ужинать,-сказала хозяйка; она, поднявшись с дивана, выступила на середину комна-ты, закутывая в шаль молодые продрогнувшие свои члены.
Чичиков схватился со стула с ловкостью почти военного человека, коромыслом подставил ей руку и повел ее парадно через две комнаты в столовую, где уже на столе стояла суповая чашка и, лишенная крышки, разливала приятное благоуханье супа, напитанного свежею зеленью и первыми кореньями весны. Все сели за стол. Слуги проворно поставили разом на стол все блюда в закрытых соусниках и все, что нужно, и тотчас ушли. Костанжогло не любил, чтобы лакеи слушали господские < разговоры >, а еще более чтобы глядели ему в рот в то время, когда он <ест>.
Нахлебавшись супу и выпивши рюмку какого-то отличного питья, похожего на венгерское, Чичиков сказал хозяину так:
Позвольте, почтеннейший, вновь обратить вас к предмету прекращенного разговора. Я спрашивал вас о том, как быть, как поступить, как лучше приняться...*
Именье, за которое если бы он запросил и сорок тысяч, я бы ему тут же отсчитал.
Гм! - Чичиков задумался.- А отчего же вы сами,- проговорил он с некоторою робостью,- не покупаете его?
Да нужно знать, наконец, пределы. У меня и без того много хлопот около своих имений. Притом у нас дворяне и без того уже кричат на меня, будто я, пользуясь крайностями и разоренными их положеньями, скупаю земли за бесценок. Это мне уж наконец надоело, черт их возьми.
Как вообще люди способны к злословию! - сказал Чичиков.
А уж как в нашей губернии - не можете себе представить! Меня иначе и не называют, как сквалыгой и скупцом первой степени. Себя они во всем извиняют. "Я, говорит, конечно, промотался, но потому, что жил высшими потребностями жизни, поощрял промышленников, мошенников то есть, а этак, пожалуй, можно прожить свиньей, как Костанжогло".
Желал бы я быть этакой свиньей!-сказал Чичиков.
И все это ложь и вздор. Какие высшие потребности? Кого они надувают? Книги хоть он и заведет, но ведь их не читает. Дело окончится картами да пьянством. И все оттого, что не задаю обедов да не занимаю им денег. Обедов я потому не даю, что это меня бы тяготило; я к этому не привык. А приезжай ко мне есть то, что я ем,-милости просим. Не даю денег взаймы- это вздор. Приезжай ко мне в самом деле нуждающийся да расскажи мне обстоятельно, как ты распорядишься с моими деньгами. Если я увижу из твоих слов, что ты употребишь их умно и деньги принесут тебе явную прибыль,- я тебе не откажу и не возьму даже процентов.
"Это, однако же, нужно принять к сведению",- подумал Чичиков.
И никогда не откажу,- продолжал Костанжогло.- Но бросать денег на ветер я не стану. Уж пусть меня в этом извинят! Черт побери! он затевает там какой-нибудь обед любовнице, или на сумасшедшую ногу убирает мебелями дом, или с распутницей в маскарад, юбилеи там какой-нибудь в память того, что он даром прожил, а ему давай деньги взаймы!..
Здесь Костанжогло плюнул и чуть-чуть не выговорил несколько неприличных и бранных слов в присутствии супруги. Суровая тень темной ипохондрии омрачила его лицо. Вдоль лба и впоперек его собрались морщины, обличители гневного движенья взволнованной желчи.
Позвольте мне, досточтимый мною, обратить вас вновь к предмету прекращенного разговора,-сказал Чичиков, выпивая еще рюмку малиновки, которая действительно была отличная.- Если бы, положим, я приобрел то самое имение, о котором вы изволили упомянуть, то во сколько времени и как скоро можно разбогатеть в такой степени...
Если вы хотите,- подхватил сурово и отрывисто Костанжогло, полный нерасположенья духа,- разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете;
если же хотите разбогатеть, не спрашиваясь о времени, то разбогатеете скоро.
Вот оно как,- сказал Чичиков.
Да, -сказал Костанжогло отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова,- надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да! И, поверьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что в деревне тоска,- да я бы умер, повесился от тоски, если бы хотя один день. провел в городе так, как проводят они в этих глупых своих клубах, трактирах да театрах. Дураки дурачье, ослиное поколенье! Хозяину нельзя, нет времени скучать. В жизни его и на полвершка нет пустоты-все полнота. Одно это разнообразье занятий, и притом каких занятий!-занятий, истинно возвышающих дух. Как бы то ни было, но ведь тут человек идет рядом с природой, с временами года, соучастник и собеседник всего, что совершается в творении. Рассмотрите-ка круговой год работ: как еще прежде, чем наступит весна, всё уж настороже н ждет ее; подготовка семян, переборка, перемерка по амбарам хлеба и пересушка; установленье новых тягол. Весь <год> обсматривается вперед и все рассчитывается вначале. А как взломает лед, да пройдут реки, да просохнет все в пойдет взрываться земля - по огородам и садам работает заступ, по полям соха н бороны: садка, севы и посевы. Понимаете ли, что это? Безделица! грядущий урожай сеют! Блаженство всей земли сеют! Пропитанье миллионов сеют! Наступило лето... А тут покосы, покосы... И вот закипела вдруг жатва; за рожью погода рожь, а там пшеница, а там и ячмень, и овес. Все кипит; нельзя пропустить минуты; хоть двадцать глаз имей-всем им работа. А как отпразднуется все да пойдет свозиться на гумны, складываться в клади, да зимние запашки, да чинки к зиме амбаров, риг, скотных дворов и в то же время все бабьи < работы >, да подведешь всему итог и увидишь, что сделано,- да ведь это... А зима! Молотьба по всем гумнам, перевозка перемолотого хлеба из риг а амбары. Идешь и на мельницу, идешь и на фабрики, идешь взглянуть и на рабочий двор, идешь и к мужику, как он там на себя колышется. Да для меня, просто, если плотник хорошо владеет топором, я два часа готов пред ним простоять: так веселит меня работа. А если видишь еще, что все это с какой целью творится, как вокруг тебя все множится да множится, принося плод да доход,- да я и рассказать не могу, что тогда в тебе делается. И не потому, что растут деньги,- деньги деньгами,- но потому, что все это дело рук твоих; потому что видишь, как ты всему причина, ты творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага, сыплется изобилье и добро на всё. Да где вы найдете мне равное наслажденье?-сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчания своего, сиял он весь, и казалось, как бы лучи исходили из его лица.- Да в целом мире не отыщете вы подобного наслажденья! Здесь, именно здесь подражает богу человек. Бог предоставил себе дело творенья, как высшее всех наслажденье, и требует от человека также, чтобы он был подобным творцом благоденствия вокруг себя. И это называют скучным делом!..
Как пенья райской птички, заслушался Чичиков сладкозвучных хозяйских речей. Глотали слюнку его уста. Самые глаза умаслились и выражали сладость, и все бы он слушал.
Константин! пора вставать,- сказала хозяйка, приподнявшись со стула.
Все встали. Подставив руку коромыслом, повел Чичиков обратно хозяйку. Но уже недоставало ловкости в его оборотах, потому что мысли были заняты действительно существенными оборотами.
Что ни рассказывай, а все. однако же, скучно,- говорил, идя позади их, Платонов.
"Гость не глупый человек,-думал хозяин,-степенен в словах и не щелкопер". И, подумавши так, стал он еще веселее, как бы сам разогрелся от своего разговора и как бы празднуя, что нашел человека, умеющего слушать умные советы.
Когда потом поместились они все в уютной комнатке, озаренной свечками, насупротив балконной стеклянной двери в сад, и глядели к ним оттоле звезды, блиставшие над вершинами заснувшего сада,-Чичикову сделалось так приютно, как не бывало давно: точно как бы после долгих странствований приняла уже его родная крыша и, по совершенье всего, он уже получил все желаемое и бросил скитальческий посох, сказавши: "Довольно!" Такое обаятельное расположенье навел ему на душу разумный разговор гостеприимного хозяина. Есть для всякого человека такие речи, которые как бы ближе и родственней ему других речей. И часто неожиданно, в глухом, забытом захолустье, на безлюдье безлюдном, встретишь человека, которого греющая беседа заставит позабыть тебя и бездорожье дороги, и неприютность ночлегов, и беспутность современного шума, и лживость обманов, обманывающих человека. И живо врежется, раз навсегда и навеки, проведенный таким образом вечер, и все удержит верная память: и кто соприсутствовал, и кто на каком месте сидел, и что было в руках его,-стены, углы и всякую безделушку.
Так и Чичикову заметилось все в тот вечер: и эта милая, неприхотливо убранная комнатка, и добродушное выраженье, воцарившееся в лице умного хозяина, но даже и рисунок обоев комнаты, и поданная Платонову трубка с янтарным мундштуком, и дым, который он стал пускать в толстую морду Ярбу, и фырканье Ярба, и смех миловидной хозяйки, прерываемый словами: "Полно, не мучь его",-и веселые свечки, и сверчок в углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, глядевшая к ним оттоле, облокотясь на вершины дерев, осыпанная звездами, оглашенная соловьями, громкопевно высвистывавшими из глубины зеленолиственных чащей.
Сладки мне ваши речи, досточтимый мною Константин Федорович,-произнес Чичиков.- Могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по уму.
Костанжогло улыбнулся. Он сам чувствовал, что не несправедливы были эти слова,
Нет, уж если хотите знать умного человека, так у нас действительно есть один, о котором, точно, можно сказать-умный человек, которого я и подметки не стою.
Кто ж бы это такой мог быть?-с изумленьем спросил Чичиков.
Это наш откупщик Мураэов.
В другой уже раз про него слышу!-вскрикнул Чичиков.
Это человек, который не то что именьем помещика, целым государством управит. Будь у меня государство, я бы его сей же час сделал министром финансов.
И, говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия: десять миллионов, говорят, нажил.
Какое десять! перевалило за сорок. Скоро половина России будет в его руках.
Что вы говорите! - вскрикнул Чичиков, вытаращив глаза и разинув рот.
Всенепременно. Это ясно. Медленно богатеет тот, у кого какие-нибудь сотни тысяч; а у кого миллионы, у того радиус велик: что ни захватит, так вдвое и втрое противу самого себя. Поле-то, поприще слишком просторно, Тут уже и соперников нет. С ним некому тягаться. Какую цену чему ни назначит, такая и останется, некому перебить.
Господи боже ты мои!-проговорил Чичиков, перекрестившись. Смотрел Чичиков в глаза Костанжо-гло,-захватило дух в груди ему.-Уму непостижимо! Каменеет мысль от страха! Изумляются мудрости промысла в рассматриванье букашки: для меня более изумительно то, что в руках смертного могут обращаться такие громадные суммы. Позвольте спросить насчет одного обстоятельства: скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?
Самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами.
Невероятно! Если бы тысячи, но миллионы...
Напротив, тысячи трудно без греха, а миллионы наживаются легко. Миллионщику нечего прибегать к кривым путям: прямой дорогой так и ступай, все бери, что ни лежит перед тобой. Другой не подымет: всякому не по силам,-нет соперников. Радиус велик, говорю:
что ни захватит-вдвое или втрое противу <самого себя >. А с тысячи что? Десятый, двадцатый процент.
И что всего непостижимей - что дело ведь началось из копейки.
Да иначе и не бывает. Это законный порядок вещей,- сказал Костанжогло.- Кто родился с тысячами и воспитался на тысячах, тот уже не приобретет, у того уже завелись и прихоти, и мало ли чего нет! Начинать нужно с начала, а не с середины,- с копейки, а не с рубля,- снизу, а не сверху. Тут только узнаешь хорошо люд и быт, среди которых придется потом изворачиваться.
Как вытерпишь на собственной коже то да другое, да как узнаешь, что всякая копейка алтынным гвоздем прибита, да как перейдешь все мытарства-тогда тебя умудрит и вышколит, что уж не дашь промаха ни в каком предприятье и не оборвешься. Поверьте, это правда. С начала нужно начинать, а не с середины. Кто говорит мне: "Дайте мне сто тысяч-я сейчас разбогатею",- я тому не поверю: он бьет наудачу, а не наверняка. С копейки нужно начинать.
В таком случае я разбогатею,- сказал Чичиков, невольно помыслив о мертвых душах,- ибо действительно начинаю с ничего.
Константин, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать,- сказала хозяйка,- а ты все болтаешь.
И непременно разбогатеете,-сказал Костанжог-ло, не слушая хозяйки.-К вам потекут реки, реки золота. Не будете знать, куды девать доходы.
Как очарованный сидел Павел Иванович; в золотой области грез и мечтаний кружились его мысли. По золотому ковру грядущих прибытков золотые узоры вышивало разыгравшееся воображение, и в ушах его отдавались слова: "Реки, реки потекут золота".
Право, Константин, Павлу Ивановичу пора спать.
Да что ж тебе? Ну и ступай, если захотелось,- сказал хозяин и остановился, потому что громко по всей комнате раздалось храпенье Платонова, а вслед за ним Ярб затянул еще громче. Заметив, что в самом деле пора на ночлег, он растолкал Платонова, сказавши:
"Полно тебе храпеть!"-и пожелал Чичикову спокойной ночи. Все разбрелись и скоро заснули по своим постелям.
Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Он обдумывал, как сделаться помещиком не фантастического, но существенного имения. После разговора с хозяином все становилось так ясно. Возможность разбогатеть казалась так очевидной! Трудное дело хозяйства становилось теперь так легко и понятно и так казалось свойственно самой его натуре! Только бы сбыть в ломбард этих мертвецов да завести не [фантастическое поместье]. Уже он видел себя действующим и правящим именно так, как поучал Костанжогло: расторопно, осмотрительно, ничего не заводя нового, не узнавши насквозь всего старого; все высмотревши собственными глазами, всех мужиков узнавши, все излишества от себя оттолкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству. Уже заранее предвкушал он то удовольствие, которое будет он чувствовать, когда заведется стройный порядок и бойким ходом двигнутся все пружины хозяйственной машины, деятельно толкая друг друга. Труд закипит; и подобно тому <как> в ходкой мельнице шибко вымалывается из зерна мука, пойдет вымалываться из всякого дрязгу и хламу чистоган да чистоган. Чудный хозяин так и стоял пред ним ежеминутно. Это был первый человек во всей России, к которому почувствовал он уважение личное. Доселе уважал он человека или за хороший чин, или за большие достатки. Собственно за ум он не уважал еще ни одного человека. Костанжогло был первый. Он понял, что с этим нечего подыматься на какие-нибудь штуки. Его занимал другой прожект - купить именье Хлобуева. Десять тысяч у него было; пятнадцать тысяч предполагал он попробовать занять у Костанжогло, так как он сам объявил уже, что готов помочь всякому желающему разбогатеть; остальные - как-нибудь, или заложивши в ломбард, или так просто, заставивши ждать. Ведь и это можно: ступай возись по судам, если есть охота. И долго он об этом думал. Наконец сон, который уже целые четыре часа держал весь дом, как говорится, в объятиях, принял, наконец, и Чичикова в свои объятия. Он заснул крепко.
А Чичиков в довольном расположении духа сидел в своей бричке, катившейся по дороге. Всеми мыслями и душой он погрузился в сметы и соображения, которые, судя по улыбке, блуждающей по его лицу, доставляли ему большое удовольствие. Мысли его были далеки от действительности, и он не обращал внимания на кучера, который в это время делал замечания чубарому коню, и, увлекшись, стал рассуждать на отдаленные темы. Если бы Чичиков прислушался, то смог узнать много интересного и о себе. Но он так глубоко погрузился в собственные рассуждения, что только сильный удар грома заставил его очнуться и оглядеться вокруг себя. Раздался еще один удар грома и дождь хлынул как из ведра.
Селифан проворно натянул какую-то дерюгу против дождя и прикрикнул на лошадей. Но лошади с трудом переставляли ноги, и кучер никак не мог вспомнить, сколько поворотов они проехали, а потому, как русский человек, повернув направо при первом же случае, пустился вскачь. Деревни Собакевича все не было видно, и это сильно беспокоило Чичикова. По его расчетам, они должны были уже давно приехать. Селифан затянул длинную песню. Между тем Чичиков заметил, что бричка качается из стороны в сторону, и понял, что они своротили с дороги и, вероятно, тащатся по взбороненному полю. Ко всему прочему оказалось, что Селифан пьян. Чичиков напомнил слуге, что, когда он напился в прошлый раз, обещал его высечь. Селифан покорно согласился с господской волей, на что Чичиков не нашел что ответить. Но в это время судьба как будто решила над ними сжалиться. Издали послышался собачий лай, и Селифан направил лошадей вперед. Бричка ударилась оглоблями в забор и остановилась. Чичиков послал Селифана отыскивать ворота, но собаки громким лаем первыми известили хозяев о его приезде.
Селифан принялся стучать, и скоро, отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и барин со слугою услышали хриплый бабий голос:
Кто стучит? чего расходились?
Приезжие, матушка, пусти переночевать, - произнес Чичиков.
Вишь ты, какой востроногий, - сказала старуха, - приехал в какое время! Здесь тебе не постоялый двор: помещица живет.
Что ж делать, матушка: вишь, с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи.
Да, время темное, нехорошее время, - прибавил Селифан.
Молчи, дурак, - сказал Чичиков.
Да кто вы такой? - сказала старуха.
Дворянин, матушка.
Слово «дворянин» заставило старуху как будто несколько подумать.
Погодите, я скажу барыне, - произнесла она и минуты через две уже возвратилась с фонарем в руке…
Чичикова проводили в тесно заставленную, захламленную комнату. Спустя минуту вошла хозяйка, «женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, одетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов».
Чичиков извинился за неожиданный приезд, попросил хозяйку ни о чем не беспокоиться, и поинтересовался, в какие места он заехал и далеко ли отсюда живет помещик Собакевич. Хозяйка сообщила, что ни о каком Собакевиче не слышала. На его вопрос, не знает ли она Манилова, она ответила, что такого помещика тоже не знает. Имена ее соседей, которые она перечислила, Чичикову были неизвестны. Единственное, что ему удалось от нее узнать, это то, что до города еще шестьдесят верст. Чичикову стало ясно, что они заехали в «порядочную глушь». Он попросил хозяйку высушить и вычистить его одежду. Она показала ему постель, пожелала спокойной ночи и напоследок спросила, не нужно ли ему еще чего-нибудь: «Может ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал тебе на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал». Но Чичиков отказался от почесывания пяток, взобрался на высокую постель так, что все перья разлетелись в стороны, и заснул.
Проснувшись поздно утром, он прежде всего подошел к окну и начал рассматривать хозяйство. Заметил, что деревенька была не мала, огород ухожен, а крестьянские избы, следовавшие за огородом, содержались в порядке и «показывали довольство обитателей». Для Чичикова все это служило хорошим поводом поближе познакомиться с хозяйкой. Увидев в щелочку двери, что старушка пьет чай, он вошел к ней «с веселым и ласковым видом» и поинтересовался о проведенной ночи и здоровье. Старушка пожаловалась на бессонницу, боли в костях и пояснице и предложила присоединиться к завтраку. Следует заметить, что говорил с хозяйкой более свободно, чем с Маниловым. Будучи, как и любой русский, знакомым с наукой общения, для каждого конкретного случая он умел находить нужный тон. Сейчас он решил не церемониться, и, познакомившись со старушкой, сразу же повел разговор об интересующем его предмете.
А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся... приехал в ночное время...
Коробочка, коллежская секретарша.
Покорнейше благодарю. А имя и отчество?
Настасья Петровна.
Настасья Петровна? хорошее имя Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна.
А ваше имя как? - спросила помещица. - Ведь вы, я чай, заседатель?
Нет, матушка, - отвечал Чичиков, усмехнувшись, - чай, не заседатель, а так ездим по своим делишкам.
А, так вы покупщик! Как же жаль, право, что я продала мед купцам так дешево, а вот ты бы, отец мой, у меня, верно, его купил.
А вот меду и не купил бы.
Что ж другое? Разве пеньку? Да вить и пеньки у меня теперь маловато: полпуда всего.
Нет, матушка, другого рода товарец: скажите, у вас умирали крестьяне?
Ох, батюшка, осьмнадцать человека - сказала старуха, вздохнувши. - И умер такой все славный народ, все работники. После того, правда, народилось, да что в них: все такая мелюзга; а заседатель подъехал - подать, говорит, уплачивать с души. Народ мертвый, а плати, как за живого. На прошлой неделе сгорел у меня кузнец, такой искусный кузнец и слесарное мастерство знал.
Разве у вас был пожар, матушка?
Бог приберег от такой беды, пожар бы еще хуже; сам сгорел, отец мой. Внутри у него как-то загорелось, чересчур выпил, только синий огонек пошел от него, весь истлел, истлел и почернел, как уголь, а такой был преискусный кузнец! и теперь мне выехать не на чем: некому лошадей подковать.
На все воля божья, матушка! - сказал Чичиков, вздохнувши, - против мудрости божией ничего нельзя сказать... Уступите-ка их мне, Настасья Петровна?
Кого, батюшка?
Да вот этих-то всех, что умерли.
Да как же уступить их?
Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги.
Да как же? Я, право, в толк-то не возьму. Нешто хочешь ты их откапывать из земли?
Чичиков увидел, что старуха хватила далеко и что необходимо ей нужно растолковать, в чем дело. В немногих словах объяснил он ей, что перевод или покупка будет значиться только на бумаге и души будут прописаны как бы живые.
Да на что ж они тебе? - сказала старуха, выпучив на него глаза.
Это уж мое дело.
Да ведь они ж мертвые.
Да кто же говорит, что они живые? Потому-то и в убыток вам, что мертвые: вы за них платите, а теперь я вас избавлю от хлопот и платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще сверх того дам вам пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?
Право, не знаю, - произнесла хозяйка с расстановкой. - Ведь я мертвых никогда еще не продавала…
Коробочка вроде бы поняла, что дело выгодное, но так как оно было новым и необычным, побаивалась быстро принимать решение. Все убеждения Чичикова в том, что продав мертвых крестьян, она ничего не потеряет, а, напротив, выиграет, не оказывали должного действия, и он начинал выходить из терпения. А Коробочка, боясь продешевить, старалась уклониться от ответа.
Право, - отвечала помещица, - мое такое неопытное вдовье дело! Лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам.
Страм, страм, матушка! просто страм! Ну что вы это говорите, подумайте сами! Кто же станет покупать их? Ну какое употребление он может из них сделать?
А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся... - возразила старуха, да и не кончила речи, открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет.
Мертвые в хозяйстве! Эк куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?
С нами крестная сила! Какие ты страсти говоришь! - проговорила старуха, крестясь…
Вместо мертвых крестьян Коробочка стала предлагать Чичикову пеньку, и он «вышел совершенно из границ всякого терпения, схватил в сердцах стулом об пол и посулил ей черта».
Да не найдешь слов с вами! Право, словно какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворняжка, что лежит на сене: и сама не ест сена, и другим не дает. Я хотел было закупать у вас хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду... - Здесь он прилгнул, хоть и вскользь и без всякого дальнейшего размышления, но неожиданно удачно.
Обещание Чичикова закупить позднее другие товары подействовало на Коробочку, и она согласилась продать ему мертвых крестьян. Он поинтересовался, есть ли у нее в городе знакомые, которые могли бы скрепить сделку, и она назвала сына протопопа Кирилла. Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо, и даже сам вызвался его сочинить. Оба были довольны соглашением. Коробочка надеялась, что покупатель вскоре заберет у нее муку и скотину. А уставший от утомительных переговоров Чичиков, выйдя в гостиную, достал свою шкатулку с документами и гербовой бумагой, и начал писать. Затем попросил Коробочку подписаться и продиктовать ему список умерших мужиков. Но оказалось, что помещица не вела никаких списков, а всех крестьян - и живых, и мертвых, - знала наизусть. Когда дело было сделано, Коробочка пригласила гостя к столу.
Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и невесть чего не было.
Пресный пирог с яйцом! - сказала хозяйка.
Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом, и, съевши тут же с небольшим половину, похвалил его. И в самом деле, пирог сам по себе был вкусен, а после всей возни и проделок со старухой показался еще вкуснее.
А блинков? - сказала хозяйка.
В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить его бричку. Настасья Петровна тут же послала Фетинью, приказавши в то же время принести еще горячих блинов.
У вас, матушка, блинцы очень вкусны, - сказал Чичиков, принимаясь за принесенные горячие.
Да у меня-то их хорошо пекут, - сказала хозяйка, - да вот беда: урожай плох, мука уж такая неавантажная... Да что же, батюшка, вы так спешите? - проговорила она, увидя, что Чичиков взял в руки картуз, - ведь и бричка еще не заложена.
Заложат, матушка, заложат. У меня скоро закладывают.
Так уж, пожалуйста, не позабудьте насчет подрядов.
Не забуду, не забуду, - говорил Чичиков, выходя в сени…
Пока закладывали бричку, Чичиков попросил Коробочку объяснить, как добраться до большой дороги. Но она предложила ему в проводники девчонку, только попросила не завозить ее далеко. Чичиков пообещал не завозить, и Коробочка стала рассматривать все, что было во дворе, и понемногу мысленно перенеслась в хозяйство. Когда бричка была готова, позвали Пелагею - девочку лет одиннадцати в простом легком платье, с босыми ногами. Все попрощались и кони тронулись. Селифан в дороге был серьезен и внимателен, что бывало с ним всегда, когда он чувствовал себя виноватым, время от времени спрашивал у сидевшей рядом девчонки вправо или влево направлять лошадей. А она показывала рукой на дорогу, хотя не знала где право, а где лево. Вскоре показалась столбовая дорога, и Селифан велел девчонке возвращаться домой. Чичиков дал ей медный грош, и она побрела восвояси.
Перед тобой, дорогой читатель, третий том «Мёртвых душ», который Николай Васильевич Гоголь только задумал при создании первого тома, но ни одной строчки не написал, а второй том постигла печальная участь, о которой знает каждый поклонник творчества Гоголя.
Мечтой жизни Юрия Арамовича Авакяна было воссоздание второго тома поэмы «Мёртвых душ» Николая Васильевича Гоголя. Перед Юрием Арамовичем стояла необыкновенно сложная задача - воссоздать текст второго тома, бережно сохраняя и стиль, и язык автора бессмертного произведения; максимально используя фрагменты оригинального текста, те, что сохранило для нас Провидение.
В 1994 году второй том был воссоздан. Заново были написаны семь глав, те, которые в своё время не пощадил огонь, дописаны недостающие фрагменты второй, четвёртой и заключительной одиннадцатой главы. Второй воссозданный том «Мёртвых душ» - дань безмерного восхищения творчеству великого Человека, преклонении перед его памятью и осуществлённая мечта Юрия Авакяна.
После поступления второго воссозданного тома в продажу, Юрий Арамович получил огромное количество отличных отзывов от читателей. Второй воссозданный том признали не только российские гоголеведы. Отличные отклики приходили и от иностранных рецензентов. Это вдохновило Юрия Авакяна дописать трилогию до конца, как с самого начала и задумывал Николай Васильевич Гоголь.
Юрий Авакян к тому времени тяжело болел и знал, что жить ему остаётся немного. Но не смотря на болезнь он продолжал работать над книгой каждый день. Третий том был закончен в мае 2008 года, а 8 февраля 2009 года Юрий Арамович скончался. Он был похоронен 11 февраля, в день сожжения Гоголем второго тома «Мёртвых душ».
Юрий Арамович долго думал, как завершить третий том, долго сомневался, но всё-таки решил построить судьбу главного героя так, как она заканчивается в этом произведении.
Читатель пусть сам решит, правильно ли поступил автор с героями поэмы, особенно с Чичиковым, судьба которого крайне неожиданна, но другого быть и не могло, так считал Юрий Авакян.
Отдаем на суд читателей это крайне смелое произведение.
Светлана Владимировна Авакян
http://www.deadsouls2.ru
Что бы там кто ни говорил, господа, а всё же надобно, конечно же, надобно пожить и в столицах! Пускай и ненадолга, пускай изредка, но покидать свои насиженные медвежьи углы, хотя бы и для того только, чтобы вдохнуть в себя всю эту столичную жизнь со всеми ея разнообразными шумом и гамом, со всею ея праздничною и праздною суетою, что будто бы растворена в воздухе - ветром летающим над широкими нарядными прошпектами, по которым снует взад и вперёд люд различного сословия и наружности, и проносятся с громоподобным грохотом чудесные экипажи, просыпая на мостовую искры из-под копыт резвых, косящих налитым кровью глазом коней, тех, что послушны лишь до щёлканья кнутов толстых надменных кучеров, да криков форейторов правящих сиими великолепными, крытыми сверкающим лаком каретами, в запятки которых вцепляются гренадерского росту ливрейные лакеи, с чьих париков летит сдуваемая на бегающим воздушным потоком белая пудра, так что порою кажется, словно их глядящие поверх экипажей головы дымятся на быстром встречном ветру.
Здесь же, ежели повезёт кому, то может увидать сей благословенный счастливец, как мелькнёт во глубине такой вот, точно бы сошедшей с картинки из модного парижскаго журнала кареты, сквозь неплотно занавешенное оконце, то величавый профиль вельможи, отправляющегося лишь по ему ведомым, государственной важности делам, то кокетливая, изящная шляпка, с глядящею из-под нея парою прелестных глазок, тех, что могут не просто ранить бедное сердце, но и вовсе разбить его вдребезги; и тогда вдруг родится в душе тревожное и радостное вместе чувство, и позовёт, повлечёт за собою с какою-то необоримою силою, куда-то к неведомой и непрожитой, никогда не бывшей с тобою жизни, где одни лишь счастье, покой да любовь... Да, что там ни говори, а всё же надобно пожить и в столицах, господа, надобно!
Поливаемый обильно холодными струями вечернего весеннего дождя, тащился по раскисающей мокрой дороге темнеющий в сумерках экипаж. При ближайшем рассмотрении оного становилось видно, что это не просто некое, теряющее очертания в вечернем воздухе пятно, издающее жалобныя стоны и скрыпы, но довольно ещё новая, разве что не щегольская коляска, наматывающая на стройныя колёсы своя комья липкой грязи и глины, из коих, собственно и слагалась вся эта вымокшая под дождём дорога, так что вознице и располагавшейся с ним рядком на козлах фигуре, как надо думать относившейся к лакейскому сословию, то и дело приходилось соскакивать с козел, расплёскивая стоявшую лужами грязь, с тем, чтобы соскрести глину, плотно убиравшую не одни только шины и ободья колёс, но и самые их шпицы.
Подобные частые остановки, признаться кажущиеся и нам чрезмерными, как надобно думать, сказывались на настроении хоронящегося за плотно запахнутою кожаной полостью седока, потому, как всякий раз, едва лишь коляска прерывала своё и без того медленное движение, уж упомянутая нами кожаная полость приоткрывалась, и из-за неё раздавался голос с явно звенящею в нем ноткою нервического неудовольствия.
Ну что вы опять возитесь, болваны, что там у вас опять за напасть?
На что «болваны», поворотивши к коляске перемазанные грязью физиогномии, принимались с сурьёзностью объяснять строгому своему барину, что следовать далее с таковыми комьями глины на колёсах «ну никак невозможно».
Доколе же толковать тебе, образина, по траве поезжай, по траве! По полю либо по обочине! Чего может быть проще? Вот и не будешь грязь со всей дороги на колёсы цеплять! - снова звучал прежний голос, чьи раздражённыя замечания, как можно было догадаться, относились до кучера поражавшего таящегося в коляске седока своею нерадивостью.
Но у кучера на сей предмет видать имелись иные соображения, потому, как, взобравшись на козлы после новой порции липкой грязи соскобленной им с колёс, он словно бы ненароком заводил с сидящим с ним рядом лакеем незамысловатый разговор, на самом деле предназначавшийся сердитому барину, которому напрямую перечить опасался.
Оно конечно можно бы и по полю, - словно бы размышляя вслух, говорил он, - ну а не ровен час, какой из коней в нору провалится, ноги себе переломает? Да и с обочины в канаву запросто сползтить можно; тогда не только что колёсы, тогда!..
И многозначительно вздохнувши, он снова замолкал, предоставляя спутникам своим возможность самим вообразить те ужасные последствия, что могли бы приключиться «тогда».
Наконец миновали они последнюю станцию на пути ко влекущей их долгожданной цели, коей являлась, как верно вы уж догадались, благословенная наша столица, и нетерпение ещё сильнее взыграло в их сердцах. Небо тёмное, укрытое тёмными же плотными облаками оставалось у них за спиною, уступая место освещённому бесчисленными огнями небосводу, возвещавшему об их приближении к огромному, невиданному ими доселе граду. Нетерпеливый наш седок, распахнувши кожаную полость, то и дело высовывался из коляски и, приподнимаясь на носки ладных лаковых полусапожек, стремился получше разглядеть брезжившие впереди огни. Что, согласитесь, вовсе небезопасно проделывать на российских наших дорогах, где рытвина соседствует с ухабом, тот – с выбоиною и все они дружно сплетаясь воедино с канавою, упираются в большую чёрную кочку. Но сие рвение его вполне возможно было и понять и объяснить: ибо поскорее хотелось узреть ему тот самый город, что влечёт к себе и манит, не только изо всех обширных просторов отечества нашего, несметные толпы народу, жаждущего обресть в пределах его удачу богатство и успех, но и многочисленных чужестранцев, хорошо понимающих то, что нигде не удастся им так легко и быстро обзавестись состоянием, как в России.