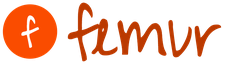Правление андропова и черненко кратко. История России от Рюрика до Путина
Председатель КГБ Советского Союза , был избран генеральным секретарем ЦК КПСС 12 ноября 1982 года, через день после смерти Леонида Ильича Брежнева от сердечного приступа.
Юрий Владимирович, как типичный «кагэбэшник», сразу начало свою деятельность на посту генсека с наведения порядка. Преследование диссидентов и разного рода «сектантов» усилилось. Большинство расслабившихся и разжиревших чиновников (особенно представителей «днепропетровской мафии», то есть «друзей» Брежнева и Хрущева из центральной и восточной Украины) было смещено со своих должностей, а некоторые - отправлены за решетку.
Юрий Андропов вполне мог стать тем человеком, кто смог бы вывести Союз из «застоя» Брежнева , а также предотвратить кризис, который произошел через семь лет. Но 9 февраля 1984 года генеральный секретарь умер, согласно официальному заявлению, от отказа почек, вызванного давней почечной недостаточностью. Однако, согласно интервью последнего председателя КГБ Владимира Крючкова «Комсомольской правде», в 2007, Юрий Владимирович более 10 лет боролся с тяжелым заболеванием - раком головного мозга, и в последние дни руководства болезнь прогрессировала. В результате генсек ЦК КПСС застрелился.
Черненко.
13 февраля 1984 года Центральный Комитет КПСС избрал генеральным секретарем Константина Устиновича Черненко , мягкого, слабого и очень больного человека. На момент избрания новоиспеченный генсек страдал от тяжелой сердечной, легочной и почечной недостаточности. Однако бюрократам из Политбюро такой кандидат был выгоден. В кратчайшие сроки были возвращены все чиновники, смещенные Андроповым, в том числе представители «днепропетровского клана».
Черненко задумал несколько серьезных реформ в сфере труда и образования, но реализовать их не успел.
Бандиты времен социализма (Хроника российской преступности 1917-1991 гг.) Раззаков Федор
Андропов и Черненко
Андропов и Черненко
Смерть Ю. Андропова. Заказное убийство в Ташкенте.
В том же октябре 1983 года тяжело больной Юрий Андропов перестал непосредственно руководить Политбюро и ЦК, окончательно перебравшись в Кунцевскую больницу. Когда в сентябре во время отдыха в Крыму он простудился и «заработал» себе флегмону, ему была сделана операция, после которой он уже не покидал больничных покоев. Здоровье его ухудшалось с каждым месяцем. К зиме Андропов уже не мог ходить и плохо видел. В это время председателю КГБ СССР Виктору Чебрикову пришло письмо за подписью двух высокопоставленных чекистов. В нем они утверждали, что лечение Андропова поставлено из рук вон плохо, и требовали от Чебрикова немедленного вмешательства. Председателю КГБ не оставалось ничего иного, как вызвать на Лубянку начальника 4-го Управления Минздрава Евгения Чазова.
Узнав о письме чекистов, Чазов в свою очередь отреагировал на него весьма нервозно. Двое ничего не смысливших в медицине людей пытались учить его, академика, как ему лечить. Есть от чего возмутиться. К тому же болезнь Андропова была слишком тяжелой, чтобы не понимать, что он, в сущности, обречен и спасти его вряд ли кому удастся.
В конце января 1984 года из-за нарастающей интоксикации у Андропова стали появляться симптомы выпадения сознания. Смерть его ждала с минуты на минуту. Она наступила 9 февраля 1984 года. И сразу же как отголосок того письма, что пришло зимой 1983 года Чебрикову, на свет явился документ, который один из агентов ленинградского КГБ, вернувшийся из Москвы, положил на стол своего начальства. Вот его текст: "Среди персонала 1-го медицинского института, связанного с 4-м Главным управлением Минздрава СССР, циркулируют разговоры о загадочности смерти Генерального секретаря ЦК КПСС. По мнению ряда специалистов, в ГУ есть люди, которые на ранней стадии болезни Андропова умышленно вели неправильный курс лечения, что впоследствии привело к его безвременной кончине. На более поздней стадии ведущие специалисты страны были бессильны что-либо сделать, несмотря на все предпринимавшиеся ими меры. Люди, «залечившие» Андропова, связаны с группировкой (название условно) некоторой части партийных аппаратчиков в Москве, которым пришлись не по вкусу позитивные изменения и реформы, начатые Андроповым, в частности намерение изменить "кремлевский паек", призывы к личной скромности партийных работников, обращение к ленинским идеалам коммуниста. Один бывший ответственный сотрудник Госплана СССР подтвердил изложенное выше и добавил, что Андропова убрали".
Действительно, убрать Ю. Андропова тогда мечтали многие. Его активные действия по наведению порядка в стране путали карты многим «авторитетам» как из высшего партийного звена, так и представителям уголовного мира. Проводимые КГБ аресты по всей стране обрывали привычные, десятилетиями налаженные связи в мафиозной среде, сеяли в ней страх и неуверенность в завтрашнем дне. Но не все было столь мрачно. Крылатая фраза "Мафия бессмертна!" и здесь находила свое подтверждение. Преступная система, ее фундамент так и остались нетронутыми.
24 января 1984 года УБХСС Главного управления внутренних дел Мосгорисполкома провело аресты преступников в магазине «Автомобили» на Южнопортовой, 22. Почти вся администрация магазина, занимавшаяся махинациями с продажей импортных и отечественных автомобилей, была нейтрализована. Однако это только на небольшое время оздоровило обстановку на этом криминальном пятачке столицы. В скором времени свою широкую длань наложат на это место чеченцы, сладить с которыми будет уже не так просто.
После кратковременного пребывания Ю. Андропова у власти отечественная мафия довольно быстро приспособилась к ситуации и принялась активно наверстывать упущенное. Не успело тело бывшего Генерального секретаря остыть, как в Москве уже состоялась встреча между крупным государственным руководителем и корифеем московской коррупции по вопросу расстановки сил в правительстве, в партии, в Мосгорисполкоме. Факт этот не удалось скрыть от вездесущих глаз КГБ и МВД. И вот уже В. Федорчук докладывает в ЦК КПСС о срастании коррумпированных элементов милиции с мафией. По этому поводу в далекой Уфе КГБ СССР собрал специальное совещание служб оперативного обслуживания МВД. По данным КГБ, в Москве действовало около трехсот чиновников-мафиози, причем около сотни из них - сотрудники милиции. Порой в своих преступных посягательствах они не останавливаются ни перед чем. К примеру, в Узбекистане в декабре 1983 года произошло убийство начальника отдела дорожно-патрульной службы ташкентской ГАИ Юлдашева, организованное командиром полка дорожно-патрульной службы того же города Джанзаковым. Последний продвигался по службе благодаря денежным подачкам самому начальнику ташкентской ГАИ полковнику Салахитдинову. В августе 1983 года Салахитдинова сняли с должности, и на его место претендовали двое: Юлдашев и Джанзаков. Причем у первого шансов занять это место было гораздо больше. И тогда Джанзаков решается на крайние меры. Через старшего лейтенанта ГАИ Нурмухамедова он находит наемного убийцу - дважды судимого Ибрагимова. Но тот в последний момент отказывается. Тогда убрать Юлдашева вызываются командир взвода полка ДПС УГАИ УВД старший лейтенант Камбаритдинов и бывший слесарь Ташкентского трамвайно-троллейбусного управления Жаманов.
5 октября 1983 года Джанзакова назначают начальником ташкентского УГАИ. Казалось, на этом можно успокоиться. Но в республиканское МВД поступают две анонимки, характеризующие нового начальника как махрового взяточника. Джанзаков связывает это с одним именем - Юлдашева. И торопится устранить его.
Вечером 20 декабря Юлдашев на своей служебной машине ехал с работы домой. За ним следовали «жигули», за рулем которых сидел старший лейтенант Камбаритдинов. На заднем сиденье с ружьем на изготовку находился Жаманов. На Фархадской улице, когда «жигули» поравнялись с машиной Юлдашева, Жаманов через боковое окно произвел выстрелы в упор. Пули пробили голову и проникли в мозг. Через несколько минут в салоне реанимобиля Юлдашев скончался, не приходя в сознание.
В феврале 1984 года на место Ю. Андропова пришел Константин Черненко. Генсек физически был таким же инвалидом, как и прежний. Причем угасать они начали почти одновременно - осенью 1983 года. В те дни, когда у Андропова вследствие простуды развилась флегмона, у Черненко началась тяжелейшая токсикоинфекция с осложнениями в виде сердечной и легочной недостаточности. «Удружил» ему в этом сам министр внутренних дел Виталий Федорчук. Началось все в августе, когда Черненко отдыхал в Крыму. Именно туда из Москвы Федорчук прислал на имя Черненко посылку, в которой была приготовленная в домашних условиях копченая рыба. Охрана, принявшая посылку, понадеялась на солидное имя и звание отправителя и не подвергла рыбу тщательному досмотру. А она оказалась недоброкачественной. Отравившись ею, Черненко впал в тяжелейшее состояние, и врачи срочно транспортировали его в Москву. Жизнь буквально висела на волоске. После интенсивного лечения удалось предотвратить самое худшее, но полностью восстановить здоровье Черненко было уже невозможно. Он оставался тяжелобольным человеком и мог работать, только используя лекарственные средства и проводя ингаляцию кислородом. Все члены Политбюро прекрасно знали об этом состоянии Черненко и все же пошли на то, чтобы избрать его Генеральным секретарем ЦК КПСС. Сделано это было не без влияния министра обороны Дмитрия Устинова, который, как и многие другие члены Политбюро, боялся усиления позиций министра иностранных дел Андрея Громыко, тоже претендовавшего на пост Генсека. Однако Громыко устраивал немногих, тогда как больной и покладистый Черненко годился всем.
С приходом к власти К. Черненко многие попавшие в опалу при Ю. Андропове люди вновь вернулись к активной деятельности. Правда, значимость многих из них была чисто символической. Например, Галина Брежнева вновь замелькала на великосветских раутах, а сталинский нарком Вячеслав Молотов был восстановлен в рядах КПСС.
Однако 15-месячное пребывание Ю. Андропова на посту Генсека не прошло бесследно: он лично подготовил и ввел во многие партийные и государственные структуры целую плеяду деятелей, готовых продолжить начатое им дело. Молодое поколение рвалось к власти, и ничто уже не могло остановить этих людей на пути к заветной цели.
Из книги Тайны афганской войны автора Ляховский Александр АнтоновичЧего не успел сделать Андропов? Вскоре после своего избрания на пост Генерального секретаря ООН в январе 1982 года Перес де Куэльяр назначил своим заместителем Диего Кордовеса, который в апреле вылетел в Кабул, затем в Исламабад с целью подготовки почвы для проведения
Из книги Гибель советского кино. Тайна закулисной войны. 1973-1991 автора Раззаков ФедорАндропов против Рейгана Тем временем в ноябре 1982 года страна потеряла своего многолетнего лидера – Леонида Брежнева. Престарелый Генеральный секретарь ЦК КПСС и Председатель Президиума Верховного Совета СССР скончался 10 ноября, не дожив чуть меньше полутора месяцев до
Из книги Гибель советского ТВ автора Раззаков ФедорОт Андропова до Черненко «Русисты» на ЦТ. Отставка С. Лапина.После смерти Л. Брежнева в ноябре 1982 года многим в «верхах» показалось, что дни Сергея Лапина на посту руководителя Гостелерадио сочтены. Ведь ни для кого не было секретом, что тот пользовался безграничным
Из книги Сталинская гвардия. Наследники Вождя автора Замостьянов Арсений АлександровичЮрий Владимирович Андропов От Лубянки до Кремля Любимое журналистское определение – человек-тайна – так и напрашивается в заглавие очерка об Андропове.В фильме «ТАСС уполномочен заявить», снятом под патронажем КГБ во время недолгого правления генерального секретаря
Из книги Тайный канал автора Кеворков ВячеславАндропов против Андропова Вскоре стало ясно, что гораздо больше, чем идеологические разногласия между германскими социал-демократами и советскими коммунистами, Брандта волновала судьба писателя Солженицына.Это было как раз то время, когда набирала силу конфронтация
Из книги Андропов вблизи. Воспоминания о временах оттепели и застоя автора Синицин Игорь ЕлисеевичАндропов на фоне застоя Об Андропове написано много книг, сотни журнальных и газетных статей. Большинство авторов расценивают его пятнадцатилетнюю работу во главе КГБ как продуманную и долговременную стратегию на выживание среди кремлевских интриганов, а также как его
Из книги Советский анекдот (Указатель сюжетов) автора Мельниченко МишаАндропов и КГБ Каждое рабочее утро, включая субботнее, в течение шести лет в моем кабинете раздавался звонок дежурного офицера приемной председателя: «Юрий Владимирович на подходе!..» Как правило, я выглядывал в широкое окно, чтобы увидеть, куда с Театрального проезда
Из книги автораАндропов 1278. После единогласного избрания Андропова генсеком: «Проголосовавшие, опустите руки и отойдите от стенки!». / Политбюро окружают «люди в штатском», все поднимают руки. Андропов: «Теперь одну руку можно опустить. Ну вот, единогласно».1278A. СБ: *1983 [ШТ 1987: 279] 1278B. СБ:
Из книги автораЧерненко *1322. Брежнев: «Предлагаю почтить память товарища Черненко минутой молчания!» – «Вот же он сидит – живой!..» – «Живой-то живой, а память уже потерял…»*1322A. СБ: н.д. [НЮ 2009: 421]1323. А/р «Что унаследовал Черненко от Брежнева?» – «Сенильность».1323A. СБ: *1984 [ШТ 1987: 286]1324. А/р «Кто
Советский союз в период правления Ю.В.Андропова и К.У.Черненко
Проектная работа
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………...…..3
ГЛАВА I . ПРИХОД К ВЛАСТИ АНДРОПОВА …………………..4-7
ГЛАВА II .ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ В СССР……....8-15
2.1 .Перемены при Андропове ……………...…...……………….8-12
2.2 .Приход к власти Черненко ………………...…………..….12-15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………….…………........16-17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ….……….....…….18
ВВЕДЕНИЕ
Брежнев умер в ноябре 1982. Юрий Андропов был избран новым руководителем партии, а в июне 1983 занял также пост главы государства. Он начал широкую кампанию по ужесточению дисциплины и интенсификации труда, обещал бороться с коррупцией и осуществить некоторые перемены в экономики (наподобие реформы 1965). Были заменены пятая часть министров, региональных первых секретарей партии и св. трети глав отделов ЦК. Во внешней политики в целом продолжался курс Брежнева; отношения с Западом продолжали ухудшаться, особенно после начала размещения в Западной Европе американских ракет средней дальности в 1983. Андропов был тяжело болен, и в феврале 1984 умер.
Вопреки ожиданиям, пост лидера партии занял не сторонник Андропова Михаил Горбачев, а его соперник Константин Черненко. Он прекратил кадровые перестановки и начатую Андроповым кампанию против коррупции, выступал за увеличение капиталовложений в легкую промышленность, сферу услуг и сельское хозяйство, за сокращение непосредственного вмешательства партии в руководство экономикой и за более внимательное отношение к общественному мнению. Несмотря на его заявления, реальных изменений в отношениях с Западом не произошло, хотя СССР и США договорились возобновить в 1985 переговоры о контроле над вооружениями. В марте 1985 больной Черненко умер. При поддержке влиятельного министра иностранных дел Андрея Громыко пост лидера партии занял Горбачев.
Цель:
Рассмотреть положение советского союза в период правления Ю.В.Андропова и К.У.Черненко.
Задачи:
- Какие изменения произошли в советском союзе за период правления Ю.В.Андропова?
- Перемены в советском союзе в период правления К.У.Черненко.
- Рассмотреть итоги социализма.
ГЛАВА I . ПРИХОД К ВЛАСТИ АНДРОПОВА
1.1 Итоги строительства социализма в СССР
10 ноября 1982 г. умер Л.И.Брежнев. Через два дня Пленум ЦК КПСС избрал Генеральным секретарем 68-летнего Юрия Владимировича Андропова, прослужившего Брежневу «верой и правдой» 15 лет на посту Председателя КГБ, за что он был удостоен золотой медали «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда в 1974 г. и бриллиантовой маршальской звезды в 1976 г.
Восхождение к вершинам КПСС нового Генсека началось в 1936 г., когда 22-летний Юрий после окончания техникума водного транспорта стал комсоргом ЦК ВЛКСМ судоверфи им. Володарского в г. Рыбинске. В 1937 г. он был избран секретарем, а в 1939 г. первым секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ. В 1939 г. вступил в ВКП(б). Учился в Петрозаводском государственном университете и в Высшей партийной школе при ЦК. В 1940 г. ~ секретарь ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР. С 1944 г. 30-летний Юрий Владимирович на партийной работе второй секретарь Петрозаводского ГК ВКП(б). В 1947 г. секретарь ЦК ВКП(б) Г.М.Маленков представил его И.В.Сталину, после чего Ю.В.Андропов стал вторым секретарем ЦК КП(б) Карело-Финской ССР, а в 1951 г. был переведен в аппарат ЦК ВКП(б). В 19531957 гг. он Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Венгерской Народной Республике. После подавления антисоциалистических выступлений в Венгрии возвращается на работу в аппарат ЦК КПСС. Будучи заведующим отделом ЦК КПСС в 1961 г., избирается в состав ЦК. Одновременно с ноября 1962 г. секретарь ЦК по проблемам социалистических стран. С мая 1967 г. Ю.В.Андропов назначается Председателем КГБ, а в июне избирается кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. В апреле 1973 г. он полноправный член Политбюро.
В конце января 1982 г. скончался главный идеолог, «второй человек» в КПСС М.А.Суслов, прозванный в народе «серым кардиналом», и лишь в мае столь важное и высокое место занял Андропов.
По воспоминаниям одного из работников аппарата ЦК, официальному избранию Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС предшествовала закулисная борьба между теми, «кто вел себя в те годы, как на пиру во время чумы, кого не только не беспокоила, но даже вполне устраивала обстановка
бесконтрольности, всепрощенчества и вседозволенности, кто не желал перемен в жизни партии и общества», и теми, кто еще мог соображать, что история воздаст каждому по его деяниям.
На Пленуме ЦК 12 ноября 1982 г. выступивший К.Черненко долго говорил о талантливом продолжателе ленинского дела, великом и неутомимом борце за идеалы мира, человеке, целиком жившем интересами общества, выдающемся руководителе, оставившем народу и партии драгоценное наследство творческой мысли, нетерпимость к любым проявлениям бюрократизма, недисциплинированности, народном вожде, которому был безмерно обязан сам выступающий, усопшем Л.И.Брежневе. О преемнике и соратнике ушедшего лидера было сказано скромно: «Все члены Политбюро считают, что Юрий Владимирович хорошо воспринял брежневский стиль руководства, брежневскую заботу о интересах народа, брежневское отношение к кадрам, решимость всеми силами противостоять проискам агрессоров, беречь и укреплять мир».
В своем первом докладе на Пленуме ЦК 22 ноября 1982 г. Андропов уверенно, сжато, четко, ясно, со знанием дела показал не только свою готовность управлять страной, но и быть в державе полноправным, единоличным хозяином. Анализируя бюрократические методы руководства и управления, новый лидер традиционно готовил общественное мнение к «окончательному» решению вековой проблемы: «Кто виноват и что делать?!». Руководители всех рангов должны были усилить свое рвение в служении новому главнокомандующему. Народ должен был ясно осознать, что для лучшей жизни надо еще «поднажать». Особое внимание в докладе нового Генерального секретаря было уделено экономике. «Производительность труда растет темпами, которые не могут нас удовлетворить», подчеркнул он. Речь Андропова раскрывала ужасный, катастрофический развал промышленности и сельского хозяйства; планы «выполняются» ценой «больших затрат и производственных издержек», «кое-кто» не знает как «взяться за дело», не действуют механизмы управления и планирования. Резко были осуждены леность и пассивность общества. «Нельзя двигаться только на лозунгах». Андропов представил основные меры и средства преодоления экономической стагнации. «Надо расширять самостоятельность объединений и предприятий, колхозов и совхозов», сделав ставку на необходимость усиления «ответственности за соблюдение общегосударственных, общенародных интересов... Плохая работа, бездеятельность, безответственность должны... сказываться на служебном положении». Новый лидер заверил участников Пленума ЦК КПСС, что
никакого, во всяком случае, поспешного или необдуманного, экономического переворота не будет. 23 ноября 1982 г. сессия Верховного Совета СССР избрала Ю.В.Андропова членом Президиума Верховного Совета.
21 декабря глава партии выступил на совместном торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР с докладом, посвященном 60-летию образования СССР.
Отметив, что стержнем национальной политики КПСС является «право наций на самоопределение как единственно надежное средство обеспечить их действительное, прочное сближение», Андропов утверждал: «Полностью подтверждена историческая правота учения МарксаЛенина о том, что решение национального вопроса может быть найдено только на классовой основе». Оценивая выводы Генерального секретаря ЦК КПСС, необходимо заметить, что решение национального вопроса является процессом длительным и вовсе не окончательно решенным даже на основе учения МарксаЛенина. Наивным было и убеждение, что «вместе с социальными антагонизмами ушли в прошлое национальная рознь, все виды расового и национального неравенства и угнетения». Вместе с тем, действительно, Союз во многом способствовал созданию единого экономического комплекса, изменилась социальная структура советского общества, возросли производственные мощности национальных республик, обогатилась культура народов СССР.
В докладе была дана принципиальная установка на укрепление Союза ССР, особенно в области экономики: «Современные производительные силы требуют интеграции даже тогда, когда речь идет о разных странах... Наиболее разумное использование природных и трудовых ресурсов, климатических особенностей каждой республики, наиболее рациональное включение этого потенциала в общесоюзный вот что принесет наибольшую выгоду каждому региону, каждой нации и народности, равно как и всему государству». Все это, без сомнения, являлось истиной.
Весьма важным являлось предупреждение хорошо осведомленного в вопросах государственной безопасности человека о том, чтобы «естественная гордость за достигнутые успехи не превращалась в национальную кичливость или зазнайство, не порождала тенденции к обособленности, неуважительного отношения к другим нациям и народностям». Традиционно, следуя примеру своих предшественников, Андропов сказал о дальнейшем развитии дружбы и сотрудничества народов СССР, которое «в значительной мере зависит от углубления социалистической демократии».
Говоря о внешнеполитическом значении 60-летнего Союза ССР, Андропов подчеркнул, что по мере создания социалистического лагеря «начал
складываться и совершенно новый тип международных отношений. В их основе идейное единство, общность целей, товарищеское сотрудничество
при полном уважении к интересам, особенностям и традициям каждой из стран. В их основе принцип социалистического интернационализма». Весьма туманно характеризуя «новый тип международных отношений», он твердо заверил, что «Советский Союз со своей стороны сделает максимум возможного для укрепления и процветания мирового социализма». Довольно смелое и самонадеянное заявление руководителя страны, народ которой еще не достиг нормального благосостояния.
Осуждая попытки империалистического давления на СССР, попытки «удушить» социализм, докладчик под бурные продолжительные аплодисменты уверенно заявил, что «из этого ничего не выйдет теперь». В заключение Андропов подчеркнул, что все «достижения и победы советского народа неразрывно связаны с деятельностью ленинской партии коммунистов».
ГЛАВА II . ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ В СССР
2.1.Перемены при Андропове.
Как личность Ю. В. Андропов существенно отличался от многих политических деятелей своего времени. Он был человеком острого и цепкого ума, выделялся ответственным отношением к делу, зная реальную ситуацию в стране и обществе. К данной характеристике можно добавить высокий уровень культуры, личную скромность и бескорыстие. Одновременно с этим, как политик своего времени он был явным представителем жесткой, силовой манеры действий. Наиболее громким делом стало расследование коррупции в МВД СССР. Его итогами стали самоубийство министра Ю. Щелокова и суд над его заместителем, зятем Л. Брежнева Ю. Чурбановым.
Андропов стремился добиться улучшения дел на всех участках социально-экономического развития страны, используя командные методы. Основная ставка делалась на укрепление управленческой, трудовой, партийной дисциплины. За 15 месяцев - с середины ноября 1982 г. до середины февраля 1984 г. было сменено 18 союзных министров, 37 первых секретарей обкомов, крайкомов КПСС, ЦК КП союзных республик.
Мероприятия по наведению порядка и дисциплины дали определенный эффект, привели в действие ряд резервов, позволили временно заблокировать развитие негативных тенденций. В 1983 г. статистикой были зафиксированы самые высокие темпы развития экономики страны с начала 80-х гг. Если в 1981-1982 гг. они составили 3,1 проц., то в 1983 г. - 4,2 проц.
Как политик Андропов реалистически оценивал социально-политическое положение страны. Им была высказана мысль о значительности исторической дистанции, отделявшей страну от высшей стадии коммунистической формации. Андропов был инициатором идеи школьной реформы, выдвигал предложения по кадровой политике, разграничению властных функций партии и Советов, идеологической работе. Его болезнь изменила соотношение сил в пользу консервативного крыла высшего партийного руководства. С конца сентября 1983 г. функции первого лица стал выполнять К.У. Черненко, Ю.В. Андропов быстро угасал, смерть наступила в феврале 1984 г. По ряду данных, не исключено, что, проживи он дольше, модернизация советского социума могла бы пойти по китайскому варианту - т. е. постепенно и медленно, но в направлении либерализации общественных отношений. Многие факты, в частности реакция общества на политику Ю. Андропова, свидетельствуют,
что большинство населения страны к середине 80-х годов продолжало оставаться приверженцами идеи общества социального равенства.
Считая, что «именно партия была и остается той могучей творческой, мобилизующей силой, которая обеспечивает непрерывное движение вперед на всех направлениях общественного прогресса», Андропов решил еще раз обратить внимание на «учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР», о чем и поведал в специальной статье тождественного названия, опубликованной в начале 1983 г. Наряду с догмами она содержала и новые подходы к решению назревших проблем советского общества. Утверждая, что наш век «век следующих одна за другой побед марксизма, его возрастающего воздействия на общественное развитие», лидер страны не раскрыл кризисных явлений, поразивших не только советское общество, но и социалистическую систему в целом. Марксизм-ленинизм не подвергался сомнению как основополагающее учение о социалистическом строительстве. Более того, по мнению Генерального секретаря ЦК КПСС, «человечество не ведало о самом себе и малой доли того, что оно узнало благодаря марксизму».
Автор статьи вынужден был констатировать, что «конкретные исторические пути становления социализма пролегли не во всем так, как предполагали основоположники нашей революционной теории». Отстаивая главное воплощение марксизма «уничтожение частной собственности», Ю.В.Андропов предупреждал, что «это длительный многоплановый процесс, который не следует упрощать».Затрагивая вопрос об экономии, рациональном использовании материальных, финансовых, трудовых ресурсов, от решения которого в большей степени зависело развитие страны, в статье повторялись не срабатывающие на практике марксистские догмы. Суть экономии «в бережливом отношении к общенародному достоянию, в инициативном и энергичном его преумножении». Ни слова не говоря о материальной заинтересованности, личной выгоде, хозяйской рачительности, Андропов подчеркнул главное: «...наша работа, направленная на совершенствование и перестройку хозяйственного механизма, форм и методов управления, отстала от требований, предъявляемых достигнутым уровнем материально-технического, социального, духовного развития советского общества», предупреждая «от всякого рода попыток управлять экономикой чуждыми ее природе методами», особенно «коммунистическим декретированием». Продолжая проповедовать основной лозунг социализма
«от каждого по способности, каждому по труду», Андропов прекрасно знал, что никогда советский человек не получал по труду, что и рождало пассивность его производственной деятельности и активность в партийной карьере.
Практика жизни показывала, что роль партии «по улучшению управления, повышению организованности, деловитости, плановой и государственной дисциплины» привела к диктату партийно-административного аппарата. Упрочение основ, на которых «зиждется социалистический образ жизни» также проводилось волевыми командными методами. Теоретизируя о партии как залоге «осуществления программы коммунистического строительства», Ю.В.Андропов продолжал развитие догмы о роли КПСС, которая «уделяет повседневное внимание созданию условий, развязывающих творческую самодеятельность трудящихся, их социальную активность, раздвигающих рамки самостоятельности промышленных предприятий, совхозов, колхозов». Панацеей от всех проблем Генсек считал совершенствование идеологии, развитие марксизма-ленинизма. «И чтобы не отстать от жизни, коммунисты должны во всех направлениях двигать и обогащать учение Маркса...»
Важнейшей задачей нового лидера было создание своей команды, ибо без кадровых перемен ему трудно было бы воплощать свои идеи, да и укрепить свои позиции в партаппарате. В состав Политбюро ЦК КПСС были введены Г.Л.Алиев (первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана), назначенный в ноябре 1982 г. первым заместителем Председателя Совета Министров СССР; В.И.Воротников председатель Совета Министров РСФСР; М.С.Соломенцев председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Кандидатом в члены Политбюро стал председатель КГБ СССР В.М.Чебриков.
Итак, в Политбюро наряду с «гвардией Ильича» В.Гришиным, Г.Романовым, Н.Тихоновым, К.Черненко вошли и соратники «железного Феликса» три генерала КГБ во главе с маршалом Генеральным секретарем ЦК, которого поддерживал его друг, министр обороны СССР Д.Ф.Устинов. Заметной фигурой при Андропове становился его земляк, работавший с 1978 г. секретарем ЦК, М.С.Горбачев, который в отсутствие Генерального часто вел Политбюро.
На одну из ключевых должностей аппарата ЦК заведующим отдела организационно-партийной работы был поставлен первый секретарь Томского обкома КПСС Е. К Лигачев, затем избранный секретарем ЦК.
«Человек феноменально активный, жесткий, обладающий несворачиваемой целеустремленностью мощного танка, как характеризовал его коллега по
команде Н.И.Рыжков, ...постепенно и ненасильно менял руководителей областных и краевых партийных организаций». За 15 месяцев (с середины
ноября 1982 г. по середину февраля 1984 г.) было сменено 18 союзных министров и приравненных к ним лиц, 37 первых секретарей обкомов, крайкомов КПСС, ЦК компартий союзных республик. Таких темпов кадровой ротации не было с 30-х годов, и все же, по мнению,близкого к Генеральному секретарю ЦК,академика Г.А.Арбатова, «Андропов просто не знал и не видел людей, которые могли бы заменить тех, кто достался ему по наследству... Андропов, хотя сам был другим, десятилетия жил и рос среди типичной для тех лет номенклатуры и... просто не представлял себе ее массовой замены. Как и раньше, он скорее рассчитывал на то, что повысив и приблизив к себе нескольких человек, сможет компенсировать слабости остальных и решит проблему». Не ограничиваясь кадровыми перестановками, Ю.В.Андропов начинает борьбу с коррупцией в партийно-советском аппарате, порожденной безответственностью и абсолютной безнаказанностью в брежневское правление. Тогда административным органам рекомендовалось не заводить каких-либо «дел» на партийно-советских руководителей. 11 декабря 1982 г. «Правда» опубликовала сообщение о заседании Политбюро, посвященном обсуждению писем трудящихся, недовольных беспорядками на производстве, нарушениями в распределении жилья, приписками, расхищением государственной собственности и другими противоправными действиями. Предложения по усилению санкций в отношении нарушений законности и справедливости демонстрировали намерение нового руководства страны энергично бороться со всеми видами преступной деятельности невзирая на лица. Однако кампания против коррупции скоро затихла. Но усилилась борьба за укрепление дисциплины. «...Без должной дисциплины, отмечал Ю.В.Андропов на встрече с коллективом московского завода им.С.Орджоникидзе в декабре 1982 г., трудовой, плановой, государственной мы быстро идти вперед не сможем. Наведение порядка действительно не требует каких-либо капиталовложений, а эффект дает огромный». Требования Генсека вылились в «отлов» опоздавших на проходных, прогульщиков в магазинах, кинотеатрах, банях. И все же внешний положительный эффект не внес решающих перемен в жизнь страны. Необходимы были кардинальные экономические меры, которые пробудили бы трудовую активность народных масс. В июне 1983 г.
на сессии Верховного Совета СССР был принят закон «О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями». Но при существующей идеологизации
советского общества приоритетными оставались командные методы партийно-административного аппарата, а не инициатива самих трудящихся.
2.2Приход к власти Черненко.
Черненко не был в состоянии повести страну и партию в будущее. Его «пришествие» стало знаком углубления общего кризиса общества, признаком полного отсутствия у партии позитивных программ, симптомом неизбежности грядущих потрясений. Не будучи авгуром, можно было сказать: черная птица грядущей беды для коммунизма появилась над Кремлем.
Новый генсек ничего не разрушал и не созидал. Он не имел ни явных врагов, ни больших политических друзей. Черненко не позвал страну поднимать новую «целину» или демонтировать систему тотальной слежки. Генсек был классическим бюрократом с посредственным мышлением.
Это было время тусклого безвременья. Обществом владело чувство апатии, политического равнодушия, какого-то смутного ожидания, а порой и нескрываемого интеллектуального смятения.
По телевизору награждали «победителей» соцсоревнования, народ выстаивал на улицах длинные очереди около полупустых магазинов, проводились многолюдные и многочасовые собрания партийных активов; переполненные электрички из ближнего и дальнего Подмосковья везли в столицу граждан «развитого социалистического общества», надеявшихся хоть что-то купить там; милицией наглухо перекрывалось движение на улицах, когда длинные черные «членовозы» (лимузины высшего руководства) после рабочего дня отвозили «неприкасаемых» в загородные подмосковные шикарные особняки.
В это время СССР вел необъявленную и непонятную людям войну в Афганистане.
После замученного Тараки пришел к власти его убийца Амин, которого, в свою очередь, советские спецназовцы расстреляли в его собственном дворце.
Посадили в Кабуле послушного и говорливого Кармаля, сменили его потом еще одним ставленником КГБ Наджибуллой… Но все эти перетасовки ничего не изменили и изменить не могли. СССР застрял в грязной войне, принимая ежедневно цинковые гробы со своими солдатами из соседней горной страны.
Приход Константина Устиновича Черненко к власти означал возврат к устоявшимся при Л. И. Брежневе порядкам. Трудно было представить на высшем посту более неподходящую фигуру. «Он был смертельно больным человеком, - писал бывший член Политбюро ЦК КПСС П. Е. Шелест, - в роли, которую он выполнял, на него было жалко смотреть».
Экономические показатели развития страны в 1984 г. резко поползли вниз, обозначая приближение глубокого кризиса. Вероятно, именно месяцы правления страной К.У. Черненко сыграли роль последнего довода, убедившего группу партийно-государственных руководителей высшего звена в необходимости крутого поворота.
В 70-80-е годы произошло существенное размывание харизмы политического лидера, прежде всего, в лицах Л. Брежнева и К. Черненко. Этому способствовали как политическая неспособность высших руководителей разрешить проблемы, возникшие в обществе, так и их физическая немощь, порочная страсть к чинам, званиям и наградам.
В целом, в течение четырех десятилетий, с середины 40-х до середины 80-х гг., СССР прошел сложный исторический путь: от ужесточения личной власти Сталина, в дальнейшем - либеральных начинаний периода «оттепели», их свертывания и стабилизации, укрепления позиций партийно-государственной бюрократии до неуклонного скатывания в состояние экономической стагнации, все большего отрыва официальных идеологических установок от общественной практики.
Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС стал естественной реакцией здравомыслящих сил в руководстве страны на нарастающую угрозу тотального кризиса.
С октября 1983 г. Ю.В.Андропов, по свидетельству главного «врача Кремля» Е.Чазова «перестал непосредственно конкретно руководить Политбюро и ЦК, Верховным Советом СССР и не появлялся в Кремле». 9 февраля 1984 г. Андропов скончался.13 февраля на Пленуме ЦК Генеральным секретарем был избран 73-летний Константин Устинович Черненко. Еще до
пленума, узнав о кулуарном решении, Е.Чазов сказал одному из влиятельнейших членов Политбюро, министру обороны СССР Д.Ф.Устинову: «Как можно избирать Генеральным секретарем тяжелобольного человека?». «Помню, в день Политбюро, рассказывал помощник Андропова А.И.Вольский, после смерти Андропова идут мимо нас в зал Устинов с Тихоновым. Министр обороны, положив руку на плечо премьер-министра, говорит: «Костя (т.е. Черненко.
В.П.) будет покладистее, чем этот...» (т.е. Горбачев. В.П.)». Больной, «мягкий, нерешительный и осторожный Черненко не мог противостоять ни Громыко, ни Устинову, ни Тихонову», да и другим волевым старцам. Вся трудовая деятельность нового лидера была связана с аппаратной работой в комсомольских, а затем партийных органах. В 18-летнем возрасте Черненко уже «глашатай большого скачка Сталина» заведующий отделом пропаганды и агитации Новоселовского РК ВЛКСМ Красноярского края. В 1930 г. он пошел добровольцем в Красную Армию, где в 20 лет вступил в ряды ВКП(б), был секретарем партийной организации заставы. После службы вновь в Красноярском крае: заведующий отделом пропаганды и агитации Новоселовского и Уярского РК ВКП(б), директор краевого дома партийного просвещения, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации, а затем секретарь крайкома партии. С 1943 г. Черненко учился в Высшей школе парторганизаторов при ЦК ВКП(б). После окончания учебы в 1945 г. работал секретарем Пензенского обкома партии. Через три года он был утвержден заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Молдавии, где руководил Л.И.Брежнев. В 1956 г. возглавлял сектор в отделе пропаганды и агитации ЦК КПСС. С 1960 г., по рекомендации Брежнева, был назначен начальником секретариата Президиума Верховного Совета СССР, а в 1965 г. вновь за «лидером» стал заведующим общим отделом ЦК КПСС. С 1966 г. кандидат в члены ЦК, в марте 1971 г. член ЦК, ровно через пять лет секретарь ЦК КПСС.По мнению его коллеги П.Родионова, «тут уже был большой перебор». Но в 1977 г. Черненко кандидат, а с 1978 г. член Политбюро ЦК КПСС...
«Лидером стал профессиональный канцелярист, а не политик, среднего пошиба бюрократ», так констатировал «взлет» К.Черненко академик Г.Арбатов.
В апреле 1984 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС был избран Председателем Президиума Верховного Совета СССР. «Встав во главе партии и государства, свидетельствовал Е.Чазов, Черненко честно пытался выполнять роль лидера страны. Но это было ему не дано и в силу отсутствия соответствующего таланта, широты знаний и взглядов и в сил
его характера. Но самое главное это был тяжелобольной человек... Добрый и мягкий человек, он попал в мясорубку политической борьбы и политических страстей, которые с каждым днем "добивали" его». В конце 1984 г. была опубликована программа нового лидера «На уровень требований развитого социализма. Некоторые актуальные проблемы теории, стратегии и тактики КПСС». Подчеркивая «зрелость» социализма, «партийный мыслитель» вынужден был признать исторически длительным этап развитого социализма. Не отказываясь от коммунистического будущего, отмечалось существенное отставание СССР от ведущих капиталистических стран по производительности труда. Вновь партия нацеливалась на хозяйственные дела, которые необходимо было решать, по ее мнению, идеологической, политико - воспитательной работой с массами, ибо «большие творческие силы» заложены в сознательности и «идейной убежденности масс». И как объективная закономерность по совершенствованию развитого социализма подчеркивалась руководящая роль КПСС.
Финал всей «одаренной» деятельности К.У.Черненко к трем орденам Трудового Красного Знамени прибавились три золотых медали «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда и к каждой по ордену Ленина.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
До 1984 года наша страна пережила четыре эпохи: Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева. Между каждой из них был трудный переходный период.
Андропов умер через 15 месяцев после прихода к власти (1984-1984), не успев ничего совершить.” Он был полнокровным, волевым изобретательный и холодным политиком, кристально чистой сталинской закваски безо всяких посторонних примесей, моральных и эмоциональных. Самое главное - воля к власти. Именно поэтому он старался навести полицейский порядок внутри страны. Во внешней политике он был опаснее Сталина т.к. располагал тем, чем располагал Сталин - ракетно-ядерным превосходством над остальным миром. Это не означало, что он это оружие пустит в ход безоглядно. Оружием часто побеждают не стреляя, во многих случаях достаточно им лишь угрожать, чтобы добиться цели. Чем страшнее и больше оружия, тем вернее победа без войны”.
Юрий Владимирович Андропов не имел ни времени, ни возможности дать свое имя какому-либо новому периоду в истории СССР. Однако его приход к власти ознаменовал собой окончание эпохи Брежнева и начало перехода к какой-то новой эпохе.
Советские люди не так уж много знали об Андропове, когда он был главой КГБ и представления о нем не намного расширились за 15 месяцев его пребывания на посту главы государства. Именно поэтому остаются весьма различными общие оценки его деятельности и личности.
“Андропов не был хитер и, тем более, коварен. Он был одновременно осторожным и решительным, умелым организатором и администратором. Некоторые говорили об Андропове как о вежливом и сентиментальном начальнике, умном человеке и знающем политике, остроумном собеседнике, любителе музыки и живописи реалистического толка”.
“Он не был груб, но немало требовал от своих подчиненных, быстро удалял из КГБ людей, пренебрегавших обязанностями. Он не терпел той небрежности в работе, переходящей в попустительство, не только плохих, но и нечестных работников. Никому и никогда даже не приходило в голову дарить Андропову на дни рождения “Кадиллаки”, “ линкольны ” , дорогие бриллианты или самовар из чистого золота”.
Андропов умер, не дожив до 70- летия и не выполнив большей части своих дел, которые он хотел сделать. Но все же для отведенных ему судьбой 15 месяцев он сделал не мало. Большинство советских людей выражало искреннюю скорбь и сожаление по поводу его смерти, и продолжают помнить
короткий, но важный и поучительный для нашей истории период его правления.
Еще много вопросов ждут своих ответов, вопросов, связанных с
провалами во внешней политике, выразившихся в кампучийской проблеме,
нашем участии в афганской военной авантюре, в тайной установке ракет СС-20, взбудоражившей весь мир. Нельзя забывать, что не последнюю роль сыграл Андропов (в ту пору - посол СССР в ВНР) в спешном перебазировании бывшего венгерского диктатора Матьяша Ракоши подальше от народного гнева в глубь советской территории, в Киргизию. Андропов, долгие годы занимавший пост председателя КГБ, конечно, не мог не знать о всех фактах беззакония, творимых людьми из государственной элиты. Он, после Суслова, стал” главным идеологом страны”. Но Андропова практически никто не знал.
За переменами в верхах последовали поиски дальнейшего пути развития державы. Попутно предпринимались шаги во внешнеполитическом направлении. Раздираемое гражданской войной, гибло население Афганистана, а на театре военных действий умирали советские парни, росчерком пера направленные в кровавую мясорубку афганских междоусобиц. Мир стоял накануне 1983 года, вошедшего в мировую историю как год наихудшей политической конъюнктуры за все послевоенное время.
Первые месяцы были насыщены переменами и в общественной жизни - это новая борьба за дисциплину, с тунеядцами и дармоедами. Сначала “накрутили хвосты” замминистрам, взятым в рабочее время в саунах и на базах, затем начали откровенно попирать права человека: людей вылавливали на улицах и в магазинах, на середине прерванных киносеансов и в аэропортах. Еще более уродливые формы кампания по наведению порядка приобрела на окраинах, где перегибали палку, стараясь перевыполнить “план”, отчитывались внушительной цифрой разоблаченных прогульщиков, лодырей и тунеядцев.
1 сентября произошел инцидент с южно-корейским “Боингом”. Факт, омрачивший международные отношения, не был вызван простым стечением обстоятельств. Рано или поздно подобное должно было произойти. В политической атмосфере
, пропитанной “парами пороха”, достаточно было любой искорки, чтобы до апокалипсиса остался один шаг. Такой искоркой и стал злополучный самолет. Натыкаясь на стену недоверия, две ведущие мировые державы слились в грозном противостоянии, демонстрируя друг другу мощь своих ядерных сил. Вместо взвешенного диалога СССР и США скрупулезно подсчитывали количество чужих танков и самолетов, уличали друг друга в нарушении ранее взятых обязательств, доводя тем самым свои народы до состояния массового военного психоза.Таким был мир. Таким его покинул пятый руководитель компартии и советского государства.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
- studopedia.net
- http://www.protown.ru/
- http://www.bestreferat.ru/
- http://referatwork.ru/
- http://revolution.allbest.ru/
- http://wiki.ru/
- http://bibliofond.ru/
Евгений Иванович Чазов в течение двадцати лет (с 1967 по 1986 г.) возглавлял 4-е Главное управление при Минздраве СССР, которое обслуживало высших руководителей Советского Союза. Именно в это время состоялся так называемый «хоровод смертей», когда один за другим умерли три Генеральных секретаря ЦК КПСС (Брежнев, Андропов, Черненко). Е. И. Чазов по долгу службы обязан был знать все о состоянии здоровья и причинах смерти своих подопечных; в своей книге он рассказывает, как уходили из жизни советские вожди, приводит подробности их последних дней. Особое место уделяется кончине Л. И. Брежнева, о которой по сей день ходит множество слухов.
Из серии: Как уходили вожди
* * *
компанией ЛитРес .
Трагедия Л. И. Брежнева
Удивительно и непредсказуемо восприятие человеком того или иного политического и общественного явления, отношение к той или иной идее, лозунгу, ну и, конечно, к политическим деятелям. Сегодня те, кто еще недавно восхвалял существующий строй, политических лидеров страны, свергают своих недавних кумиров. Политический капитал пытаются заработать на всем – и все апеллируют к народу, который сегодня уже не может ни в чем разобраться и начинает часто выступать как толпа.
Ты скажешь, читатель, что это нечестно – играть на чувствах и чаяниях народа. Согласен. Но такие времена, такие нравы.
Судьба политических деятелей в нашей стране просто непредсказуема. «То вознесет его высоко, то в бездну бросит без стыда». Что Хрущев! Что Брежнев! Разве мы могли подумать, что будут сносить памятники В. И. Ленину?…
Помню большую пачку писем, которую получил после смерти Л. И. Брежнева, авторы которых (не партийные функционеры, а обычные простые советские граждане!) упрекали нас, медиков, в том, что мы не обеспечили сохранение жизни и здоровья Генерального секретаря. Например, В. Н. Еременко из Москвы требовал, чтобы мы, академики, отчитались: все ли было использовано для спасения «продолжателя дела В. И. Ленина, пламенного патриота Советской Родины, выдающегося революционера и борца за мир, за коммунизм – Леонида Ильича Брежнева»? А Г. Н. Мудряков из Одессы настаивал: «Вы обязаны были освободить Леонида Ильича от губительной работы и стрессов, что не было сделано. Следовательно, вам необходимо по телевидению или в печати высказаться по этому вопросу, так как смерть товарища Л. И. Брежнева переживают не только его близкие, но и передовые люди всего мира».
Шли годы, развернулась «перестройка». Из «выдающегося политического и государственного деятеля» Брежнев превратился в одиозную фигуру, виновную, по сформировавшемуся общественному мнению, во всех бедах и недостатках, которые мы тогда переживали. В мой адрес зазвучали другие, прямо противоположные обвинения. Почему скрывали, что Л. И. Брежнев болен? (Как будто в этом кто-то сомневался.) Почему не настаивали, чтобы его освободили от работы? Так, например, вопрошал корреспондент «Медицинской газеты» Ю. Блиев, строя из себя невинного агнца: «Сегодня не дает мне покоя вопрос: зачем именитому академику, отвечавшему за здоровье „пятирежды Героя“, быть членом ЦК? Присягал бы одному лишь профессиональному долгу – может быть, задолго до перестройки и обнародовал бы диагноз – „пациенту противопоказано руководство страной“.»
С грустной улыбкой я читал эти «откровения» смелого журналиста. Старался вспомнить, задавали ли мне подобные вопросы о здоровье Брежнева при его жизни на многочисленных пресс-конференциях советские журналисты? И что-то не припомнил. За рубежом – да. Ни одна пресс-конференция не обходилась без обсуждения этого вопроса. Но всех устраивал и успокаивал мой ответ. Суть его заключалась в том, что существует клятва Гиппократа, которой придерживается каждый честный врач. В ней говорится, что при жизни пациента он должен сохранять в тайне все, что может тому навредить. Уж кто-кто, а корреспондент «Медицинской газеты» должен был об этом знать.
В этой связи вспоминается юмористическая сцена, которая возникла на одной из моих пресс-конференций в США. Было это в начале 80-х годов, когда в среду респектабельных журналистов-международников ворвались молодые, энергичные, не всегда вежливые представительницы женского пола, считавшие, что интервьюируемые созданы только для одного – отвечать на их вопросы, и более того – в необходимом для них свете. Одна из них одолевала меня вопросами о состоянии здоровья Генерального секретаря и требовала, несмотря на мои вежливые разъяснения, точного ответа – умрет или не умрет в ближайшее время руководитель государства. Когда я стал ссылаться на клятву Гиппократа, она высокомерно заявила: «Это не ответ. Да и какое значение сегодня имеет клятва Гиппократа?» И тогда, потеряв присущую мне сдержанность, я ответил: «Уважаемая мисс! Какие слова вы сказали бы вашему врачу, если бы он на встрече с журналистами, да даже в узком кругу, рассказал о результатах вашего гинекологического обследования?» После короткой паузы замешательства раздались смех и аплодисменты.
И еще – почему думают, что вопрос о состоянии здоровья Генерального секретаря не ставился врачами перед Политбюро ЦК КПСС?
А сколько спекуляций было, да и сейчас существует, вокруг здоровья Л. И. Брежнева и возможной связи его болезни с недостатками в руководстве страной. Если верить воспоминаниям некоторых политических деятелей, «полудокументальным» повестям и детективным историям, то Брежнев перенес, по крайней мере, несколько инфарктов миокарда и не меньшее число нарушений мозгового кровообращения. Близкий к кругам КГБ, Юлиан Семенов в «Тайне Кутузовского проспекта» пишет: «Меня (одного из героев повести) до сих пор ставит в тупик то, что сердце Брежнева само „остановилось“. Он же на американском стимуляторе жил… И умер за два дня перед пленумом, когда, говорят, новый председатель КГБ Федорчук, не являясь членом ЦК, должен был войти в Политбюро…»
Не надо, как говорят в народе, наводить тень на плетень, уважаемый Юлиан Семенов, и создавать видимость заговора против Брежнева. По своей должности, да и от Брежнева либо Андропова, я всегда за несколько дней знал о предстоящих Пленумах ЦК. Не предполагалось Пленума с выдвижением Федорчука, так же как никогда у Брежнева не стоял ни отечественный, ни американский стимулятор. В жизни он лишь один раз, будучи первым секретарем ЦК компартии Молдавии, перенес инфаркт миокарда. В 1957 году были небольшие изменения в сердце, но они носили лишь очаговый характер. С тех пор у него не было ни инфаркта, ни инсультов.
История не терпит пустот и недомолвок. Если они появляются, то вскоре их заполняют домыслы, выгодные для определенных политических целей, предположения или набор не всегда проверенных и односторонне представленных фактов. Вот почему надо наконец ответить на вопрос: что же произошло с Генеральным секретарем ЦК КПСС, когда он из активного, общительного, в определенной степени обаятельного человека, политика, быстро ориентирующегося в ситуации и принимающего соответствующие решения, за 10 лет превратился в дряхлого, «склерозированного» старика? Откуда начать рассказ о трагедии Брежнева?
Для меня она началась в один из августовских дней 1968 года – года Пражской весны и первых тяжелых испытаний для руководимого Брежневым Политбюро. Шли горячие дискуссии по вопросу возможной реакции СССР на события в Чехословакии. Как я мог уяснить из отрывочных замечаний Ю. В. Андропова, речь шла о том, показать ли силу Варшавского пакта, в принципе, силу Советского Союза, или наблюдать, как будут развиваться события, которые были непредсказуемы. Важна была и реакция Запада, в первую очередь США, которые сами погрязли в войне во Вьетнаме и не знали, как оттуда выбраться. Андропов боялся повторения венгерских событий 1956 года. Единодушия не было, шли бесконечные обсуждения, встречи, уговоры нового руководства компартии Чехословакии. Одна из таких встреч Политбюро ЦК КПСС и Политбюро ЦК КПЧ проходила в середине августа в Москве.
В воскресенье стояла прекрасная погода, и моя восьмилетняя дочь упросила меня пораньше приехать с работы, для того чтобы погулять и зайти в кино. Узнав у дежурных, что в Кремле все в порядке, идут переговоры, я уехал домой выполнять пожелания дочери. В кинотеатре «Стрела» демонстрировались в то время детские фильмы, и мы с дочерью с радостью погрузились в какую-то интересную киносказку. Не прошло и 20 минут, как ко мне подошла незнакомая женщина и попросила срочно выйти. На улице меня уже ждала автомашина, и через 5 минут я был на улице Грановского, в Управлении.
Здесь никто ничего толком не мог сказать. И вместе с П. Е. Лукомским и нашим известным невропатологом Р. А. Ткачевым мы выехали в ЦК, на Старую площадь.
Брежнев лежал в комнате отдыха, был заторможен и неадекватен. Его личный врач Н. Г. Родионов рассказал, что во время переговоров у Брежнева нарушилась дикция, появилась такая слабость, что он был вынужден прилечь на стол. Никакой органики Р. А. Ткачев не обнаружил. Помощники в приемной требовали ответа, сможет ли Брежнев продолжить переговоры. Клиническая картина была неясной. Сам Брежнев что-то бормотал, как будто бы во сне, пытался встать.
Умница Роман Александрович Ткачев, старый опытный врач, сказал: «Если бы не эта обстановка напряженных переговоров, то я бы сказал, что это извращенная реакция усталого человека со слабой нервной системой на прием снотворных средств». Родионов подхватил: «Да, это у него бывает, когда возникают неприятности или не решаются проблемы. Он не может спать, начинает злиться, а потом принимает 1–2 таблетки снотворного, успокаивается, засыпает. Просыпается как ни в чем не бывало и даже не вспоминает, что было. Сегодня, видимо, так перенервничал, что принял не 1–2 таблетки, а больше. Вот и возникла реакция, которая перепугала все Политбюро». Так и оказалось.
В приемную зашел А. Н. Косыгин и попросил, чтобы кто-нибудь из врачей разъяснил ситуацию. Вместе с Ткачевым мы вышли к нему. Искренне расстроенный Косыгин, далекий от медицины, упирал на возможность мозговых нарушений. Он сидел рядом с Брежневым и видел, как тот постепенно начал утрачивать нить разговора. «Языку него начал заплетаться, – говорил Косыгин, – и вдруг рука, которой он подпирал голову, стала падать. Надо бы его в больницу. Не случилось бы чего-нибудь страшного». Мы постарались успокоить Косыгина, заявив, что ничего страшного нет, речь идет лишь о переутомлении и что скоро Брежнев сможет продолжить переговоры. Проспав 3 часа, Брежнев вышел как ни в чем не бывало и продолжал участвовать во встрече.
Конечно, мы рисковали, конечно, нам повезло. Динамическое нарушение мозгового кровообращения протекает иногда стерто и не всегда диагностируется. Правда, к везению надо прибавить и знания. Но что если бы на нашем месте были «перестраховщики», они бы увезли Брежнева в больницу, дня два обследовали, да еще, ничего не найдя, придумали бы диагноз либо нейродистонического криза, либо динамического нарушения мозгового кровообращения. А главное, без необходимости создали бы напряженную обстановку в партии, ЦК, Политбюро.
Это был для нас первый сигнал слабости нервной системы Брежнева и извращенной в связи с этим реакции на снотворное.
Шли годы. Возникали то одни, то другие проблемы. И я уже стал забывать о событии августовского воскресенья 1968 года.
Но вернемся в 1971 год – год XXIV съезда партии. Это был последний съезд, который Л. И. Брежнев проводил в нормальном состоянии. Он еще был полон сил, энергии, политических амбиций. Положение его как лидера партии и страны было достаточно прочным. Кроме того, чтобы обезопасить себя от возможных неожиданностей, он избрал верный путь. Во-первых, привлек в свое окружение людей, с которыми когда-то работал и которые, как он правильно рассчитывал, будут ему благодарны и преданы за их выдвижение. Во-вторых, на всех уровнях, определяющих жизнь страны, он стремился поставить людей по принципу «разделяй и властвуй».
Нет, не был в те годы Л. И. Брежнев недалеким человеком, чуть ли не дурачком, как это пытаются представить некоторые средства массовой информации. Он был расчетливым, тонким политиком. Среди его советников были самые видные специалисты в своих областях – академики М. В. Келдыш, Г. А. Арбатов, Н. Н. Иноземцев и многие другие, которые участвовали в разработке предлагаемых им программ.
Принцип «разделяй и властвуй» проявлялся и в Политбюро, где напротив друг друга сидели два человека, полные противоположности и, мягко говоря, не любившие друг друга, Н. В. Подгорный и А. Н. Косыгин. В свою очередь, в Совете Министров СССР А. Н. Косыгина окружали близкие Брежневу люди – старый друг Д. С. Полянский и знакомый еще по работе в Днепропетровске Н. А. Тихонов. Удивительными в связи с этим принципом казались мне его отношения с Ю. В. Андроповым.
Андропов был одним из самых преданных Брежневу членов Политбюро. Могу сказать твердо, что и Брежнев не просто хорошо относился к Андропову, но по-своему любил своего Юру, как он обычно его называл. И все-таки, считая его честным и преданным ему человеком, он окружил его и связал «по рукам» заместителями председателя КГБ – С. К. Цвигуном, которого хорошо знал по Молдавии, и Г. К. Циневым, который в 1941 году был секретарем горкома партии Днепропетровска, где Брежнев в то время был секретарем обкома. Был создан еще один противовес, хотя и очень слабый и ненадежный, в лице министра внутренних дел СССР Н. А. Щелокова. Здесь речь шла больше не о противостоянии Ю. В. Андропова и Н. А. Щелокова, которого Ю. В. Андропов иначе как «жуликом» и «проходимцем» мне и не рекомендовал, а скорее в противостоянии двух организаций, обладающих возможностями контроля за гражданами и ситуацией в стране. И надо сказать, что единственным, кого боялся и ненавидел Н. А. Щелоков, да и его первый зам, зять Брежнева – Ю. М. Чурбанов, был Ю. В. Андропов. Таков был авторитет и сила КГБ в то время.
Первое, что сделал Ю. В. Андропов, когда обсуждал будущую работу и взаимодействие с молодым, далеким от политических интриг, не разбиравшимся в ситуации руководителем 4-го управления, к тому же профессором, обеспечивающим постоянное наблюдение за состоянием здоровья руководителей партии и государства, это предупредил о сложной иерархии контроля за всем, что происходит вокруг Брежнева.
Жизнь непроста, многое определяет судьба и случай. Случилось так, что и С. К. Цвигун, и Г. К. Цинев сохранили жизнь только благодаря искусству и знаниям наших врачей. С. К. Цвигун был удачно оперирован по поводу рака легких нашим блестящим хирургом М. И. Перельманом, а Г. К. Цинева мы вместе с моим другом, профессором В. Г. Поповым, несколько раз выводили из тяжелейшего состояния после перенесенных инфарктов миокарда. И с тем и с другим у меня сложились хорошие отношения. Но и здесь я чувствовал внутренний антагонизм двух заместителей председателя КГБ, которые ревностно следили друг за другом. Но оба, хотя и независимо друг от друга, контролировали деятельность КГБ и информировали обо всем, что происходит, Брежнева. Умный Георгий Карпович Цинев и не скрывал, как я понял из рассказов Андропова, ни своей близости к Брежневу, ни своих встреч с ним.
Болезни Цвигуна и Цинева доставили нам немало переживаний. И не только в связи со сложностью возникших медицинских проблем, учитывая, что в первом случае приходилось решать вопрос об операбельности или неоперабельности рака легких, а во втором – нам с трудом удалось вывести пациента из тяжелейшего состояния, граничащего с клинической смертью. Была еще одна сторона проблемы. Брежнев особенно тяжело переживал болезнь Цинева, который был его старым другом. Когда я выражал опасения о возможном исходе, он не раздражался, как это делали в трудные минуты многие другие руководители, а по-доброму просил сделать все возможное для спасения Георгия Карповича. Удивительны были звонки Андропова, который, прекрасно зная, кого представляет Цинев в КГБ, искренне, с присущей ему вежливостью просил меня помочь, использовать все достижения медицины, обеспечить все необходимое для лечения и т. п. Мне всегда казалось, что Андропов, понимая всю ситуацию, уважал и ценил Цинева, будучи в то же время весьма равнодушным и снисходительным к Цвигуну.
Для меня они оба были пациентами, для спасения которых было отдано немало не только знаний, но и души, потому что для врача нет генерала или солдата, партийного или беспартийного, работника КГБ или рабочего с автомобильного завода. Есть сложный больной, которого ты выходил и которому ты сохранил жизнь. И это самое важное и дорогое. Конечно, существует и определенная ответственность при лечении государственных деятелей, но искренне добрые чувства рождаются именно с преодолением трудностей, с чувством честно выполненного долга, когда ты видишь результаты своего труда.
… Мне пришла на память история, которая, я уверен, не имела места в кабинете председателя КГБ ни до, ни после этого дня. Однажды я оказался у Андропова в кабинете. В это время у нас начали появляться проблемы с состоянием здоровья Брежнева, и мы встретились с Андроповым, чтобы обсудить ситуацию. Когда, закончив обсуждение, я поздравил Андропова с днем рождения, раздался звонок его самого близкого друга Д. Ф. Устинова. В тот период возникающие с Брежневым проблемы Андропов скрывал от всех, даже от самых близких друзей. На вопрос: «Что делает „новорожденный“ в данный момент?» – Андропов, понимая, что Устинов может каким-то образом узнать о моем длительном визите, ответил: «Меня поздравляет Евгений Иванович». Заводной, с широкой русской натурой Дмитрий Федорович тут же сказал: «Я этого не потерплю и еду к вам. Только скажи, чтобы открыли ворота, чтобы я въехал во двор, а то пойдут разговоры, что я к тебе езжу по вечерам». Короче говоря, через 30 минут в кабинете был Дмитрий Федорович, поздравлял, громко смеялся и требовал положенных в таких случаях 100 граммов. Андропов ответил, что не держит в кабинете спиртного. Настойчивый Дмитрий Федорович предложил вызвать помощника Андропова, который должен был находиться в приемной, и попросить чего-нибудь достать. К моему удивлению, вместо помощника зашел Цвигун, а затем, буквально вслед за ним, извиняясь, появился Цинев. Конечно, нашлись 100 граммов за здоровье именинника, было шумно, весело, но меня не покидало ощущение, что нас не хотели оставлять втроем – о чем могли говорить председатель КГБ и приехавший внезапно и тайно министр обороны с профессором, осуществляющим лечение Брежнева, у которого появились проблемы со здоровьем?
Может быть, я был излишне мнителен, но интуиция меня никогда не подводила.
В первые годы моей работы в Управлении общительный, жизнерадостный, активный Леонид Ильич любил собирать у себя в доме компании друзей и близких ему лиц. Помню свое удивление, когда через год моей работы на посту начальника 4-го управления, в один из декабрьских вечеров, раздался звонок правительственной связи. Говорил Брежнев: «Ты что завтра вечером делаешь? Я хотел бы тебя пригласить на дачу. Соберутся друзья, отметим мое рождение». В первый момент я даже растерялся. Генеральный секретарь ЦК КПСС и вот так, запросто, приглашает к себе домой, да еще на семейный праздник, малоизвестного молодого профессора. Невдомек мне было тогда, что приглашал Брежнев не неизвестного профессора, а начальника 4-го управления.
В назначенное время я был на скромной старой деревянной даче Генерального секретаря в Заречье, на окраине Москвы, где в небольшой гостиной и столовой было шумно и весело. Не могу вспомнить всех, кого тогда встретил в этом доме. Отчетливо помню Андропова, Устинова, Цинева, помощника Брежнева – Г. Э. Цуканова, начальника 9-го управления КГБ С. Н. Антонова, министра гражданской авиации Б. П. Бугаева. Царила непринужденная обстановка. Брежнев любил юмор, да и сам мог быть интересным рассказчиком.
Довольно скоро, не знаю в связи с чем, для меня, да и для многих из тех, кто бывал со мной, они прекратились. Круг тех, кто посещал Брежнева, ограничился несколькими близкими ему членами Политбюро. Среди них не было ни Подгорного, ни Косыгина, ни Суслова. Да и позднее, когда Брежнев, все чаще и чаще находясь в больнице, собирал там своих самых близких друзей, я не встречал среди них ни Подгорного, ни Косыгина, ни Суслова. За столом обычно бывали Андропов, Устинов, Кулаков, Черненко. Даже Н. А. Тихонова не бывало на этих «больничных своеобразных чаепитиях», на которых обсуждались не только проблемы здоровья Генерального секретаря.
Вспоминая эти встречи, да и стиль жизни и поведения Брежнева на протяжении последних 15 лет его жизни, я убеждался, как сильны человеческие слабости и как они начинают проявляться, когда нет сдерживающих начал, когда появляется власть и возможности безраздельно ею пользоваться. Испытание «властью», к сожалению, выдерживают немногие. По крайней мере, в нашей стране. Если бы в конце 60-х годов мне сказали, что Брежнев будет упиваться славой и вешать на грудь одну за другой медали «Героя» и другие знаки отличия, что у него появится дух стяжательства, слабость к подаркам и особенно к красивым ювелирным изделиям, я бы ни за что не поверил. В то время это был скромный, общительный, простой в жизни и обращении человек, прекрасный собеседник, лишенный комплекса «величия власти».
Помню, как однажды он позвонил и попросил проводить его к брату, который находился на лечении в больнице в Кунцеве. Я вышел на улицу и стал ждать его и эскорт сопровождающих машин. Каково было мое удивление, когда ко мне как-то незаметно подъехал «ЗИЛ», в котором находился Брежнев и только один сопровождающий. Брежнев, открыв дверь, пригласил меня в машину. Но еще больше меня удивило, что машину обгонял другой транспорт, а на повороте в больницу на Рублевском шоссе в нас чуть не врезалась какая-то частная машина. С годами изменился не только Брежнев, но и весь стиль его жизни, поведения и даже внешний облик.
Как ни странно, но я ощутил эти изменения, казалось бы, с мелочи. Однажды, когда внешне все как будто бы оставалось по-старому, у него на руке появилось массивное золотое кольцо с печаткой. Любуясь им, он сказал: «Правда, красивое кольцо и мне идет?» Я удивился – Брежнев и любовь к золотым кольцам! Это что-то новое. Возможно, вследствие моего воспитания я не воспринимал мужчин, носящих ювелирные изделия вроде колец. Что-то в этом духе я высказал Брежневу, сопроводив мои сомнения высказыванием о том, как воспримут окружающие эту новинку во внешнем облике Генерального секретаря ЦК КПСС. Посмотрев на меня почти с сожалением, что я такой недалекий, он ответил, что ничего я не понимаю и все его товарищи, все окружающие сказали, что кольцо очень здорово смотрится и что надо его носить. Пусть это будет его талисманом.
Это было в то время, когда положение Брежнева укрепилось, не было достойных конкурентов, он не встречал каких-либо возражений и чувствовал себя совершенно свободно.
Вокруг появлялось все больше и больше подхалимов. Мне кажется, что в первые годы Брежнев в них разбирался, но по мере того как у него развивался атеросклероз мозговых сосудов и он терял способность к самокритике, расточаемый ими фимиам попадал на благодатную почву самомнения и величия. Сколько он показал нам, находясь в больнице, выдержек из газет, выступлений по радио и телевидению, писем и телеграмм, которые ему пересылал из ЦК К. У. Черненко, в которых восхвалялись его настоящие и мнимые заслуги! Они были полны такого неприкрытого подхалимства, что как-то неловко было их слушать и неловко было за Брежнева, который верил в их искренность.
Члены Политбюро, за исключением Косыгина и в определенные периоды Подгорного, не отставали от других, выражая свое преклонение перед «гением» Брежнева и предлагая наперебой новые почести для старого склерозировавшегося человека, потерявшего в значительной степени чувство критики, вызывавшего в определенной степени чувство жалости.
Вспоминаю, как в феврале 1978 года Брежнев говорил: «Знаешь, товарищи решили наградить меня орденом „Победа“. Я им сказал, что этот орден дается только за победу на фронте. А Дмитрий Федорович (Устинов), да и другие, убедили меня, что победа в борьбе за мир равноценна победе на фронте». С подачи К. У. Черненко в том же 1978 году была предложена генсеку третья Звезда Героя Советского Союза.
… Трудно бывает устоять от соблазнов, которые предоставляет власть. Когда в годы «перестройки» я слушал предвыборные дискуссии кандидатов в депутаты всех уровней, их обвинения властям предержащим в создании особых привилегий, стяжательстве, отрыве от народа, я внутренне улыбался. Все это было мне знакомо. Как только будет завоевана под любым флагом, в том числе и демократическим, власть, забудутся пылкие популистские выступления и обвинения в адрес «бывших» и постепенно все вернется «на круги своя».
К сожалению, низка политическая культура не только народа, но и избранных депутатов. К тому же гласность в большинстве случаев остается односторонней и служит данному моменту. Да и нет каких-то ограничителей, которые позволяли бы сдерживать человеческие слабости. Я хотел бы ошибиться, но жизнь, увы, подтверждает сказанное…
В 1973 году состоялся визит Брежнева в США. Он прошел успешно, и Брежнев победителем возвратился на родину. Но у меня этот визит ассоциируется с первыми тяжелыми переживаниями, связанными с состоянием здоровья Брежнева. Дело в том, что ко времени визита в США развитие атеросклероза мозговых сосудов начало сказываться на состоянии его нервной системы. Первые предвестники этого процесса, как я уже указывал, появились в период пражских событий. Однако после этого эпизода Брежнев в целом чувствовал себя хорошо, был, как говорят врачи, полностью сохранен и активно работал.
Начиная с весны 1973 года у него изредка, видимо, в связи с переутомлением, начали появляться периоды слабости функции центральной нервной системы, сопровождавшиеся бессонницей. Он пытался избавиться от нее приемом успокаивающих и снотворных средств. Когда это регулировалось нами, удавалось быстро восстановить и его активность, и его работоспособность. Он не скрывал своего состояния от близкого окружения, и они (некоторые – из искреннего желания помочь, другие из подхалимства) наперебой предлагали ему различные препараты, в том числе и сильнодействующие, вызывавшие у него депрессию и вялость.
Вот с такими ситуациями мне и пришлось столкнуться во время визита Брежнева в США. Но так как его организм был еще достаточно крепок, нам удавалось очень быстро выводить его из таких состояний, и никто из сопровождавших лиц, из американцев, встречавшихся с ним, не знал и не догадывался о возникавших осложнениях. Заметить их внешние проявления было почти невозможно. Мне казалось, что, вернувшись домой, отдохнув и придя в себя, Брежнев вновь обретет привычную активность и работоспособность, забудет о том, что происходило с ним в США. Однако этого не произошло. Помогли «сердобольные» друзья, каждый из которых предлагал свой рецепт лечения. И роковая для Брежнева встреча с медсестрой Н. Я не называю ее фамилию только по одной причине – у нее дочь, и, главное, ее судьба сложилась непросто. Ее близость к Брежневу принесла ей немало льгот – трехкомнатную квартиру в одном из домов ЦК КПСС, определенное независимое положение, материальное благополучие, быстрый взлет от капитана до генерала ее недалекого во всех отношениях мужа. К сожалению, я слишком поздно, да и, откровенно говоря, случайно узнал всю пагубность ее влияния на Брежнева.
Однажды раздался звонок Андропова. Смущенно, как это было с ним всегда, когда он передавал просьбы или распоряжения Брежнева, которые противоречили его принципам и с которыми он внутренне не соглашался, он предложил в 24 часа перевести старшую сестру отделения, где работала Н., на другую работу. Когда я поинтересовался причинами и заметил с определенной долей иронии, что вряд ли председатель КГБ должен заниматься такими мелкими вопросами, как организация работы медсестер, он сердито ответил, что просьба исходит не от него и для меня лучше ее выполнить. Мне искренне жалко было старшую медсестру, прошедшую фронт, пользовавшуюся в коллективе авторитетом, и, чтобы выяснить все подробности и попытаться исправить положение, я встретился с лечащим врачом Брежнева Н. Родионовым.
Оказалось, что именно он, который должен был строго следить за режимом и регулировать лекарственную терапию, передоверил все это сестре, которую привлек к наблюдению за Брежневым. Мягкий, несколько беспечный, интеллигентный человек, он и не заметил, как ловкая медицинская сестра, используя слабость Брежнева, особенно периоды апатии и бессонницы, когда он нуждался в лекарственных средствах, фактически отстранила врача от наблюдения за ним. Мой визит к Брежневу не дал никаких результатов – он наотрез, с повелительными нотками в голосе, отказался разговаривать и о режиме, и о необходимости регулирования лекарственных средств, и о характере наблюдений медсестры.
Реально оценивая складывающуюся ситуацию, я стал искать союзников в борьбе за здоровье Брежнева, сохранение его работоспособности, активности и мышления государственного деятеля. Прежде всего я решил обратиться к семье, а конкретнее – к жене Брежнева, Виктории Петровне, тем более что у нас сложились хорошие, добрые отношения. Они поддерживались и тем, что тяжелобольная Брежнева понимала, что живет только за счет активной помощи врачей. Не хочу уподобиться многочисленным «борзописцам», смакующим несчастье и злой рок в семействе Брежневых. Большинство из этих несчастий выносила на своих плечах жена Брежнева, которая была опорой семьи. Она никогда не интересовалась политическими и государственными делами и не вмешивалась в них, так же, впрочем, как и жена Андропова. Ей хватало забот с детьми. Сам Брежнев старался не вмешиваться в домашние дела. При малейшей возможности он «вырывался» на охоту в Завидово, которое стало его вторым домом. Как правило, он уезжал днем в пятницу и возвращался домой только в воскресенье вечером.
В последние годы жизни Брежнева у меня создавалось впечатление, что и домашние рады этим поездкам. Думаю, что охота была для Брежнева лишь причиной, чтобы вырваться из дома. Уверен, что семейные неприятности были одной из причин, способствующих болезни Брежнева. Единственно, кого он искренне любил, это свою внучку Галю. Вообще, взаимоотношения в семье были сложные. И не был Чурбанов, как это пытаются представить, ни любимцем Брежнева, ни очень близким ему человеком.
Всю заботу о Брежневе в последнее десятилетие его жизни взяли на себя начальник его охраны А. Рябенко, который прошел с ним полжизни, и трое прикрепленных: В. Медведев, В. Собаченков и Г. Федотов. Более преданных Брежневу людей я не встречал. Когда Брежнев начал превращаться в беспомощного старика, он мог обойтись без детей, без жены, но ни минуты не мог остаться без них. Они ухаживали за ним, как за маленьким ребенком. Как оказалось, в конце концов именно они стали нашими союзниками в борьбе за здоровье и работоспособность Брежнева.
… К моему удивлению, меня ждало полное разочарование в возможности привлечь жену Брежнева в союзники. Она совершенно спокойно прореагировала и на мое замечание о пагубном влиянии Н. на Брежнева, и на мое предупреждение о начавшихся изменениях в функции центральной нервной системы, которые могут постепенно привести к определенной деградации личности. В двух словах ответ можно сформулировать так: «Вы – врачи, вам доверены здоровье и работоспособность Генерального секретаря, вот вы и занимайтесь возникающими проблемами, а я портить отношения с мужем не хочу». Более того, в конце 70-х годов, когда у Брежнева на фоне уже развившихся изменений центральной нервной системы произошел срыв, связанный с семейным конфликтом у его внучки, никого из близких не оказалось на его стороне. Уверен, что этот срыв усугубил процессы, происходившие и в сосудах мозга, и в центральной нервной системе.
Не получив поддержки в семье Брежнева, я обратился к единственному человеку в руководстве страны, с которым у меня сложились доверительные отношения, – к Андропову. Мне казалось, что он, обязанный своим положением Брежневу, прекрасно разбирающийся в политической ситуации и положении в стране, поможет решить возникшие проблемы, от которых зависит будущее руководство партией и страной. По крайней мере, пользуясь авторитетом и доверием Брежнева, сможет обрисовать ему тяжелое будущее, если тот не примет наших советов. Несмотря на близость к Андропову на протяжении 18 лет, наши длительные откровенные беседы на самые разнообразные темы, сложные ситуации, из которых нам приходилось выходить вместе, несмотря на все это, он и сейчас представляет для меня загадку. Но это отдельный разговор.
Тогда же, в 1973 году, я ехал на площадь Дзержинского с большими надеждами. Мы, как правило, встречались по субботам, когда пустели коридоры и кабинеты партийных и государственных учреждений, в основном молчали аппараты правительственной связи. Брежнев, а с ним и другие руководители, строго выдерживали кодекс о труде в плане использования для отдыха субботы и воскресенья. Лишь два человека – Устинов, в силу стереотипа, сложившегося со сталинских времен, когда он был министром, и Андропов, бежавший из дома в силу сложных семейных обстоятельств, в эти дни работали. Если Брежнев убегал на охоту в Завидово, то Андропов убегал на работу.
С трудом открыв массивную дверь в старом здании на площади Дзержинского, пройдя мимо охраны и солдата с автоматом наперевес, я поднялся на 3-й этаж, где размещался кабинет Андропова. Мне нравился его уютный кабинет с высоким потолком, скромной обстановкой, бюстом Дзержинского.
В приемной вежливый и приятный, интеллигентного вида, всегда с доброй улыбкой секретарь Евгений Иванович попросил минутку подождать, пока из кабинета выйдет помощник Андропова В. А. Крючков. Я подошел к большому окну, из которого открывался прекрасный вид. Был конец лета, и возле метро и «Детского мира», по улице 25-го Октября сплошным потоком в различных направлениях спешили приезжие и москвичи – кто в ГУМ, кто на Красную площадь, кто в «Детский мир». У каждого были свои заботы, свои интересы, свои планы. Они и не предполагали, что в большом сером доме на площади обсуждаются проблемы, от решения которых в определенной степени зависит и их будущее.
Из кабинета вышел Крючков – один из самых близких и преданных Андропову сотрудников. Дружески раскланявшись с ним, я вошел к Андропову. Улыбаясь, он, как всегда, когда мы оставались наедине, предложил сбросить пиджаки и «побросаться новыми проблемами».
По мере моего рассказа о сложностях, возникающих с состоянием здоровья Брежнева и его работоспособностью, особенно в аспекте ближайшего будущего, улыбка сходила с лица Андропова, и во взгляде, в самой позе появилась какая-то растерянность. Он вдруг ни с того ни с сего начал перебирать бумаги, лежавшие на столе, чего я никогда не видел ни раньше, ни позднее этой встречи. Облокотившись о стол и как будто ссутулившись, он молча дослушал до конца изложение нашей, как я считал, с ним проблемы.
Коротко, суть поставленных вопросов сводилась к следующему: каким образом воздействовать на Брежнева, чтобы он вернулся к прежнему режиму и принимал успокаивающие средства только под контролем врачей? Как удалить Н. из его окружения и исключить пагубное влияние некоторых его друзей? И самое главное – в какой степени и надо ли вообще информировать Политбюро или отдельных его членов о возникающей ситуации?
Андропов довольно долго молчал после того, как я закончил перечислять свои вопросы, а потом, как будто бы разговаривая сам с собой, начал скрупулезно анализировать положение, в котором мы оказались. «Прежде всего, – сказал он, – никто, кроме вас, не поставит перед Брежневым вопроса о режиме или средствах, которые он использует. Если я заведу об этом разговор, он сразу спросит: „А откуда ты знаешь?“ Надо ссылаться на вас, а это его насторожит: почему мы с вами обсуждаем вопросы его здоровья и будущего. Может появиться барьер между мной и Брежневым. Исчезнет возможность влиять на него. Многие, например Щелоков, обрадуются. Точно так же не могу я вам ничем помочь и с удалением Н. из его окружения. Я как будто бы между прочим рассказал Брежневу о Н., и даже не о ней, а о ее муже, который работает в нашей системе и довольно много распространяется на тему об их взаимоотношениях. И знаете, что он мне на это ответил? „Знаешь, Юрий, это моя проблема, и прошу больше ее никогда не затрагивать“. Так что, как видите, – продолжал Андропов, – мои возможности помочь вам крайне ограниченны, их почти нет. Сложнее другой ваш вопрос – должны ли мы ставить в известность о складывающейся ситуации Политбюро или кого-то из его членов? Давайте мыслить реально. Сегодня Брежнев признанный лидер, глава партии и государства, достигшего больших высот. В настоящее время только начало болезни, периоды астении редки, и видите их только вы и, может быть, ограниченный круг ваших специалистов. Никто ни в Политбюро, ни в ЦК нас не поймет и постараются нашу информацию представить не как заботу о будущем Брежнева, а как определенную интригу. Надо думать нам с вами и о другом. Эта информация может вновь активизировать борьбу за власть в Политбюро. Нельзя забывать, что кое-кто может если не сегодня, то завтра воспользоваться возникающей ситуацией. Тот же Шелепин, хотя и перестал претендовать на роль лидера, но потенциально опасен. Кто еще? – размышлял Андропов. – Суслов вряд ли будет ввязываться в эту борьбу за власть. Во всех случаях он всегда будет поддерживать Брежнева. Во-первых, он уже стар, его устраивает Брежнев, тем более Брежнев со своими слабостями. Сегодня Суслов для Брежнева, который слабо разбирается в проблемах идеологии, непререкаемый авторитет в этой области, и ему даны большие полномочия. Брежнев очень боится Косыгина, признанного народом, талантливого организатора. Этого у него не отнимешь. Но он не борец за власть. Так что основная фигура – Подгорный. Это – ограниченная личность, но с большими политическими амбициями. Такие люди опасны. У них отсутствует критическое отношение к своим возможностям. Кроме того, Подгорный пользуется поддержкой определенной части партийных руководителей, таких же по характеру и стилю, как и он сам. Не исключено, что и Кириленко может включиться в эту борьбу. Так что, видите, претенденты есть. Вот почему для спокойствия страны и партии, для благополучия народа нам надо сейчас молчать и, более того, постараться скрывать недостатки Брежнева. Если начнется борьба за власть в условиях анархии, когда не будет твердого руководства, то это приведет к развалу и хозяйства, и системы. Но нам надо активизировать борьбу за Брежнева, и здесь основная задача падает на вас. Но я всегда с вами и готов вместе решать вопросы, которые будут появляться».
Андропов рассуждал логично, и с ним нельзя было не согласиться. Но я понял, что остаюсь один на один и с начинающейся болезнью Брежнева, и с его слабостями. Понял и то, что, Андропов, достигнув вершин власти, только что войдя в состав Политбюро, не хочет рисковать своим положением. С другой стороны, он представлял четко, что быть могущественным Андроповым и даже вообще быть в Политбюро он может только при руководстве Брежнева. Что я не понял в то время, так это то, что разговорами о благе партии и народа, благополучии моей Родины, любовь к которой я впитал с молоком матери, пытались прикрыть свои собственные интересы…
После состоявшегося разговора с Андроповым я решил, выбрав подходящий момент, еще раз откровенно поговорить с Брежневым. Воспользовавшись моментом, когда Брежнев остался один, о чем мне сообщил Рябенко, искренне помогавший мне все 15 лет, я приехал на дачу. Брежнев был в хорошем состоянии и был удивлен моим неожиданным визитом. Мы поднялись на 3-й этаж, в его неуютный кабинет, которым он пользовался редко. Волнуясь, я начал заранее продуманный разговор о проблемах его здоровья и его будущем.
Понимая, что обычными призывами к соблюдению здорового образа жизни таких людей, как Брежнев, не убедишь, я, памятуя разговор с Андроповым, перенес всю остроту на политическую основу проблемы, обсуждая его возможности сохранять в будущем позиции политического лидера и главы государства, когда его астения, склероз мозговых сосудов, мышечная слабость станут видны не только его друзьям, но и врагам, а самое главное – широким массам. Надо сказать, что Брежнев не отмахнулся от меня, как это бывало раньше. «Ты все преувеличиваешь, – ответил он на мои призывы. – Товарищи ко мне относятся хорошо, и я уверен, что никто из них и в мыслях не держит выступать против меня. Я им нужен. Косыгин, хотя и себе на уме, но большой поддержкой в Политбюро не пользуется. Что касается Подгорного, то он мой друг, мы с ним откровенны, и я уверен в его добром отношении ко мне (через 3 года он будет говорить противоположное). Что касается режима, то я постараюсь его выполнять. Если надо, каждый день буду плавать в бассейне. (Только в этом он сдержал слово, и до последних дней его утро начиналось с бассейна, даже в периоды, когда он плохо ходил. Это хоть как-то его поддерживало.) В отношении успокаивающих средств ты подумай с профессорами, что надо сделать, чтобы у меня не появлялась бессонница. Ты зря нападаешь на Н. Она мне помогает и, как говорит, ничего лишнего не дает. А в целом, тебе по-человечески спасибо за заботу обо мне и моем будущем».
Насколько я помню, это была наша последняя обстоятельная и разумная беседа, в которой Брежнев мог критически оценивать и свое состояние, и ситуацию, которая складывалась вокруг него. Действительно, почти год после нашего разговора, до середины 1974 года, он старался держаться и чувствовал себя удовлетворительно.
14 июня, в связи с 60-летием со дня рождения, Андропову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. После того как я поздравил его с юбилеем, Андропов (мы были наедине), улыбающийся, радостный, сказал: «Вы зря беспокоились о Брежневе. Все наши страхи напрасны, он активно работает, заслуженно пользуется авторитетом. Никто не обсуждает проблем его здоровья. Будем надеяться, что все самое тяжелое уже позади».
Не знаю, «сглазил» ли Андропов Брежнева, или тому просто надоело держаться в рамках строго установленного врачами режима, но первый достаточно серьезный срыв произошел уже через месяц после нашего разговора. Это случилось накануне визита Брежнева в Польшу во главе делегации на празднование 30-летия провозглашения Польской Народной Республики. За два дня до отъезда новый личный врач Брежнева М. Т. Косарев (прежний умер от рака легких) с тревогой сообщил, что, приехав на дачу, застал Брежнева в астеническом состоянии. Что сыграло роль в этом срыве, разбираться было трудно, да и некогда. Отменить заранее объявленный визит в Польшу было невозможно. Надо было срочно постараться вывести Брежнева из этого состояния. С большим трудом это удалось сделать, и 19 июля восторженная Варшава встречала руководителя братского Советского Союза. Руководитель был зол на нас, заставивших его выдерживать режим, но зато держался при встрече хорошо и выглядел бодро. На следующий день предполагалось выступление Брежнева на торжественном заседании, и мы просили его выдержать намеченный режим, причем предупредили и присутствовавшую при разговоре Н. об ответственности момента. В ответ была бурная реакция Брежнева в наш с Косаревым адрес с угрозами, криком, требованиями оставить его в покое. Косарев, который впервые присутствовал при такой реакции, побледнел и растерялся. Мне уже приходилось быть свидетелем подобных взрывов, связанных с болезнью, и я реагировал на них спокойнее.
Вечером, когда мы попытались встретиться с Брежневым, нам объявили, что он запретил пускать нас в свою резиденцию, которая находилась в 300 метрах от гостиницы, в которой мы жили. Без нас, вечером, Брежнев принял успокаивающие средства, полученные от кого-то из окружения, вероятнее всего от Н., которая оставалась с ним. Утром мы с трудом привели его в «божеский» вид. Что было дальше, описывает Э. Герек в своих «Воспоминаниях», в которых Брежнев предстает как странный или невменяемый человек. Мне, больше чем ему, было стыдно, когда Брежнев начал дирижировать залом, поющим «Интернационал».
Я подробно останавливаюсь на этом случае не только потому, что его описание объясняет историю, рассказанную Тереком, но и потому, что подобные ситуации возникали в дальнейшем не раз в ответственные моменты политических и дипломатических событий.
Теряя способность аналитического мышления, быстроту реакции, Брежнев все чаще и чаще не выдерживал рабочих нагрузок, сложных ситуаций. Происходили срывы, которые скрывать было уже невозможно. Их пытались объяснять по-разному: нарушением мозгового кровообращения, сердечными приступами, нередко им придавали политический оттенок.
Не так давно мне позвонил академик Г. А Арбатов, один из тех, кто участвовал в формировании внешнеполитического курса при Брежневе, и попросил, в связи с необходимостью уточнения материалов его воспоминаний, ответить – что же на самом деле происходило с Брежневым во время переговоров с Фордом во Владивостоке в ноябре 1974 года? Это, кстати, подтверждает тот факт, что даже ближайшее окружение Брежнева не знало в то время истины его срывов.
Во Владивосток Брежнев летел в крайнем напряжении. Предстояло вести сложные переговоры по дальнейшему уменьшению военного противостояния США и СССР, причем каждая из сторон боялась, как бы другая сторона ее не обманула. Кроме того, надо было принимать решения в ходе переговоров, что уже представляло трудности для Брежнева. Первые признаки начинающегося срыва мы обнаружили еще в Хабаровске, где пришлось приземлиться из-за плохой погоды во Владивостоке. Обстановка переговоров, по моим представлениям, была сложной. Они не раз прерывались, и я видел, как американская делегация спешила на улицу в бронированный автомобиль, который они привезли с собой, чтобы связаться с Вашингтоном, а Брежнев долго, по специальной связи, о чем-то спорил с министром обороны А. Гречко. Брежнев нервничал, был напряжен, злился на окружающих. Начальник охраны А. Рябенко, видя его состояние, сказал мне: «Евгений Иванович, он на пределе, ждите очередного срыва». Да я и сам при встречах с Брежневым видел, что он держится из последних сил.
Тяжелейший срыв произошел в поезде, когда, проводив американскую делегацию, Брежнев поехал в Монголию с официальным визитом. Из поезда я позвонил по спецсвязи Андропову и сказал, что все наши надежды рухнули, все вернулось на «круги своя» и что скрывать состояние Брежнева будет трудно, учитывая, что впервые не врачи и охрана, а вся делегация, находившаяся в поезде, видела Брежнева в невменяемом, астеническом состоянии.
Действительно, многие (об этом пишет и Арбатов) считали, что у Брежнева возникло динамическое нарушение мозгового кровообращения. С этого времени и ведут отсчет болезни Брежнева. Надо сказать, что в какой-то степени нам удалось компенсировать нарушенные функции в связи с астенией и депрессией. Более или менее спокойно прошел визит в Монголию, а затем в начале декабря и во Францию.
После Франции Брежнев перестал обращать внимание на наши рекомендации, не стесняясь, под любым предлогом, стал принимать сильнодействующие успокаивающие средства, которыми его снабжала Н. и некоторые его друзья. Периодически, еще сознавая, что сам губит себя, он соглашался на госпитализацию в больницу или санаторий «Барвиха», но, выйдя из тяжелого состояния, тут же «убегал» чаще всего в свое любимое Завидово.
Самыми страшными для всех нас, особенно для охраны, были моменты, когда, отправляясь в Завидово, он сам садился за руль автомашины. С военных лет Брежнев неплохо водил машину и любил быструю езду. Однако болезнь, мышечная слабость, астения привели к тому, что он уже не мог справляться с автомобилем так, как это было раньше, что было причиной нескольких автомобильных инцидентов. Особенно опасны были такие вояжи в Крыму по горным дорогам. Однажды машина, которую он вел, чуть не свалилась с обрыва. Возвращаясь из таких поездок, А. Рябенко мне часто говорил, что только волей случая можно объяснить, что они еще живы.
Брежнев терял способность к самокритике, что было одним из ранних проявлений его болезни, связанной с активным развитием атеросклероза сосудов мозга. Она проявлялась в нарастающей сентиментальности, вполне объяснимой у человека, прошедшего войну и перенесшего контузию. Особенно остро он переживал воспоминания о военных и первых послевоенных годах. Находясь в санатории «Барвиха», он попросил, чтобы каждый день ему показывали фильмы с участием известной австрийской киноактрисы Марики Рокк. Фильмы с ее участием были первыми цветными музыкальными фильмами, которые шли в нашей стране в тяжелые послевоенные годы. Я сам помню эти удивительные для нас ощущения. Вокруг была разруха, голод, смерть близких, а с экрана пела, танцевала очаровательная Марика Рокк, и этот мир казался нам далекой несбыточной сказкой. Брежнев посмотрел 10 или 12 фильмов с ее участием, каждый раз вновь переживая послевоенные годы.
В связи со снижением критического восприятия у Брежнева случались и казусы. Один из них связан с телесериалом «Семнадцать мгновений весны», который Брежнев смотрел в больнице. Дежурившая у него Н. при обсуждении картины передала как очевидное слухи, ходившие среди определенного круга лиц, о том, что прототипом главного героя Штирлица является полковник Исаев, который живет всеми забытый, и его подвиг достойно не отмечен. Возбужденный Брежнев тут же позвонил Андропову и серьезно начал выговаривать, что у нас еще не ценят заслуги людей, спасших страну от фашизма. Он просил разыскать Исаева, работа которого в тылу немцев достойна высшей награды. Когда Андропов начал резонно говорить, что он точно знает, что это вымысел автора, что за Штирлицем не скрывается реальное лицо, Брежнев этому не поверил и просил еще раз все выяснить и доложить. Исаева, конечно, не нашли, но награды были все-таки вручены. Они были вручены исполнителям ролей в этом фильме, так понравившемся Генеральному секретарю.
Брежнев все больше и больше терял способность к критическому анализу, снижалась его работоспособность и активность, срывы становились более продолжительными и глубокими. В 1975 году скрывать их практически не удавалось. Да и он сам, окруженный толпой подхалимов, все больше и больше уверовал в свою непогрешимость и свое величие, стал меньше обращать внимания на реакцию окружающих. Приглашая, например, в Завидово своих, как ему казалось, друзей-охотников Н. Подгорного и Д. Полянского, он не только усаживал за стол медсестру Н., но и обсуждал в ее присутствии государственные проблемы.
Мне позвонил возмущенный Д. Полянский и заявил, что это безобразие, что медицинская сестра нашего учреждения садится за стол вместе с членами Политбюро, которые обсуждают важные государственные проблемы. Что это не только неэтично, но и бестактно. Согласившись с ним, я поинтересовался, а сказал ли он то же самое хозяину дома? Несколько замявшийся Полянский ответил, что что-то в этом духе он Брежневу сказал, но считает, что прежде всего я обязан удалить Н. из Завидова и предупредить ее о необходимости строго соблюдать профессиональную этику. Не знаю, что на самом деле сказал Полянский Брежневу, но в их отношениях появился холодок, который в конце концов привел к разрыву.
Несмотря на углубляющиеся изменения личности Генерального секретаря, учащающиеся приступы срывов в его состоянии, страна в 1975 году продолжала еще жить активно и творчески.
Не знаю, как команду «Динамо» (судя по тому, что они не завоевали первенства, игроки вряд ли принимали стимуляторы), а вот Брежнева нам удалось перед поездкой в Хельсинки вывести из состояния мышечной астении и депрессии. Андропов очень волновался перед поездкой Брежнева в Хельсинки. Разработанный план дезинформации общественного мнения в отношении здоровья Брежнева рушился. Внутри страны еще можно было как-то мириться с ситуацией, связанной с болезнью Брежнева. Другой вопрос – как ее воспримут на Западе? Не будут ли болезнь лидера, его слабость влиять на позиции нашей страны? Не поднимут ли голову ее недруги? Боялся Андропов, да и я, и не без оснований, возможного срыва в ходе Хельсинкского совещания. Чтобы предупредить разговоры внутри страны, делегация и число сопровождающих лиц были сведены к минимуму – А. А. Громыко и начавший набирать силу К. У. Черненко. Мы поставили условие: чтобы во время поездки (в Хельсинки мы ехали поездом) и в период пребывания в Финляндии у Брежнева были бы только официальные встречи, и ни Н., ни кто-либо другой не встречался с ним наедине (кроме Громыко и Черненко).
Надо сказать, что и в этот период, и в последующих сложных политических ситуациях, когда надо было проявлять хоть минимум воли и мышления, Брежнев с нами соглашался.
Вспоминаю, как возмущались некоторые работники МИД СССР тем, что в зале заседаний рядом с Брежневым находились врач и охрана, а не дипломаты всех рангов. Возможно, они думали, что мы это делаем из тщеславия. А у нас была только одна мысль – хоть бы скорее все заканчивалось и лишь бы не пришлось на ходу применять лекарственные средства. К нашей радости и определенному удивлению, выступление Брежнева и подписание соглашения прошло относительно хорошо. Единственно, когда надо было ехать на официальный обед, который давал У. Кекконен в честь глав делегаций, он вдруг начал категорически отказываться от поездки, убеждая, что на обеде страну вполне может представлять Громыко. С большим трудом удалось его уговорить поехать. Но в связи с уговорами он несколько опоздал на обед, где его приезда ждали главы делегаций, и уехал раньше в резиденцию, размещавшуюся недалеко от дворца президента в здании нашего посольства.
Возвращение в страну было триумфальным, а для нас печальным. В Москве Брежнев был всего сутки, после чего улетел к себе на дачу в Крым, в Нижнюю Ореанду. Все встало на «круги своя». Опять успокаивающие средства, астения, депрессия, нарастающая мышечная слабость, доходящая до прострации. Три раза в неделю, скрывая от всех свои визиты, я утром улетал в Крым, а вечером возвращался в Москву. Все наши усилия вывести Брежнева из этого состояния оканчивались неудачей. Положение становилось угрожающим.
При встрече я сказал Андропову, что больше мы не имеем права скрывать от Политбюро ситуацию, связанную со здоровьем Брежнева и его возможностью работать. Андропов явно растерялся. Целеустремленный, волевой человек, с жесткой хваткой, он терялся в некоторых сложных ситуациях, когда ему трудно было найти выход, который устраивал бы и дело, которому он честно и преданно служил, и отвечал его собственным интересам. Более того, мне казалось, что в такие моменты у него появлялось чувство страха.
Так было и в данном случае. Чтобы не принимать опрометчивого решения, он сам вылетел в Крым, к Брежневу. Что было в Крыму, в каком виде Андропов застал Брежнева, о чем шел разговор между ними, я не знаю, но вернулся он из поездки удрученным и сказал, что согласен с моим мнением о необходимости более широкой информации Политбюро о состоянии здоровья Брежнева. Перебирая все возможные варианты – официальное письмо, ознакомление всего состава Политбюро или отдельных его членов со сложившейся ситуацией, – мы пришли к заключению, что должны информировать второго человека в партии – Суслова. Он был, по нашему мнению, единственным, кого еще побаивался или стеснялся Брежнев. Разъясняя всю суть проблемы Суслову, мы как бы перекладывали на него ответственность за дальнейшие шаги. Андропов взял на себя миссию встретиться с Сусловым и все ему рассказать. Вернулся он в плохом настроении – Суслов хотя и пообещал поговорить с Брежневым о его здоровье и режиме, но сделал это весьма неохотно и, кроме того, был недоволен тем, что оказался лицом, которому необходимо принимать решение. Он согласился с Андроповым, что пока расширять круг лиц, знакомых с истинным положением дел, не следует, ибо может начаться политическая борьба, которая нарушит сложившийся статус-кво в руководстве и спокойствие в стране.
Суслов проявил наивность, если он действительно думал, что все встанет на свои места и никто не начнет интересоваться, а тем более использовать болезнь Брежнева в своих целях. Первым, кто активно начал интересоваться складывающейся ситуацией и будущим Брежнева, был не кто иной, как ближайший друг и товарищ по партии Подгорный.
Вернувшийся из Крыма Брежнев ни на йоту не изменил ни своего режима, ни своих привычек. И, естественно, вскоре оказался в больнице, на сей раз на улице Грановского. Состояние было не из легких – нарастала мышечная слабость и астения, потеря работоспособности и конкретного аналитического мышления. Не успел Брежнев попасть в больницу, как к нему пришел Подгорный. Для меня это было странно и неожиданно, потому что никогда прежде он не только не навещал Брежнева в больнице, но и не интересовался его здоровьем. Я находился как раз у Брежнева, когда раздался звонок в дверь и у входа в палату я увидел Подгорного. В этот момент я успел сообразить, что он пришел неспроста, хочет увидеть Брежнева в истинном состоянии, а затем «сочувственно» рассказать на Политбюро о своем визите к своему давнему другу и о том, как плохо он себя чувствует.
Пользуясь правом врача, я категорически возразил против подобного посещения, которое пойдет во вред больному. «Ты что, Председателя Президиума Верховного Совета СССР не знаешь? – заявил он мне. – Не забывай, что незаменимых людей в нашей стране нет». Постоянное нервное напряжение привело к тому, что я абсолютно не реагировал даже на неоправданную критику, нападки или грубость по отношению ко мне. Я работал, выполняя честно свой профессиональный долг, и ни на что не обращал внимания. Не поколебала меня и скрытая угроза Подгорного. «Николай Викторович, я должен делать все для блага пациента, для его выздоровления. Сейчас ему нужен покой. Ни я, ни вы не знаем, как он воспримет ваш визит. Он может ему повредить. Если Политбюро интересуется состоянием здоровья Брежнева, я готов представить соответствующее заключение консилиума профессоров». Не обладая большим умом, но, будучи большим политиканом, он понял подтекст последней фразы: «Кого ты здесь представляешь – Подгорного, друга и товарища нашего пациента, или Подгорного – члена Политбюро и его полномочного представителя, который должен сам убедиться в истинном положении дел?» Ворча, недовольный Подгорный ушел.
Я тут же сообщил о неожиданном визите Андропову, а тот Суслову. Суслов ничего лучшего не нашел, как сказать тривиальную фразу: «Хорошо, если бы Леонид Ильич скорее выздоровел и мог бы выступить на каком-нибудь большом собрании или совещании».
Это мнение о том, что лидеру необходимо периодически показываться, независимо от того, как он себя чувствует, которое впоследствии касалось не только Брежнева, но и многих других руководителей партии и государства, стало почти официальным и носило, по моему мнению, не только лицемерный, но и садистский характер. Садистским по отношению к этим несчастным, обуреваемым политическими амбициями и жаждой власти и пытающимся пересилить свою немощь, свои болезни, чтобы казаться здоровыми и работоспособными в глазах народа.
И вот уже разрабатывается система телевизионного освещения заседаний и встреч с участием Брежнева, а потом и Андропова, где режиссер и оператор точно знают ракурс и точки, с которых они должны вести передачу. В новом помещении для пленумов ЦК КПСС в Кремле устанавливаются специальные перила для выхода руководителей на трибуну. Разрабатываются специальные трапы для подъема в самолет и на Мавзолей Ленина на Красной площади. Кстати, если мне память не изменяет, создателей трапа удостаивают Государственной премии. Верхом лицемерия становится телевизионная передача выступления К. У. Черненко накануне выборов в Верховный Совет СССР в 1985 году. Ради того, чтобы показать народу его руководителя, несмотря на наши категорические возражения, вытаскивают (в присутствии члена Политбюро В. В. Гришина) умирающего К. У. Черненко из постели и усаживают перед объективом телекамеры. Я и сегодня стыжусь этого момента в моей врачебной жизни. Каюсь, что не очень сопротивлялся ее проведению, будучи уверен, что она вызовет в народе реакцию, противоположную той, какую ожидали ее организаторы; что она еще раз продемонстрирует болезнь руководителя нашей страны, чего не признавало, а вернее, не хотело признать узкое окружение советского лидера.
Говорят, что это явление присуще тоталитарным режимам. Но я прекрасно помню ситуацию, связанную с визитом в СССР больного президента Франции Ж. Помпиду. А больные президенты США? Разве они не находились в том же положении, что и советские лидеры?…
Между тем события, связанные с болезнью Брежнева, начали приобретать политический характер. Не могу сказать, каким образом, вероятнее от Подгорного и его друзей, но слухи о тяжелой болезни Брежнева начали широко обсуждаться не только среди членов Политбюро, но и среди членов ЦК. Во время одной из очередных встреч со мной как врачом ближайший друг Брежнева Устинов, который в то время еще не был членом Политбюро, сказал мне: «Евгений Иванович, обстановка становится сложной. Вы должны использовать все, что есть в медицине, чтобы поставить Леонида Ильича на ноги. Вам с Юрием Владимировичем надо продумать и всю тактику подготовки его к съезду партии. Я в свою очередь постараюсь на него воздействовать».
При встрече Андропов начал перечислять членов Политбюро, которые при любыхусловиях будут поддерживать Брежнева. Ему показалось, что их недостаточно. «Хорошо бы, – заметил он, – если бы в Москву переехал из Киева Щербицкий. Это бы усилило позицию Брежнева. Мне с ним неудобно говорить, да и подходящего случая нет. Не могли бы вы поехать в Киев для его консультации, тем более что у него что-то не в порядке с сердцем, и одновременно поговорить, со ссылкой на нас, некоторых членов Политбюро, о возможности его переезда в Москву».
Организовать консультацию не представляло труда, так как тесно связанный с нами начальник 4-го управления Министерства здравоохранения УССР, профессор К. С. Терновой, уже обращался с такой просьбой. После консультации, которая состоялась на дому у Щербицкого, он пригласил нас к себе на дачу в окрестностях Киева.
Был теплый день, и мы вышли погулять в парк, окружавший дачу. Получилось так, что мы оказались вдвоем со Щербицким. Я рассказал ему о состоянии здоровья Брежнева и изложил просьбу его друзей о возможном переезде в Москву. Искренне расстроенный Щербицкий ответил не сразу. Он долго молчал, видимо, переживая услышанное, и лишь затем сказал: «Я догадывался о том, что вы рассказали. Но думаю, что Брежнев сильный человек и выйдет из этого состояния. Мне его искренне жаль, но в этой политической игре я участвовать не хочу».
Вернувшись, я передал Андропову разговор со Щербицким. Тот бурно переживал и возмущался отказом Щербицкого. «Что же делать? – не раз спрашивал Андропов, обращаясь больше к самому себе. – Подгорный может рваться к власти». Политически наивный, не разбирающийся в иерархии руководства, во внутренних пружинах, управляющих Политбюро, я совершенно искренне, не задумываясь, заметил: «Юрий Владимирович, но почему обязательно Подгорный? Неужели не может быть другой руководитель – вот вы, например?» «Больше никогда и нигде об этом не говорите, еще подумают, что это исходит от меня, – ответил Андропов. – Есть Суслов, есть Подгорный, есть Косыгин, есть Кириленко. Нам надо думать об одном: как поднимать Брежнева. Остается одно – собрать весь материал с разговорами и мнениями о его болезни, недееспособности, возможной замене. При всей своей апатии лишаться поста лидера партии и государства он не захочет, и на этой политической амбиции надо сыграть».
Конечно, Андропов в определенной степени рисковал. Только что подозрительный Брежнев отдалил от себя одного из самых преданных ему лиц – своего первого помощника Г. Э. Цуканова. Говорили, что сыграли роль наветы определенных лиц, и даже определенного лица. Сам Георгий Эммануилович говорил, что произошло это не без участия Н. Я и сегодня не знаю, чем была вызвана реакция Брежнева. Но то, что у больного Брежнева появилась подозрительность, было фактом.
К моему удивлению, план Андропова удался. При очередном визите я не узнал Брежнева. Прав был Щербицкий, говоря, что он сильный человек и может «собраться». Мне он прямо сказал: «Предстоит XXV съезд партии, я должен хорошо на нем выступить и должен быть к этому времени активен. Давай, подумай, что надо сделать».
Первое условие, которое я поставил – удалить из окружения Н., уехать на время подготовки к съезду в Завидово, ограничив круг лиц, которые там будут находиться, и, конечно, самое главное – соблюдать режим и предписания врачей.
Сейчас я с улыбкой вспоминаю те напряженные два месяца, которые потребовались нам для того, чтобы вывести Брежнева из тяжелого состояния. С улыбкой, потому что некоторые ситуации, как, например, удаление из Завидова медицинской сестры Н., носили трагикомический характер. Конечно, это сегодняшнее мое ощущение, но в то время мне было не до улыбок. Чтобы оторвать Н. от Брежнева, был разработан специальный график работы медицинского персонала. Н. заявила, что не уедет, без того чтобы не проститься с Брежневым. Узнав об этом, расстроенный начальник охраны А. Рябенко сказал мне: «Евгений Иванович, ничего из этой затеи не выйдет. Не устоит Леонид Ильич, несмотря на все ваши уговоры, и все останется по-прежнему». Доведенный до отчаяния сложившейся обстановкой, я ответил: «Александр Яковлевич, прощание организуем на улице, в нашем присутствии. Ни на минуту ни вы, ни охрана не должны отходить от Брежнева. А остальное я беру на себя».
Кавалькада, вышедшая из дома навстречу Н., выглядела, по крайней мере, странно. Генерального секретаря я держал под руку, а вокруг, тесно прижавшись, шла охрана, как будто мы не в изолированном от мира Завидове, а в городе, полном террористов. Почувствовав, как замешкался Брежнев, когда Н. начала с ним прощаться, не дав ей договорить, мы пожелали ей хорошего отдыха. Кто-то из охраны сказал, что машина уже ждет. Окинув всех нас, стоящих стеной вокруг Брежнева, соответствующим взглядом, Н. уехала. Это было нашим первым успехом.
То ли политические амбиции, о которых говорил Андропов, то ли сила воли, которая еще сохранялась у Брежнева, на что рассчитывал Щербицкий, но он на глазах стал преображаться. Дважды в день плавал в бассейне, начал выезжать на охоту, гулять по парку. Дней через десять он заявил: «Хватит бездельничать, надо приглашать товарищей и садиться за подготовку к съезду».
Зная его истинное состояние, мы порекомендовали ему не делать длинного доклада, а, раздав текст, выступить только с изложением основных положений. Он ответил так, как тогда отвечали многие руководители: «Такого у нас еще не было, есть сложившийся стиль партийных съездов, и менять его я не намерен. Да и не хочу, чтобы кто-то мог подумать, что я немощный и больной».
24 февраля 1976 года 5 тысяч делегатов XXV съезда партии бурно приветствовали своего Генерального секретаря.
Доклад продолжался более четырех часов, и только небольшая группа – его лечащий врач М. Косарев, я да охрана знали, чего стоило Брежневу выступить на съезде. Когда в перерыве после первых двух часов выступления мы пришли к нему в комнату отдыха, он сидел в прострации, а рубашка была настолько мокрая, как будто он в ней искупался. Пришлось ее сменить. Но мыслил он четко и, пересиливая себя, даже с определенным воодушевлением, пошел заканчивать свой доклад.
Конечно, даже неискушенным взглядом было видно, что Брежнев уже не тот, который выступал на XXIV съезде партии. Появились дизартрия, вялость, старческая шаркающая походка, «привязанность» к тексту, характерные для человека с атеросклерозом мозговых сосудов.
Но для большинства партийного актива, присутствовавшего на съезде, главное было то, что, несмотря на все разговоры и домыслы, Генеральный секретарь на трибуне, излагает конкретные предложения, рассказывает об успехах внешней политики, предлагает новые подходы, а это значит, что жизнь будет идти по-прежнему, не будет больших перемен и можно быть спокойным за свое личное будущее.
И зазвучали речи, в которых восхвалялась мудрость партийного руководства, прозорливость Генерального секретаря. Даже в выступлениях тех, кто в дальнейшем поддерживал демократические изменения в партии и стране, зазвучали слова преклонения перед гением Брежнева.
Из выступления Э. А. Шеварднадзе: «Продолжая разговор о личности руководителя, хочу сказать несколько слов о Политбюро ЦК КПСС и о товарище Леониде Ильиче Брежневе. Слово о Генеральном секретаре Центрального Комитета партии – это вовсе не похвальное слово его личности, а сугубо партийный, деловой съездовский разговор. Вопрос этот принципиальный. Стараясь, хотя бы в общих чертах, передать его политические, интеллектуальные, деловые, человеческие качества, мы хотим тем самым, по крайней мере, как говорят художники, эскизно обрисовать портрет лидера нашей партии и народа, виднейшего политического деятеля современного мира, на примере которого мы должны воспитывать себя и других, которому мы должны во всем следовать, у которого необходимо учиться нам трудиться по-ленински, мыслить по-ленински, жить по-ленински.
В старину говорили, что чем чище небо, тем выше можно взлететь, тем большую силу обретают крылья. Леонид Ильич Брежнев, его славные соратники и вся наша партия создают это чистое и безоблачное небо над нами, создают атмосферу, когда люди всем своим существом устремляются ввысь, в чистое небо, к прозрачным, светлым вершинам коммунизма».
Не сами ли мы вот такими выступлениями породили «феномен Брежнева»? Не сами ли мы создали тот ореол гениального руководителя, в который в то же время никто не верил? Не сами ли мы своим подхалимством позволили Брежневу уверовать в свое величие и непогрешимость? Вероятно, только у нас вот так могут создавать себе кумиров, которых потом сами же чуть не проклинают, но терпят до конца.
Что я четко уяснил из сложных политических коллизий, прошедших на моих глазах, так это то, что ради пользы страны и народа руководитель не должен оставаться на своем посту более десяти лет.
Уйди Брежнев с поста лидера в 1976 году, он оставил бы после себя хорошую память. Один из умных людей из его окружения в шутку сказал на это: «Даже по наградам». К этому времени у него не было еще ордена «Победы», да и медалей Героя было всего две. Скромно по тем временам, если учесть, что у Н. С. Хрущева их было три. Но судьба сыграла злую шутку со страной и партией. Она оставила еще почти на 7 лет больного лидера, терявшего не только нити управления страной, но и критическую оценку ситуации в стране и в мире, а самое главное, критическое отношение к себе, чем поспешили воспользоваться подхалимы, карьеристы, взяточники, да и просто бездельники, думавшие только о своем личном благополучии.
Несомненно, большое значение имел и тот факт, что Брежнев лишился внутри страны политических противников. Он не забыл предсъездовской активности Подгорного и с помощью своего ближайшего окружения – Устинова, Андропова, Кулакова и начавшего набирать силу Черненко – нанес удар по нему и Полянскому на съезде. Как правило, состав ЦК предопределялся до съезда, прорабатывались и создавались определенные механизмы выборов, которые, в частности, обеспечивали почти единогласное избрание в состав ЦК членов Политбюро. На сей раз два члена Политбюро – Подгорный и Полянский – получили большое количество голосов «против», которое должно было отражать негативное отношение к ним значительной группы делегатов съезда. Стало ясным, что создается мнение в партийных кругах, что широкие массы членов партии недовольны деятельностью этих двух членов Политбюро. Большинству было понятно, что в политической борьбе опять победил Брежнев, а дни Подгорного и Полянского в руководстве партии и страны сочтены.
Так в дальнейшем и оказалось. Через год, 16 июня 1977 года, вместо Подгорного Председателем Президиума Верховного Совета СССР избирают Л. И. Брежнева, который впервые объединил в одном лице руководство партией и государством. Вскоре послом в Японию уехал Полянский.
… Мы понимали, что напряжение съезда, работа на пределе сил не пройдут для Брежнева даром и что в ближайшее время следует ожидать «разрядки», которая может привести к глубоким изменениям в состоянии его здоровья и личности. Однако так, как это произошло – быстро, с необычной для него агрессией, – даже я не ожидал.
По сложившимся обычаям, после окончания съезда делегации областей и республик собирались на товарищеский ужин. Собралась и делегация Ставрополья, куда ее руководитель М. С. Горбачев пригласил и меня, входившего в ее состав. Встреча была оживленной, веселой, звучали тосты, поднимались бокалы с вином и рюмки с коньяком. Хорошее настроение человека, честно выполнившего свой профессиональный долг, было и у меня. Но где-то я ловил себя на том, что определенный горький осадок от всего пережитого есть, тем более что ни Брежнев, ни его окружение, которому удалось сохранить свою власть и положение, не сказали мне даже спасибо.
Я привык к тому времени к человеческой неблагодарности и спокойно относился к подобным ситуациям. Однако в этот вечер мне пришлось получить еще один урок.
Часов около 11 вечера, когда я вернулся домой, раздался звонок, и я услышал необычный, почему-то заикающийся голос Рябенко, который сказал, что со мной хотел бы поговорить Брежнев. Я ожидал слова благодарности, но вместо этого услышал труднопередаваемые упреки, ругань и обвинения в адрес врачей, которые ничего не делают для сохранения его здоровья, здоровья человека, который нужен не только советским людям, но и всему миру. Даже сейчас мне неприятно вспоминать этот разговор, в котором самыми невинными фразами было пожелание, чтобы те, кому следует, разобрались в нашей деятельности и нам лучше лечить трудящихся в Сибири, чем руководство в Москве. Последовало и дикое распоряжение, чтобы утром стоматологи из ФРГ, которые изготавливали ему один за другим зубные протезы, были в Москве. В заключение он сказал, чтобы ему обеспечили сон и покой.
Я понимал, что это реакция больного человека и что то, чего мы боялись, произошло – начался затяжной срыв. Но сколько можно терпеть? И ради чего? Андропов постоянно убеждает, что ради спокойствия страны, ради спокойствия народа и партии. А может быть, все это не так? Может быть, народу безразлично, кто будет его лидером? Может быть, это надо Андропову, Устинову, Черненко и другим из окружения Брежнева? Впервые у меня появились сомнения.
Несмотря на поздний час, я позвонил Андропову на дачу. Рассказав о разговоре, я заявил, что завтра же подам заявление о моей отставке, что терпеть незаслуженные оскорбления не хочу, да и не могу, что я достаточно известный врач и ученый, чтобы держаться, как некоторые, за престижное кресло. Андропов в первый момент не знал, что ответить на мою гневную и эмоциональную тираду, не знал, как отреагировать на мое возмущение. Он начал меня успокаивать, повторяя неоднократно, что надо быть снисходительным к больному человеку, что угрозы Брежнева наигранны, потому что он уже не может обходиться без нас, понимает, что мы – его единственное спасение. Видимо, понимая мое состояние, начал опять говорить о наших больших заслугах в восстановлении здоровья Брежнева, который вопреки всем прогнозам смог провести съезд. Но я уже ничему не верил. Часа через полтора, уже ночью, видимо, поговорив еще с кем-то, он позвонил снова. «Я говорю не только от своего имени, но и от имени товарищей Леонида Ильича. Мы понимаем вашу обиду, понимаем, как вам тяжело, но просим остаться, так как никто лучше вас Брежнева не знает, никому, что бы он ни говорил, он так, как вам, не доверяет». И заключил: «И это моя личная большая просьба». Не знаю, что на меня подействовало – может быть, тон разговора с Андроповым, может быть, прошла первая реакция, но я успокоился и ответил ему, что нам надо встретиться, потому что Брежнев вступил в полосу таких непредсказуемых изменений функции центральной нервной системы, из которой уже вряд ли когда-нибудь выйдет.
Именно с этого времени – времени после XXV съезда партии – я веду отсчет недееспособности Брежнева как руководителя и политического лидера страны, и в связи с этим – нарождающегося кризиса партии и страны.
Он усугубился несчастьем, которое произошло в том же, 1976 году. Оно имело большее значение, чем уход с политической арены Подгорного. Случилось оно в воскресенье, 1 августа. Стоял прекрасный летний день, и я, пользуясь свободным временем, решил съездить за город, где в двадцати минутах езды у меня был небольшой финский дом. После обеда раздался звонок, сейчас уже не помню откуда, и взволнованный голос сообщил, что только что перевернулась лодка, в которой находился Косыгин, его едва удалось спасти, и сейчас он находится в тяжелом состоянии в военном госпитале в Архангельском, вблизи места, где произошел инцидент. Это недалеко от моего дома, и уже через 20 минут я был в госпитале.
Оказалось, что Косыгин, увлекавшийся академической греблей, отправился на байдарке-одиночке. Как известно, ноги гребца в байдарке находятся в специальных креплениях, и это спасло Косыгина. Во время гребли он внезапно потерял ориентацию, равновесие и перевернулся вместе с лодкой. Пока его вытащили, в дыхательные пути попало довольно много воды. Когда я увидел его в госпитале, он был без сознания, бледный, с тяжелой одышкой. В легких на рентгеновском снимке определялись зоны затемнения. Почему Косыгин внезапно потерял равновесие и ориентацию? Было высказано предположение, что во время гребли у него произошло нарушение кровообращения в мозгу с потерей сознания, после чего он и перевернулся. Наш ведущий невропатолог академик Е. В. Шмидт и нейрохирург академик А. Н. Коновалов полностью подтвердили этот диагноз, а затем он был уточнен и объективными методами исследования. К счастью, разорвался сосуд не в мозговой ткани, а в оболочках мозга, что облегчало участь Косыгина и делало более благоприятным прогноз заболевания.
Как бы там ни было, но самой судьбой был устранен еще один из возможных политических оппонентов Брежнева. Теперь ему уже некого было опасаться. Он и не скрывал своих планов поставить вместо Косыгина близкого ему Тихонова, с которым работал еще в Днепропетровске. Косыгин находился еще в больнице, когда 2 сентября 1976 года появился указ о назначении Тихонова первым заместителем Председателя Совета Министров СССР, и он начал руководить Советом Министров, хотя продолжал работать другой первый заместитель Председателя, к тому же член Политбюро, – К. Т. Мазуров.
Сильный организм Косыгина, проводившееся лечение, в том числе разработанный комплекс восстановительной терапии, позволили ему довольно быстро не только выйти из тяжелого состояния, но и приступить к работе. Но это был уже не тот Косыгин, смело принимавший решения, Косыгин – борец, отстаивающий до конца свою точку зрения, четко ориентирующийся в развитии событий. После ухода в 1978 году на пенсию К. Т. Мазурова остался лишь один первый заместитель Председателя Совета Министров – Тихонов, который активно забирал власть в свои руки, пользуясь прямыми связями с Брежневым. Это был человек Брежнева, преданный ему до конца. Но и по масштабам знаний, и по организаторским возможностям ему было далеко до Косыгина. Экономика страны потеряла своего талантливого руководителя.
В этот период на политическую арену активно выходит Черненко. Для многих в стране, да и в окружении Брежнева, его быстрый взлет на самые первые позиции в руководстве партии был неожиданностью. Однако, если исходить из нарастающей недееспособности Брежнева, которому в связи с этим требовался честный, преданный и ответственный человек, в определенной степени второе «я», то лучшей фигуры, чем Черненко, трудно было себе представить. Его пытаются изобразить простым канцеляристом, оформлявшим документы. Это глубокое заблуждение. Да, он не был эрудитом, не имел он и своих идей или конструктивных программ. Ему было далеко не только до Андропова или Косыгина, но даже до догматика Суслова. Но вряд ли кто-нибудь лучше, чем он, мог обобщить коллективное мнение членов Политбюро, найти общий язык в решении вопроса с людьми прямо противоположных взглядов – Андроповым и Сусловым, Устиновым и Косыгиным. Но самое главное, благодаря чему он всплыл на поверхность, было то, что никто лучше него не понимал, чего хочет Брежнев, и никто лучше Черненко не мог выполнить его пожелания или приказания.
Надо сказать, что делал это Черненко подчеркнуто ответственно; любой, даже самый мелкий вопрос окружал ореолом большой государственной значимости. Вспоминаю, как он гордился, составив с группой консультантов небольшое заключительное выступление Брежнева на XXV съезде, где, кроме нескольких общих фраз, ничего не было.
Очень часто у нас пытаются связать восхождение к власти с интересами и поддержкой определенных политических групп. Если это можно сказать о Брежневе, то восхождение к руководству и Андропова, и в большей степени Черненко определялось сложившейся ситуацией. Но если приход Андропова к руководству означал новый курс, новые веяния, новые подходы, то мягкий, нерешительный, далекий от понимания путей развития страны и общества Черненко вряд ли мог что-нибудь принести народу. Справедливости ради надо сказать, что при всем при том он был добрый человек, готовый по возможности помочь, если это не шло вразрез с его интересами и интересами Брежнева.
В ноябре 1978 года Черненко становится членом Политбюро. Брежнев, конечно, с подачи Андропова, продолжал укреплять свои позиции. Еще ранее министром обороны назначается его ближайший друг Устинов, который вскоре тоже вошел в состав Политбюро. Наконец, в ноябре 1979 года членом Политбюро избирается Тихонов. Теперь Брежнев мог жить спокойно, не опасаясь за свое положение в партии и государстве.
Складывающаяся ситуация, как это ни парадоксально, способствовала прогрессированию болезни Брежнева. Уверовав в свою непогрешимость и незаменимость, окруженный толпой подхалимов, увидев, что дела идут и без его прямого вмешательства, и не встречая не только сопротивления, но и видимости критики, он переложил на плечи своих помощников по Политбюро ведение дел, полностью отмахнулся от наших рекомендаций и стал жить своей странной жизнью. Жизнью, которая складывалась из 10–12 часов сна, редких приемов делегаций, коротких, по 2 часа, заседаний Политбюро один раз в неделю, поездок на любимый хоккей, присутствия на официальных заседаниях. Я не помню, чтобы я застал его за чтением книги или какого-нибудь «толстого» журнала. Из прошлого режима он сохранил лишь привычку по утрам плавать в бассейне да выезжать в Завидово на охоту.
Вновь, как и раньше, при малейшем психоэмоциональном напряжении, а иногда и без него, он начинал употреблять успокаивающие средства, которые доставал из разных источников. Они способствовали прогрессированию процессов старения, изменениям центральной нервной системы, ограничению его активности. Понимая, что Брежнев уже недееспособен, во время одной из наших встреч я сказал Андропову, что вынужден информировать Политбюро о его состоянии, ибо не могу взять на себя ответственность за будущее Брежнева и партии. К удивлению, в отличие от прошлого, Андропов со мной согласился, попросив только «не сгущать краски». Видимо, настолько изменилась политическая ситуация и обстановка в Политбюро, что Андропов уже не боялся за положение Брежнева, а значит, и за свое будущее.
Трудно вспомнить сегодня, сколько официальных информации о состоянии здоровья Брежнева мы направили в Политбюро за последние 6–7 лет его жизни. Возможно, они еще хранятся в каких-то архивах. Однако спокойствие Андропова было обоснованным – ни по одному письму не было не то что ответной реакции, но никто из членов Политбюро не проявил даже минимального интереса к этим сведениям. Скрывать немощь Генерального секретаря стало уже невозможным. Но все делали «хорошую мину при плохой игре», делая вид, как будто бы ничего с Брежневым не происходит, что он полон сил и активно работает.
Взять хотя бы случай, который Э. Герек описал в своих «Воспоминаниях», – выступление Брежнева в октябре 1979 года на праздновании 30-летия ГДР. Он памятен для меня по целому ряду обстоятельств. В начале октября, когда Брежнев должен был выехать в ГДР во главе делегации, проходил Всесоюзный съезд кардиологов, на котором предполагалось избрать меня председателем правления (президентом) этого общества. Мы заранее договорились с Брежневым, что, в связи с моим участием в работе съезда, я не поеду в Берлин. Однако за три дня до отъезда он впал в состояние такой астении, что почти не вставал с постели, и сама поездка стала проблематичной. Нам стоило больших трудов активизировать его. Андропов, учитывая сложившуюся ситуацию, попросил меня оставить съезд, на котором я уже председательствовал, и выехать в Берлин.
Первое испытание для нас выпало в первый же день, когда Брежнев должен был выступить с докладом на утреннем заседании, посвященном 30-летию ГДР. Для того чтобы успокоиться и уснуть, он вечером, накануне выступления, не оценив своей астении, принял какое-то снотворное, которое предложил ему кто-то из услужливых друзей. Оно оказалось для него настолько сильным, что, проснувшись утром, он не мог встать. Когда я пришел к нему, он, испуганный, сказал только одно: «Евгений, я не могу ходить, ноги не двигаются». До его доклада оставался всего час. Мы делали все, чтобы восстановить его активность, но эффекта не было. Кавалькада машин уже выстроилась у резиденции, где мы жили. Громыко и другие члены делегации вышли на улицу и нервничали, боясь опоздать на заседание. Мы же ничего не могли сделать – не помогали ни лекарственные стимуляторы, ни массаж.
Я предложил, чтобы делегация выехала на заседание и, если через 30 минут мы не появимся, принимала решение о дальнейших действиях. Нервное напряжение достигло апогея. Наконец вместе с охраной, которая переживала ситуацию не меньше нас, врачей, мы решили вывести Брежнева на улицу, в сад, и попытаться заставить его идти. Удивительные от природы силы были заложены в организме Брежнева. Из дома мы его в буквальном смысле вынесли, когда же его оставили одного и предложили ему идти, он пошел самостоятельно, сел в машину, и мы поехали на заседание.
Истинное состояние Брежнева на заседании знали только я и начальник охраны правительства Ю. В. Сторожев. Ответственный и честный человек, он не меньше меня переживал ту ситуацию, в которой мы оказались, и попросил немецких друзей проследить за Брежневым, когда он будет выходить на трибуну. Мы сидели вдали от него и ничем ему помочь не могли.
Герек описывает, как он вместе с немецкими товарищами помог Брежневу выйти на трибуну. Он пишет, что впоследствии ему через посла был выражен официальный протест в связи с его желанием помочь Брежневу подняться. Я бы выразил ему благодарность, потому что не уверен, смог ли бы вообще встать Брежнев со стула без посторонней помощи.
Конец ознакомительного фрагмента.
* * *
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Хоровод смертей. Брежнев, Андропов, Черненко… (Е. И. Чазов, 2014) предоставлен нашим книжным партнёром -
Всем известно, что единственным главой Советского Союза, воевавшим на фронте в Великую Отечественную, был Л.И. Брежнев. Н. Хрущеву, Ю. Андропову и К. Черненко возраст также позволял идти защищать свою Родину с оружием в руках - но их ждала другая судьба. Давайте посмотрим, чем занимались главы советского государства вместо того, чтобы сражаться вместе с всем советским народом.
Хрущев
В 1941 году Никите Сергеевичу Хрущеву исполнилось 47 лет. В тот период он был членом ЦК КПСС и первым секретарем ЦК КП Украины, то есть фактически руководителем этой союзной республики. В те времена он был известен как очень преданный И. Сталину коммунист, который послушно воплощал в жизнь репрессивную политику. Когда началась война, он стал военным комиссаром пяти фронтов южного, юго-западного и западного направлений. Проще говоря, он был штабным офицером высшего ранга. То есть в войне он участвовал, но как командующий, а не боец. Отметим, что боевой опыт у Хрущева уже был - во время Гражданской войны он возглавлял отряд Красной гвардии, а потом был инструктором армейского политотдела.
Однако, судя по всему, такого опыта было явно недостаточно. Деятельность его в должности военного комиссара оценивается, скорее, негативно. К двум большим поражениям Советской армии - окружению советских войск под Киевом в 1941 году и неудачным боям под Харьковом в 1942 году - он имел прямое отношение.
Роль Хрущева в киевской трагедии противоречива. Многие обвиняют именно его в том, что советские войска, которым не поступил приказ отступать, были окружены. Однако это не так. Хрущев такой приказ как раз отдал, причем не посоветовавшись со Сталиным. Но из-за того, что решение не было согласовано со ставкой, оно не вступило в силу и не дошло до войск.
В 1942 году Советская армия потерпела поражение под Харьковом, и немцы продвинули линию фронта к Кавказу. Наши соединения получили приказ сопротивляться до конца, хотя было очевидно, что из-за дефицита ресурсов город удержать не удастся. В итоге мы понесли большие потери, немцы же смогли занять позиции, которые были более выгодными, чем те, которые бы им достались, если бы защитники Харькова отступили. Здесь тоже имела место ошибка советского командования, которую часто приписывают Хрущеву. Однако ее совершил не он лично, а коллективный военный совет.
Андропов
Юрию Владимировичу Андропову, возглавлявшему СССР с 1982-го по 1984 год, в 1941 году было 27 лет. В это время он, комсомольский активист, налаживал работу Комсомола на территориях новообразованной Карело-Финской АССР. О его военном периоде официальные биографии Андропова сообщают кратко: в начале войны организовывал партизанское подполье, с 1942-го по 1944 год под позывным Могикан занимался формированием комсомольского подполья на территории Карелии, оккупированной немцами и финнами. В книге Ю. Шлейкина "Андропов. Карелия. 1940-1951 гг." приводятся документальные свидетельства партизанской деятельности Андропова. Вот, например, фрагмент воспоминаний партизанки Сильвы Удальцовой:
"В июле 1943 года вместе с группой товарищей меня вызвали в ЦК Компартии КФССР и поставили перед нами задачу: проникнуть на территорию оккупированного Шелтозерского района, создать подпольные партийную и комсомольскую организации, установить прочные связи с местным населением, среди которого развернуть политическую работу, направленную на срыв мероприятий, проводимых оккупационными властями, сообщать необходимые разведывательные данные Центру.
… До нас в Шелтозере побывали связные ЦК партии республики Анна Лисицына и Мария Мелентьева, удостоенные впоследствии за мужество и отвагу звания Героя Советского Союза. В Шелтозеро был направлен и работал И.И. Зиновьев и ряд других товарищей. Однако наладить постоянную работу подполья на длительный период не удавалось. В нашу группу входили: Д.М. Горбачев – секретарь подпольного райкома партии, П.И. Удальцов – секретарь подпольного райкома Комсомола, М. Ф. Асанов – связной и я – радистка группы. Когда меня назначили радисткой, мне только-только исполнилось 19 лет.
Нас провожал Ю.В. Андропов, секретарь ЦК Комсомола нашей республики. Летели в тыл на четырех самолетах У-2. Юрий Владимирович подходил к каждой группе, стоявшей у самолета, и говорил еще раз напутственные слова".
Черненко
Константин Устинович, "самый странный правитель России", стал Генсеком в 1984 году, будучи дряхлым и больным стариком.
Черненко родился в сибирской семье, рос крепким парнем. Его мать была тофаларкой, а отец - украинцем. С молодости Константин был приучен к тяжелому труду, работал на приисках. В 1930-х его призвали в армию, где он вступил в Комсомол, решив стать активистом. В 1941 году ему исполнилось 30 лет. К этому времени он тоже был уже состоявшимся партийным деятелем - заведующим отделом агитации и пропаганды двух райкомов ВКП (б) в Красноярском крае. В 1943 году его отправили на партийные курсы в Москву, которые он закончил в 1945-м. Стоит отметить, что сама по себе его тогдашняя должность была низкой и не освобождала его от воинской обязанности. Судя по всему, не попасть на фронт крепкому молодому человеку помогла его сестра, которая работала заведующей орготдела Красноярского горкома и состояла в хороших отношениях с Аверкием Аристовым, возглавлявшим Красноярский край.